Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
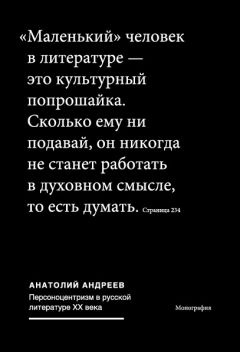
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
2. «Громадная воздушность» Михаила Булгакова
1
«Мастер и Маргарита», феноменальный роман Михаила Булгакова, страшно далек от понимания сегодня, да и вряд ли он будет понят и оценен в должной мере завтра.
Запредельно, ошеломляюще гениальный «Евгений Онегин» остается загадкой уже почти в течение двухсот лет. Никто ничего не понимает в этом мудреном «тексте», и даже непонятно, где, в какой стороне искать понимание.
Однако на этом сходство двух романов и заканчивается. Нет, пожалуй, добавим сюда еще легкость, воздушность моцартиански исполненных романов. А дальше начинаются роковые различия. «Мастер и Маргарита» не понят потому, что там и понимать нечего, хотя при этом кажется, что смысл вот-вот структурируется во что-то библейски величественное и грандиозное, как в «Евгении Онегине».
«Евгений Онегин» не понят потому, что в нем вот это самое библейски грандиозное реально присутствует, однако обманчивая легкость отвлекает, усыпляет бдительность, и начинает казаться, что смысл рассыпается, развеивается и исчезает, как в «Мастере и Маргарите»…
В одном случае «эфемерность» и легковесность не помеха выверенности и отчетливости, а, напротив, союзник, оборотная сторона; в другом же – помеха. Да что там говорить: сам факт подобной поляризации романов непонятен настолько, что окончательно запутывает проблему (если она есть, хочется добавить, трижды плюнув через левое плечо). Тут уже сама сложность проблемы подталкивает к простому решению. Только вот цена простоте бывает разная: от гениальной, опять же, до примитивной. Простота сама по себе еще ничего не решает.
Очевидно, к произведениям подобного масштаба нельзя подходить со своим мнением, как правило, еще и «горячо выстраданным» (этот «святой» в своей простоте философский жест – «я так думаю!» – превращается в маленькую сухую веточку, подброшенную в жаркий костер непонимания); к ним надо подходить с методологически грамотных позиций. Простоту ищи в методологии. Если все заблуждаются, следовательно, они не нашли верной методологии.
В литературе никогда не было, нет и не будет до тех пор, пока будет существовать литература, ничего личного, поэтому мера понимания литературы – безличный закон (мать которому – методология).
2
Настораживало ли вас, уважаемый читатель, что М.А. Булгаков был медиком по образованию?
Иными словами, он нигде не учился литературе как технологии, как священному ремеслу. Да и ремесло ли это? – вот в чем вопрос.
Как же он научился тому, чему нигде не учился? (Кстати сказать, не только он, но и все иные выдающиеся представители литературы.)
А, собственно, что он умеет?
Давайте вчитаемся в первую фразу романа, которая следует сразу за издевательским в своей заурядной императивности названием первой главы: «Никогда не разговаривайте с неизвестными» (так умудренные глупым опытом бабули грозят скрюченным пальцем своим нерадивым внукам). Да, не следует упускать из виду: чуть выше названия главы – знаменитый эпиграф из «Фауста» Гете. Итак, первая фраза:
«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина».
Сравним с началом «Преступления и наказания» (момент появления Раскольникова): «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из свое каморки, которую нанимал от жильцов в С – м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К – ну мосту».
Булгаков не просто приглашает читателя посетить «небывало жаркий» ад в чрезвычайно удобное время, но создает для этого до предела уплотненный культурный контекст. С одной стороны – Иоганн Гете, представляющий европейскую традицию поиска истины с помощью ума-разума; с другой – Федор Достоевский с его культом иррационального постижения сакрального. И фраза, казалось бы, достаточно простая фраза, хотя и мастерски отделанная, гулко отзывается в культурных лабиринтах и не затихает приглушенным раскатистым эхом на протяжении всего романа. Упругий ритм, банальное, но неизменно выигрышное «однажды» (кстати, так начинается «Пиковая дама», которая имеет непосредственное отношение и к великой теме всевластия денег, и к «Преступлению и наказанию», и к великому функциональному водоразделу «психика – сознание»), явно ощутимая многослойная ирония, пока, правда, непонятно к чему относящаяся, – все свидетельствует: мы имеем дело со стилем. Еще ничего неясно, но стиль уже присутствует. А когда мы начинаем осознавать, что мы очарованы еще и «колдовской», потусторонней темой, степень виртуозности автора представляется запредельной.
И читатель падает ниц пред мастерством писателя, который умеет все, ничему «такому» не учась. Мы преклоняемся перед феноменом художественного дара. Можно сказать, «мы раскрыли первую страницу романа», а можно сказать «нас мгновенно поглотил океан смыслов», «накрыло семантическое цунами», вроде бы, не «филологического романа», устроенного, однако же, весьма и весьма «филологически». Вот что умеет Булгаков (по первому впечатлению): он умеет творить чудеса.
Завораживает потрясающая легкость в оперировании наисложнейшими смыслами, что само по себе является культурной заявкой: уж я-то непременно распутаю все навороченные человечеством мировоззренческие клубки. Писатель (мессир, Мессир Афанасьевич!) словно говорит (хотя за язык его не поймаешь): я знаю секрет, я знаю простой рецепт решения всех ваших неразрешимых проблем. Эффект завороженности смыслом создается небывалый. Возникшее ощущение, что ты имеешь дело с чем-то сверхъестественным (ощущение, которое взвинчивается до предельных степеней и самой проблематикой романа), лишает покоя. Вот она, аура гениального. Читатель превращается в сбитого с толку посетителя дурацкого варьете.
Далее смыслы то приращиваются, то убывают, однако в начале сообщенный им «глобальный» градус уже не снижается. Роман – обо всем. Литература по существу своему имеет дело со смыслами, тяготеющими к дурной бесконечности. Роман – это всегда попытка укротить эту дурную бесконечность, что возможно сделать только одним способом (вот он, закон!): сознанием, инструментом которого выступают концепции. Бесконечность в рамках концепции (все – в одном!) – вот великая формула великой литературы. Весь мир – в одном романе: так легко и беспечно покоряется вселенная. Роман воспринимается как «воздушная громада». Мы не верим в натужность и пошлый труд до седьмого пота; великое должно быть легким, а легкое и создается божественно легко, без унизительной натуги. Трудиться мы и сами умеем, завоевывая ступени мастерства; тут уже не в мастерстве дело, а в чем-то таком, что никаким мастерством не достигнешь. Воздушная громада: не человеческих рук дело!
«Громадная воздушность» – это когда кажется, что весь мир в одном романе, а на самом деле это грандиозный обман. Мне уже приходилось прибегать к этой коварной формуле, которая в любой момент может обратиться в свою противоположность, сравнивая творчество Л. Толстого с творчеством Пушкина («воздушная громада» – это слова А. Ахматовой, справедливо сказанные в адрес «Евгения Онегина»). «Война и мир» по отношению к концептуально выверенному «Евгению Онегину» выступает как «громадная воздушность»; однако по отношению к «Мастеру и Маргарите» «Война и мир» являет собой подлинную «воздушную громаду», а «Мастер и Маргарита» чудным образом превращается в подлинную «громадную воздушность».
И тут уже дело не в Булгакове, а в том, что он гениально угадал закон, в котором сам, конечно же, ничего не понимал (Цветаева: «певцом – во сне – открыты закон звезды и формула цветка»). Я думаю, что это универсальный закон творчества, воздушный настолько, что его как бы нет: литература – это стихия бессознательного, которая – на удивление себе! – регулируется средствами и технологией разума. В результате получается – разумная неразумность. Сознательная бессознательность. Закон звезды. Формула цветка. Воздушная громадность. Неподъемная легкость. Дьявольская божественность, если хотите.
Как угодно. Главное и решающее: и то, и другое – подлинно. Подлинное совмещение двух подлинных стихий, о которых доподлинно известно, что они несовместимы. Нельзя научиться их совмещать, а Булгаков, учившийся на медицинском, это умеет.
Даже еще сложнее: литература – это феномен бессознательного (в целом), но по-разному бессознательного: в одном случае бессознательное преобладает, а в другом – только кажется, что оно преобладает.
Именно с этого момента начинается вакханалия непонимания, которая, разумеется, выдается за «всестороннее», «многоуровневое» постижение. «Евгений Онегин» и пал жертвой подобного «постижения». Едва ли не первый в мировой литературе (в контексте «психика – сознание: два языка культуры»).
3
Здесь уместно было бы вспомнить притчу о слепых, наощупь познакомившихся с громадным слоном, о котором бедняги были так наслышаны. Когда они стали выяснять, на что похож слон, произошло чудо непонимания, которое хочется назвать идиотизмом, замешанным на абсолютизации впечатлений. Одному слепому слон показался веревкой, ибо хобот он принял за слона как такового; другому – столбом, ибо на что же еще похожи ноги слона; третий решил, что слон напоминает огромный жбан (ведь брюхо действительно чем-то схоже с исполинским сосудом полусферической формы).
Вроде бы все были правы по-своему, а результат обескураживал: фактически каждый доказывал каждому, что его оппонент дурак. Нечто подобное происходит и с романом в стихах Пушкина. Если доверять своим ощущениям и на их основе составлять собственное мнение, вы непременно обнаружите грань, которая реально присутствует в романе, – и непременно окажетесь неправы, придавая этой грани черты универсальности. Феномен неразберихи гарантирован. Чем честнее и искреннее вы заблуждаетесь – тем более будет неразберихи.
В чем проблема? В том, что надо уметь видеть объект в целом: тогда только слон перестанет быть похожим на веревку. Прозреть – значит поменять методологию: перейти с языка ощущений (с бессознательного) на язык умозрительных концепций (язык сознания). А это, опять же, не столько вопрос квалификации, сколько одаренности.
С романом Булгакова происходит в точности то же, что произошло со слепыми, только с одной поправкой: слона не было. Отдельные характеристики и параметры целого, вроде бы, есть; а целого как такового – нет. Объект отсутствует, хотя отдельные признаки налицо. Поэтому все спорят о том, чего нет.
Понять Пушкина – значит уметь видеть объект в целом; понять Булгакова – значит понять, что целое просто не состоялось (а это возможно тогда, когда есть навыки видеть объект в целом). Понять Булгакова – значит понять и оценить Пушкина.
Поскольку посмотреть на литературу «в целом» дано немногим, литература становится яблоком раздора (хотя предназначена она, казалось бы, для благородных целей объединения). В литературе можно найти все (весь спектр чувств и умонастроений) – именно потому, что там есть только одно (целостное мировоззрение). Хорошая литература – это космос: как бы бесконечность, укрощенная бесконечность.
Вот он, закон звезды (шире – закон художественного космоса): бесконечность ощущений укрощается масштабами понимания. Психика (бессознательное) подвластна сознанию, хотя кажется, что наоборот.
Для человека литература остается тайной, загадкой – то есть тайной остается закон сочетания двух типов управления информацией, определяющий сущность литературы.
Вот почему гениальность Булгакова в том, что его хочется считать выше Пушкина и Толстого, которым он и в подметки не годится. Мессир, что вы хотите. (Между прочим, сказанное означает: писателей, подобных Булгакову, – по пальцам перечесть.)
«Евгений Онегин» – это умный роман, который кажется легкомысленным; «Мастер и Маргарита» – это легкомысленный роман, который хочется считать умным. Это не почти одно и то же; это почти полярности. И это почти невозможно объяснить (хотя понять можно).
Одним из формальных выражений «воздушности» является структура персонажа. У такого современного Булгакова – это архаический одномерный тип, не позволяющий воплотить личность; у Пушкина – характер, позволяющий в принципе ставить вопрос о многомерности, о «громадности» «человеческого измерения», что и составляет содержательность литературы.
Булгаков великолепно сымитировал самое главное: покушение на смысл. Это великий фокусник и маг, который (так всем кажется) умеет творить чудо.
Но чудо – это «Евгений Онегин», а «Мастер и Маргарита» – это фокус. Вот вам существо литературного фокуса: подменил характер – типом («громадность» – «воздушностью», смысл – его отсутствием), а никто этого даже не замечает. Я же говорю: мессир, пардон, Мессир. И роман о фокусах, а не о чуде.
4
Но разве не то же самое находим мы в произведениях Гомера? Или в «Слове о полку Игореве»? Или в «Мертвых душах» Гоголя? Или в опусах Набокова? Божественная легкость – налицо, дефицит смысла – также. Я очень и очень подозреваю, что «Илиада» писалась ровно столько, сколько она звучит или читается.
Этому не учатся; это и есть существо литературной одаренности. Это квинтэссенция литературной гениальности. «Как» передать (принципы изобразительности и выразительности) здесь ценится гораздо больше того, «что» передается. И это огромный пласт мировой литературы.
С другой стороны, содержательность («что») также является мерой таланта, поскольку непосредственно определяет способ передачи материала (стиль). И это также особый, уникальный, золотоносный пласт мировой литературы.
Но прежде всего литература – это стиль, великолепный стиль, заставляющий забывать, о чем, собственно, толкует писатель. Стиль и является «умом» литературы, ее родовой отметиной; точнее так: если произведение обладает измерением стиля, начинает казаться, что это умная, значительная в идейном отношении литература.
Вот они, две составляющие литературы и литературного процесса, образующие потрясающее в своей целостности и неуловимости качество – амбивалентность. Они всегда стремились к слиянию и отталкиванию одновременно. Их слияние приводило к реализму; крайний вариант размежевания – постмодернизм. Собственно литература начинается там, где есть стиль; гениальная литература – это совмещение «как» и «что». Все остальное просто не литература, псевдолитература (хотя агрессивно выдает себя именно за литературу).
«Громадная воздушность» – это не только литературный, но и культурный феномен. Булгаков явил нам достаточно редкий, если не уникальный, модус постмодернистского дискурса (тогда как Пушкин принципиально находится в поле реализма). Булгаков, как и постмодернизм вообще, – это хаос, который прикидывается космосом (реализм же – наоборот). В терминах литературных «громадная воздушность» – это когда постмодернизм прикидывается реализмом, становится трудноотличим от него, представляется этакой овцой в волчьей шкуре. Вот она, суть грандиозной культурной (и литературной) мистификации.
В конечном счете, постмодернизм и реализм представляют собой конфликт натуры (психики) и культуры (сознания) в специфическом модусе. Со стороны психики литература – это форма, красота, стиль, «воздушность»; со стороны сознания – концепция, философия, культура, «громадность». Подлинность взаимоотношений психики и сознания в том, что бессознательному все равно, право оно или же нет, а сознанию, в свою очередь, безразлично, нравится ли правота бессознательному. В результате получается либо «воздушная громада», либо «громадная воздушность».
Вот почему «громадная воздушность» – это, с одной стороны, громадный комплимент, с другой стороны – сомнительный, «воздушный», комплимент, с третьей – реальное признание реальных заслуг. В этой номинации быть игроком на культурном поле дано только гениям.
Святое чувство «Пе Пе Же»
(«Гранатовый браслет» А.И. Куприна)
Так уж получается, что любое художественное произведение не только выражает чувства, но и выражает конкретные чувства. Эта мудреная диалектика эстетического, определяющая его природу, сейчас не волнует нас сама по себе. Важно, что это так, это суждение краеугольное, почти закон. Вот и Куприн А.И. классически подтверждает классическое правило.
Еще один тривиальный, но твердый постулат в фундамент серьезного разговора о литературе: у всякого более или менее значительного художника есть произведения, которые служат его визитной карточкой. Они создают ему имидж, репутацию и миф, окружающий его имя.
Наконец, последнее из более-менее бесспорного и нам необходимого: к подобного рода «визиткам», мимо которых не пройдет никто, имеющий дело с творчеством талантливого и интересного русского писателя А.И. Куприна, можно отнести «Поединок» и «Гранатовый браслет». В них сконцентрированы типично купринские аура и харизма.
А теперь зададимся простым вопросом, ведущим отчего-то к сложным размышлениям: какое чувство воспевает знаменитый «Гранатовый браслет» (то, что именно воспевает, – сомнений нет)?
Ответ как бы известен: любовь воспевает.
Какую именно любовь, спросим мы, намекая, что это популярное чувство бывает разным, в зависимости от системы духовных координат любящего? Скажи мне, кого ты любишь и в каких формах выражается твоя любовь – и я скажу, кто ты.
Наш ответ таков: уж, конечно, не любовь «в чистом виде», любовь как таковая интересует Куприна, а тот тип отношения к миру, выражением которого является, в частности, любовь «телеграфиста» Желткова. Тип личности, который может быть носителем высших человеческих ценностей, прежде всего любви, – вот чем озабочен Куприн, когда он пишет «про это». В центре внимания писателя – не любовь, а Желтков, который способен так любить.
На первый взгляд, невозможно, а точнее, кощунственно возражать против «неземной» и «святой» трактовки чувства, чем и пользуются наставники в средней школе, насаждая романтизм душам незрелым как некий иммунитет против ожидаемого выпускников в жизни, в основном, «земного», приземленного и как минимум «несвятого». По умолчанию отрабатывается единая метода: отношения героев надо не анализировать, а воспевать вслед за Куприным. Учители, дорожа возрастом учеников, спешат заложить основы (посеять семена) идеального, горнего, доброго, вечного. Разумного, опять же, как представляется сеятелям, то бишь словесникам. Жизнь все равно возьмет свое, а пока пусть «племя младое» читает Куприна. Хуже не будет. Оно и читает в рамках программы, рекомендующей лучшее.
Если все же не согласиться с тем, что критический анализ отношений Желткова с княгиней Верой Шеиной, урожденной княжной Мирза-Булат-Тугановской, дочерью красавицы англичанки, должен быть обязательно кощунством и святотатством, то следует сразу же отметить, что странные мысли вызывает странное чувство г. Желткова. Кстати сказать, князь Василий Львович Шеин, муж той самой Веры Николаевны, счастливый соперник смешного «Пе Пе Же», был бесконечно тронут и взволнован безвременным уходом из жизни «этого человека», «какого-то безумца» и «таинственного обожателя» его жены. «Я не смею разбираться в его чувствах к тебе,» – сообщил он жене и зачем-то добавил: «Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим». Даже муж понял, что «разбираться» в чувствах такого рода – грешно. Что делать: наука (искусство анализа) давно стала делом если не грешным, то уж точно не богоугодным.
Итак, Желтков не скрывает: «Случилось так, что меня в жизни не интересует ничего: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас». Любопытный ряд выстроил Желтков: «наука» и «философия» как деятельность сугубо умственная должна была бы интересовать мужчину, а не всепоглощающее чувство. Но «случилось» иначе, случился парадокс. Желтков нарушил порядок мироздания, о котором смутно догадывался, и занялся не своим, не мужским делом. Он решил, что каждому свое и придал этой общей посылке свой смысл: кому познавать этот несчастный мир, а кому – «громадное счастье, любовь к Вам», к Вере Шеиной. Однако родовой признак мужчины – это именно «наука» и «философия», то есть познание и самопознание. Именно такое мироощущение и отношение к миру содержат в себе мужество и мужественность, а вовсе не любовь, начало женское, всепоглощающее. Не мужское это дело – попасть под власть чувства. Из-за любви теряют голову, но никак не начинают заниматься философией. Что правда, то правда. Каждому свое означает: мужчина должен оставаться мужчиной, что бы ни случилось. Он не должен превращаться в женщину. Между прочим, портрет Желткова как не сформировавшегося мужчины выписан весьма убедительно: «очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине».
Г. С. Желтков (отсюда таинственные инициалы Г.С.Ж.) в своем последнем письме вынужден описывать свои чувства, расщепляя, анализируя их, представляя в форме самопознания, как некий исследовательский отчет, итогом которого закономерно выступает умственное, философское вознесение любви и утверждение ее в качестве высшего проявления человека. И мужское призвание сохранено, и можно вместо философии заняться любовью. Занятная философия. Комплекс вины перед философией, перед любовью к мудрости, которую предал г. Желтков, заставляет «телеграфиста», то бишь чиновника контрольной палаты, говорить глупости: «я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто воплотилась вся красота земли…» Вера была «древнего рода», который «восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу». Вера, с ее «аристократической красотой», «была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна». О вкусах не спорят; пришла любовь – отворяй ворота. Но любовь – это любовь, а уж молитвенное служение «красоте земли» – нечто иное, уже не бессознательный, а духовно-идеологический, и даже философский акт. Под любовь вновь и вновь подводится философская база.
С другой стороны: «Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить». За что, интересно? Уж не за философский ли подвиг – вознесение любви выше философии? Бог отчего-то поощряет тех, кто унижает разум. Так или иначе «Божий дар» – вот отчего так вострепетал неглупый князь Шеин, не решаясь «разбираться» в том, что даровано свыше. Не нашего, дескать, ума дело.
Однако мсье Желтков лукавит. «От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единственной мыслью». Если даже допустить, что Желтков вознагражден был не маниакальной мыслью и не болезнью, то ненормальность и патология все равно налицо. И заключается эта патология в том, что мужчине навязан был женский тип мироощущения и женский способ самореализации. Идеальная любовь, конечно, может быть святой, но она не может быть нормальной. Раствориться в чувстве, замкнуться на нем как на «единственной радости» и «единственном утешении» – это религиозно-психологическая модель и реакция приспособления. Архетип такого типичного отношения – дефицит мужского начала. Это ложное слюнявое рыцарство человека, который боится любить по-настоящему, а потому выдумывает идеальную, святую, недосягаемую любовь, которая ни к чему хорошему не приведет, но избавит от реальных проблем. Ты не будешь мужчиной – но сохранишь лицо. Замещение реальности – епархия З. Фрейда, без которого в этой душещипательной истории разобраться невозможно. Мужчина завоевывает женщину именно тем, что он мужчина, уж коль скоро мы говорим о любви между разными полами. «Безнадежная и вежливая любовь» в течение семи лет – это нечто настолько культурно рафинированное, извлеченное из области культурных извращений, что жизнью и не пахнет.
В этом все дело: хочешь избежать любви – придумай себе высокое и недосягаемое. И заручись поддержкой Господа Бога, недолюбливающего плотское в человеке. Вовсе не случайно умный Шеин превращается в адвоката Желткова, небесного жениха своей жены, перед Николаем Николаевичем Мирза-Булат-Тугановским, холостым шурином, братом Веры и товарищем прокурора в одном лице: «И, правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, – чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя». Душераздирающие формулы типа «виноват в любви» и «управлять любовью» – беглый, но окончательный приговор циникам и неромантикам, а также психоаналитикам. А тут еще «громадная трагедия души», «паясничать» – и целая энциклопедия «жалких» слов. Какой же юный читатель устоит? Управлять таким чувством, как любовь, не надо и невозможно, однако можно и должно управлять собой и своими мыслями. Это простое соображение как-то не пришло в голову Шеина (фамилия персонажа, кстати, настораживает: князь не дотягивает до завершенного, полноценного человеческого облика; чего-то не хватает).
Однако главный адвокат святого чувства – комендант Аносов. Вот где россыпи формул, странным образом складывающихся в гимн двусмысленности. Повествователь хотел как лучше, в этом нет сомнения. Однако получилось то, что получилось. Генерал Аносов – это вам не жалкий Пе Пе Же. В нем совмещались «те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым». «Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре – легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, – это майор Аносов». Здесь повествователь, не избегнувший влияния логики Фрейда, попал в точку. Тут вам и гусарское прошлое, и славные боевые заслуги, и опыт обманутого мужа, от которого сбежала жена, и наблюдательность, и жизненная мудрость. И еще – особый склад романтической души, вечно настроенной на встречу с неземной любовью (в земной любви как-то подозрительно много грязи: жены то и дело обманывают мужей. Может быть, страх быть обманутым и рождает потребность в «святом» чувстве?) В контексте размышлений и воспоминаний бравого рыцаря-генерала и мужчины история Желткова выглядит просто недостающим звеном, замыкающем серию разрозненных эпизодов в поэму. И Желтков парадоксальным образом превращается в мужчину. Но нас интересует не то, что сказал повествователь – а то, что он попытался скрыть (возможно, и от самого себя). Ведь в конце концов, именно это интересует читателей.
Начать с того, что «именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины», невольно ассоциируется Аносовым, с одной стороны, с «кавалером де Грие» (той самой изощренной культурой), а с другой – с «ненормальным малым, маниаком». Аносов (то бишь повествователь) проговорился. И Грие и «маниак» настолько далеки от здравого смысла, что их вполне можно спутать. А если это и противоположности, то они благополучно сходятся и становятся трудноразличимы. Аносову, как мы помним, вторит князь Шеин, да и сам Желтков на всякий случай «проверял» себя на предмет маниакальности.
Восторженный генерал нагородил немало дельного; надо только понять его сумбурный, типично женский монолог, то есть аналитически отделить вредоносную романтическую чепуху от мыслей острых и объективных (мужчина в генерале нет-нет да и берет свое). Чем мы сейчас и займемся. Послушаем лирическую речь с обвинительным уклоном в сторону мужчин. Для женщины, «если она любит, любовь заключает весь смысл жизни – всю вселенную!» Что тут возразишь? Свести смысл жизни к любви способны только женщины (или юные мужчины; случайно ли Желтков, которому «было около тридцати, тридцати пяти», был отмечен «девичьим лицом» и «детским подбородком»?). Но чем знаменита женская логика? Тем, что из верной посылки следует сногсшибательное по своей «неверности» резюме. Из верной посылки, верной логики и не вызывающих сомнения фактов вам сотворят нечто такое, что не имеет отношения к здравому смыслу. Начнут за здравие, кончат за упокой и не заметят этого. Из того факта, что «женщина способна в любви на самый высокий героизм», как-то так получилось, что мужчины виноваты в том, что они неспособны «к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью». Словом, мужчины плохи тем, что они не женщины. Опять же возразить нечего. «А (…) разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества – поэты, романисты, музыканты, художники?»
Поэты и романисты, может, и тосковали (кстати сказать, именно потому, что их никак не отнесешь к лучшим умам человечества). Более того: лучшие души при лучших умах также тоскуют по лучшему, и это действительно украшает человека. Однако одно дело тосковать о том, чего нет и быть не может (а сердцу не прикажешь: ум с сердцем не в ладу), и совсем иное – обвинять мужчин в том, что они упорно не хотят становиться женщинами. Аносов формулирует, обращаясь к Вере: «– Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви – единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?
– О, конечно, конечно, дедушка…»
О чем мечтают женщины и художники – того хочет бог. И это нормально. Беда только в том, что для них «мечтать» и «думать» – одно и то же. Путать божий дар с яичницей – разве это нормально?
Мужики «целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью». Стало быть, мужики хуже женщин, реализм хуже романтизма, земное хуже небесного, идеальное и возвышенное предпочтительнее «пошлых форм» любви и «житейского удобства». Действительность плоха уж тем, что не дотягивает до мечты.
Все это в известном смысле так, но логика уж больно дикая и простоватая. Собственно, маниакальная. Аносов умудрился в лучших женских традициях спутать божий дар с яичницей. Зачем поощрять романтический экстремизм, зачем учить чувствовать то, чего в жизни не бывает, зачем так варварски противопоставлять «гнусное» умение отражать жизнь и «благородное» стремление спрятаться от жизни за красивой мечтой? Зачем прятаться от реальности и вычурно замещать ее? Страх жизни романтически переосмысливается (сублимируется, если хотите) в стремление к мечте. По слабости хочется от натуры укрыться в норах культуры. Зачем ум противопоставлять чувству, в конечном счете, человека – самому себе?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































