Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
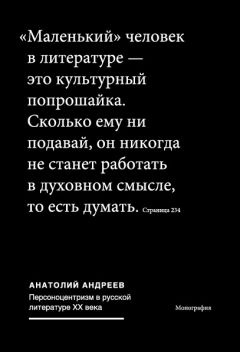
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Гейм-литература: в поисках идеального текста
Вопрос: Можно ли считать, что Михаил Шишкин, автор блистательного романа «Венерин волос», одного из самых впечатляющих современных проявлений гейм-литературы, совершил плагиат, когда он вставил в текст своего романа раскавыченные тексты иных авторов?
Ответ (Михаила Шишкина, цитируется по публикации Алексея Караковского «Паразитный текст и массовое книгоиздание», Вопросы литературы, 2011, № 3): Я хочу написать идеальный текст, текст текстов, который будет состоять из отрывков из всего написанного когда-либо. Из этих осколков должна быть составлена новая мозаика. И из старых слов получится принципиально новая книга, совсем о другом, потому что это мой выбор, моя картина моего мира, которого еще не было и потом никогда не будет <…>
Слова – материал. Глина. Важно то, что ты из глины слепишь, независимо от того, чем была эта глина раньше. Теперь о тоне дискуссии <…> Они никак не могут понять, что я пишу не их, а очень другую прозу. Я делаю литературу следующего измерения. Они судят о моих текстах, как о своих, как если бы судить о межгалактическом отношении по падению яблока.
Вопрос: так плагиат или нет?
Ответ: это не важно, ибо дело не в раскавыченных цитатах, которые, в принципе, можно рассматривать как аспект технологии «очень другой прозы», «литературы следующего измерения». Даже если закавычить цитаты, структура или, лучше сказать, природа идеального текста (гиперинтертекста) не изменится. Этическая сторона раскавычивания в данном случае – это, если угодно, вопрос буквы, а не духа литературы. Подлинную философско-этическую глубину следует искать в идеальном смысле идеального текста, адресованного идеальному читателю. Вопрос в информационной природе идеального текста.
Вопрос: на какого рода идеал сознательно или бессознательно ориентировался автор «Венериного волоса»? Или: что представляет собой «литература следующего измерения»?
А все просто: если точкой отсчета в создаваемой и лелеемой автором литературной «картине мира» по-прежнему оставить человека чувствующего и только в этой связи склонного к умозаключениям как оформлению переживаний (не мыслящую личность, рассматривающую чувства как материал для размышлений, что принципиально), то рано или поздно литература неизбежно будет превращаться в гейм-литературу, в литературу-игру – в «литературу следующего измерения». Это обусловлено своего рода информационным законом (к которому мы еще вернемся).
Все упирается именно в «новую мозаику». Здесь важно зафиксировать «верх – низ» картины мира (пусть и в форме вопроса, который подталкивает к ответу): мозаика управляет смыслом или смысл – мозаикой?
Если мозаика управляет смыслом, то смысл литературы каждого «следующего измерения», смысл обновления заключается во все «новой мозаике», новейшей, новее некуда, в чем же еще (это не вопрос, это утверждение). Но именно по такой технологии, по технологии обновления мозаики, делается вся древняя, вся старая литература, словом, литература предыдущего поколения. Абсолютизация чувств, ощущений, которые становятся материалом для миросозерцания, материалом для картины мира – это, если так можно так выразиться, ничего нового, это вечно вчерашняя новость, это литература, отмеченная усталостью содержания и потому неспособная к обновлению – только к имитации обновления, к новой мозаике. Но как из ста зайцев невозможно получить лошадь, так и тысячи новых мозаик не в состоянии породить новый смысл (стройную концептуальную систему). Сам принцип мозаики, привязанный к приспособлению как принципу освоения мира, пора списать в утиль: гносеологический, а следовательно, и художественный потенциал принципов более не соответствует уровню современного сознания, в том числе художественного. От литературы ждут большего. В противном случае к литературе перестают относиться серьезно (что уже, собственно, и происходит).
А если смысл управляет мозаикой, то причем здесь мозаика как все более и более совершенный идеал?
Если все упирается в смысл, то рано или поздно все упирается в идеальный (все более и более совершенный) смысл, а мозаика становится всего лишь следствием, но не самоцелью. Мозаика – это эстетический след объекта (скажем, литературы), движущегося в философском направлении. Категория «измерение», однозначно привязанная к чувству, перестает быть измерением; что же тогда делает измерение измерением?
Ответ: измерением, все новым и новым, и новым измерением упомянутая категория становится тогда, когда сопрягается со смыслом. Привяжите литературу к смыслу, точнее, обнажите эту неочевидную, но реальную связь – вот тогда вы проникните в новые измерения. По-новому увидите мир.
Новый смысл, и ничто другое, увы, – вот что создает новую мозаику.
Как это происходит?
Чувства (эмоции, ощущения – словом, все психогенные феномены) могут развиваться и обогащаться двумя путями, при помощи двух технологий, которые, по большому счету, объединяет единая информационная природа – внечувственное, абстрактно-логическое освоение действительности (здесь мы вступаем в область феноменов рациональных), которое противостоит субъективно-психологическому приспособлению и потому называется познание (в идеале научное по своему характеру).
Во-первых, обогащение чувственной сферы может происходить при помощи интеллекта, выступающего как инструмент изощренного психологического (да, да!) приспособления к миру (отсюда сколь бесконечные, столь же и ни на что, кроме самовыражения, не претендующие «картины мира»); во-вторых, чувства могут становиться умнее, глубже, тоньше, парадоксальнее с помощью разума, выступающего инструментом познания той же самой действительности.
Сами по себе чувства не могут становиться противоречивыми, благородными, содержательными; более содержательными их может сделать либо интеллект, либо интеллект, развившийся до степени разума.
Отсюда следует: чувства могут эволюционировать либо по линии развитого интеллекта (и эта линия ведет к психологической изощренности, которая так и не становится внятной мировоззренческой системой), либо по линии разумной личности (психология личности, в известном смысле идеального человека – это уже измерения, напластования, глубина). Иных путей эволюции чувственной сферы не существует, если согласиться с тем, что человек обладает телесно-психологическим (природным) и духовно-психологическим (культурным) измерениями. Есть ли иные измерения?
Ответ: откуда им взяться?
Тело, душа, дух – таковы три информационные сферы, способные комбинировать новые смыслы и мозаики. Телесно-душевное начало (психика) плюс начало душевно-рациональное (сознание) – таковы компоненты духовности. Интеллект в этом информационном пространстве – слуга двух господ: он обслуживает потребности психики и в то же время стремится в превращению в разум (высшую ступень сознания). Последний шаг от натуры к культуре – это шаг от психики к сознанию, от интеллекта к разуму, шаг, не улавливаемый локаторами психики, но совершенно реальный в информационном пространстве человека.
Разум в этой связи можно определить как особого рода интеллект, считающийся с логикой бессознательного, обогащающийся такой логикой и превращающийся благодаря ей в инструмент тотальной диалектики, в инструмент моделирования идеального смысла.
А чем, в таком случае, отличается личность от индивида?
Коротко можно ответить так: между ними – пропасть, располагающаяся в узеньком пространстве, отделяющем разум от интеллекта. Иной тип управления информацией – и возникает пропасть.
Язык личности – разум, язык индивида – чувства. Личность – субъект разумного типа управления информацией; индивид – объект бессознательного приложения бессознательно добытой информации (и интеллект многократно усиливает воздействие бессознательного).
Итак, интеллект и разум. Разница, на первый взгляд небольшая и несущественная, а на самом деле принципиальная, именно существенная.
Гносеологическим пределом интеллектуально-психологического приспособления, мимикрирующего под познание, выступает неизбежная абсолютизация некоего комплекса ощущений, так или иначе сводимого к базовым мироощущенческим архетипам, а именно: к любви, которая самоосуществляется через веру, инструментом реализации которой становится надежда. Вера, надежда, любовь: интеллект обслуживает ощущения, возникающие в сфере этих когнитивных эмоций. Это – предел; это край земли, которая держится на трех китах (по иной, более смелой, версии – на слонах); здесь буйным цветом, травой-муравой, цветет мифотворчество, здесь всякого рода притчи становятся недоказуемой мудростью, срамящей любую «философию», здесь мироощущение обладает статусом самоценной, автономной духовной ценности. Это царство художественного произвола: вижу не то, что есть, а то, что хочу видеть – и кто мне судья? здесь «моя правда», «моя картина мира и войны» ценится гораздо выше ничейной, никому не принадлежащей истины; здесь индивид презирает в себе личность.
Гносеологическим пределом разумно-психологического познания выступает иная духовная категория, связанная, прежде всего, со смыслом, с философией постижения мира – истина. Чувства, связанные с истиной, остаются теми же верой, надеждой, любовью, однако духовность личности строится уже на ином фундаменте. Художественной проекцией ментальности личности становится чрезвычайно противоречивый процесс трансформации мироощущения в формат мировоззрения. Литературу как самый смыслонасыщенный вид искусства интересует, по сути, только одно: процесс превращения человека (индивида) в личность. Способом такого превращения выступает мышление. Литературу интересуют все же смыслы, которые наивно вуалируются под мозаику.
Вывод (в каком-то смысле ответ ответов): Литература индивидоцентрической ориентации, обслуживающая приспособительные потребности человека, на пике своего развития становится «очень другой прозой», гейм-литературой (что одновременно является симптомом деградации литературы), ибо иррациональные коды «вера, надежда, любовь», по щучьему велению и авторскому хотению выдаваемые за высшие культурные ценности, языком новой мозаики шифруются семью замками, то бишь, измерениями; игра усложняется в соответствии с логикой развития интеллекта, слабо связанного с духовными потребностями личности; ничего нового не возникает, просто актуализируется старое.
Литература персоноцентрической ориентации, обслуживающая познавательные потребности личности, неизбежно будет превращаться в философскую литературу, культурную альтернативу псевдокультурной гейм-литературе; такая литература с философским привоем служит обоснованию высших культурных ценностей – истине, добру, красоте. Обратим внимание: разрозненные смысловые импульсы преобразуются в истину (параметрика которой – системность, целостность, тотальная диалектика); человек – в личность; мораль – в этику (добро, на языке метафоры); мозаика – в красоту. Вот где уместно говорить о «материале», «глине»; по форме литература осталась такой же, самотождественной; по сути же она обретает то самое искомое «следующее измерение»; проза действительно становится «очень другой прозой». Мэйнстрим того, что сегодня робко пытаются обозначить как постреализм, обретает культурную плоть в виде персоноцентрического реализма.
Вопрос: Только вот кому это объяснишь?
Ответ: Не дает ответа.
Для иллюстрации тезиса-вывода – креативного, с позиции личности, и абсурдного, с позиции надменного свободного художника (мифотворца, раба бессознательного, при ближайшем рассмотрении), – обратимся к роману Михаила Шишкина «Венерин волос».
Мы не лукавили, когда назвали роман блистательным. Его дискурс многопланов и разнообразен. И имя ему – мозаика. И нечего медлить. Приступим. Скоро будет светать. Архитектор неба берется за ножницы, сейчас возьмет и вырежет из него все лишнее: колоннаду Святого Петра, мост с ангелами. И он тоже путаник – вырезает ангелов, а получаются севастопольские офицеры, они хотят всплыть и, привязанные, рвутся ввысь, и обрывки рубахи поднялись, как крылья. Может, это он, Бернини, все на свете и перепутал! Ему заказали изваять из мрамора одну старуху, которая сама не зачала и другим не давала, а перед смертью прошамкала: вот и пришел долгожданный час, мой господин! Вот и пришло время нам увидеть друг друга, жених мой, смерть моя! А у путаника получилась молодая невеста. И жених ее – венерин волос. Светает. На Испанской лестнице груды вчерашнего мусора. Со стороны Монте Пинчио кто-то кричит: Элои! Элои! Ламма савахфани? Черный ангел замер на углу пьяцца дель Пополо, развернув крылья из сумок. По Корсо бежит, расталкивая первых утренних прохожих, Гальпетра, та, туалетная – усатая, голая, размахивает пудовыми, шлепающими грудями, у нее в животе горошинка. Торопится, хочет догнать того, кто бежит впереди трусцой в королевство короля Матиуша, зовет: Подождите, возьмите меня с собой бежать за всех, побежим вместе! А в конце улицы одинокий экскурсовод высоко поднял свернутый зонтик с привязанной косынкой цвета зари, мол, не потеряйтесь, идите за мной, я покажу вам в этом мимолетном городе самое важное! Это египетский обелиск с привязанным к нему розовым облаком зовет: Где вы? Идите за мной! Я покажу вам травку-муравку! (Цитируется по изданию: Михаил Шишкин. Венерин волос. – М., АСТ, 2010.)
Впрочем, это концовка романа. Которая вполне могла быть началом. (Мы априори соглашаемся с тем, что это роман не потому, что это действительно роман, а потому, что жанровая маркировка весьма условна; неважно, роман это или не роман, причудливый монолог, сплошь состоящий из диалогических сцепок, вполне можно назвать романом, потому что он – обо всем.) Разве понятие композиции (то есть порядка) применимо к жизни, шару, звездам, дождю, любви – к тому, что воспринимается чувствами, к стихии?
Чтобы понять, что Бог есть любовь, не иначе, – а именно таков, якобы, фундаментальный посыл романа (Вдруг подумала: что я на самом деле делаю на сцене? Я люблю. Люблю тех, кто пришел, добиваюсь их любви. У меня любовь с целым залом, с сотнями мужчин и женщин. Я умею сделать их счастливыми на один вечер. А потом возвращаюсь домой одна и ложусь в эту ледяную постель) – необязательно уяснять, как исполняются песни песней и рассыпаются бисером притчи притчей. Уяснишь – и что? Там любовь, и больше ничего. Но это с одной стороны. А с другой – и не надо отвлекаться на смысл, он и так ясен; все внимание – на мозаику.
Ночью душный теплый ветер сгибает струи фонтана. Что этот кусок воздуха трогал в Африке? Ищи в себе свищи. Комар человеконенавистен. Тут как тут. Было времечко, ела кума семечко. Там холмы, дым лохмат, невидим и дивен. В горном ущелье тропа завалена яблоками, они не гниют. Хотелось жить с локоток, а вышло с ноготок. А к ночи ж умер, о горе, мужичонка. Умирать – не лапти ковырять: лег под образа, да выпучил глаза. И нет тени. И ледены недели. И волнами луну, лиман, лови. Взошел месяц, читатель ждет уже сравнения с обрезком ногтя – на, вот, лови его скорей. Косо сидел у леди сосок. И с репу перси. Узор плел прозу. Молодка, что лодка. Дай денег в долг, а порукой будет волк. Пошел козел по лыки, коза по орехи. К капусте пристанешь, капустой и станешь. Мужик напьется, с барином дерется, проспится – свиньи боится. В полузатопленной лодке плывут облака. Волны скоблят подгнивший борт. В осоке валяется волк, брюхо вздуто, мухи облепили веки и пасть, под хвостом черви. Коза, не переставая жевать, смотрит в глаза. Харон отламывает от кочана хрусткие снежно-белые листы и грызет желтыми зубами. Закатное небо настояно на рябине.
Роман напоминает утробное бормотание, блаженное урчание (у семейства кошачьих это получается особенно трогательно). Курлыканье. Мурлыканье. У мурлыканья ведь ни начала, ни конца. Оно начинается с любого места и заканчивается – а нигде не заканчивается, так, условно прерывается. Звуки романа рождаются где-то там, внизу, в подбрюшье души, не в голове. Тр-равка-мур-равка, гор-рошина, венер-рин волос-с. Это безумно женская проза. В идеале автор подобной прозы и должен быть мужчиной, пишущим о женском. А почему бы не просто женщиной?
Не скажите. Обнаруживать женское в мужчине, в жизни – это традиционно мужское занятие, которое на языке культуры называется идеологическим актом. При желании можно объявить его актом сакрально-философским. И тогда проза становится интеллектуальной. Не меньше.
Фокус в том, что она и есть интеллектуальная. Не больше.
Вот, пожалуйста, с любого места, на выбор:
Все сущее – не тварь, но плоть: Он создал мир собой, своей плотью, напрягся именно в этом положении, как акробаты напрягаются в пирамиде, так Он держит нас – свою плоть – напряжением мышцы, поэтому раз на свете ничего не изменилось, значит, Бог существует. Прогулка с моими облаками, они никогда не повторятся, эти – мои. Вазе воды по щиколотку. В сказке девочка бежит от злых сил и все теряет, чтобы спасти братца, но именно бросив братца, она и спасется, от нее отстанут, – но тогда сказка не имеет никакого смысла, и несказка тоже, и не нужно этой девочке вообще жить на этой сказочной земле. Курил на балконе и смотрел, как она в комнате стряхивает с дивана ладонью крошки, выщипывает что-то, расправляет хрустящую на сгибах простыню. Странно представить, что в меня вселятся многоногие или вовсе безногие и безмозглые. Пасха в тумане – прохожие возвращаются ночью домой и держат перед собой свечки, как одуванчики. Наконец, привезли рояль – все столпились, но мама никому не позволила играть, потому что роялю необходимо отдохнуть с дороги. Следы через реку много раз таяли и снова замерзали, и оттого стали великаньими. Получила последнее письмо одновременно с похоронкой – в письме извинялся, что, может быть, бумага будет пахнуть рыбой: дорогая мамочка, мы едим руками, а моем руки в другой казарме – много раз потом засовывала нос в конверт, и каждый раз на мгновение казалось, что действительно там внутри сохранился запах.
И т. д., т. д., т. д. Волос долог… Можно остановиться на любом месте и с любого места продолжить – и что это доказывает?
А ничего роман не доказывает; он показывает, иллюстрирует, убеждает силой, мощью и неотвратимостью очевидного.
Что показывает и иллюстрирует? Что?
Тут мозаика даже не управляет смыслом, а плющом, виноват, венериным волосом, конечно же, обвивается вокруг него. Смысл условен. Задан, как тема для импровизации. Например, любовь. Чем не тема?
Собственно говоря, а что есть любовь?
А вот здесь мы в полной мере должны оценить лукавство чувственного восприятия мира: подразумевается, что все знают, что такое любовь, например. Все. Не надо ничего объяснить. Это лишнее. Просто пиши об этом – и все. К тебе потянутся люди. Получается, что автору-творцу удалось невозможное: создать элитный роман (технология мозаики по лекалам ноу-хау-вау патентуется на ваших глазах) для массового читателя (тема понятна даже дураку, упс). В мире культуры нет априорно заданных ценностей, поэтому духовная жизнь в мире том подразумевает труд мысли, которая обосновывает порядок вещей. Собственно, выстраивает, выстрадывает, если так можно сказать, порядок. При одном порядке, в одном контексте любовь будет означать Бог, например, при другом – уже другое что-нибудь.
Вопрос «что есть любовь?» имеет смысл, еще как имеет, но только в другом измерении; в одноплоскостном, но тщательно закамуфлированном травкой, измерении романа ответ на него очевиден, хотя, как водится, крайне невнятен. Верую, ибо абсурдно. Древнее не бывает. Этому типу мышления столько же лет, сколько трем китам вместе взятым.
Бессмысленно поэтому сводить фрагменты монолога-урчания к постулатам-каплям, из которых набирается река смысла. Река мало чем отличается от любой капли. Вот почему мозаика ценна здесь не тем, что сквозь нее постепенно проступает смысл, а тем, что она мозаика. Нечего сказать – говори красиво. От узора к узору. Глядишь, набирается букет.
Вот он и говорит. Он – это, конечно же, автор. Тристан, Дафнис, Ороч, Толмач, Бэллочка или кто там еще. Неважно. Человек. Вещающий от имени всего сущего. Homo sum. От сумы, от тюрьмы, от травы, от девушки, от старухи. От Автора. Открыл форточку – воздух уперся лбом в занавеску. Или: Звезды были огромные, угловатые, неровные, грубого помола. Или: По морю ходили буруны, а низкое небо было все в мутных разводах, будто по нему кто-то размазывал тучи пальцем. Или: Море чуть покачивалось, повешенное на горизонт, как на бельевую веревку. Или: Дождь посыпался редкий, серый, бесшумный, недолгий, набежной, а к вечеру распогодилось, разогнало тучи, и что ни лужа, то звездная цитата.
Так говорит Он. И несть числа перлам из уст. И возразить нечего. Аплодисменты, переходящие в овацию. Овация! Овация!
Секундочку, однако: какой человек говорит это: человек чувствующий (ЧЧ, говоря сегодняшним языком) или личность мыслящая (ЛМ)?
Если ЧЧ, то разве смысл становится критерием его совершенства?
Нет, не смысл. Смысловых линий в романе много (жизнь, смерть, любовь, воскрешение словом, опять любовь, бессмертие, вновь любовь, жизнь, слова, слова, слова), а смысла как единого целого – иерархического замысла, требующего воплощения – нет. И линии эти – волосы! – сплетаются в узоры-дискурсы, покрывая полый ствол романа (условный торжественно-вечный смысл) травкой-муравкой.
И это модель жизни, жизни как таковой, не осложненной мыслью. Ростки (Наташа Ростова, ау, чтобы не сказать мяу!), мыслящие тростники, теперь вот Травка-Муравка.
Ты так ничего и не понял. Вы все умники, семи пядей во лбу, делаете все сложным! Придумают Рим, а потом удивляются, что Рима нет, а валяются на Форуме какие-то обсосанные временем мослы, зарастающие травкой-муравкой. Придумают Тибр, и ждут невесть чего, а на самом деле это что-то мутное, тибриное, настоящее. Вот и нужно полюбить этот тибриный мир! Все просто.
Вот о чем это все? На первый взгляд, ни о чем, хотя мысль пульсирует, бедняжка. Но только на первый, бездумный. При ближайшем рассмотрении «ни о чем», которое стремится к кристаллизации смысла, – это ловушка для автора. Отринь смыслы, стань ЧЧ, то бишь, Наташей Ростовой, – и ты прав, многократно прав; но ведь нет же, мы настаиваем на том, что ЧЧ и есть ЛМ! Мы мошеннически (а лобик прямо-таки Богом зацелован) подменяем точку отсчета. А тут и ловушка. Роман стремится к опровержению основ. Китов. Котов. На которых он стоит. Лежит. Скажете – игра?
Не скажите. Идеально, с точки зрения игры, – это когда много игры, согласен. Чем больше – тем лучше. Хорошего много не бывает. (Дискурс автора затягивает, тысяча извинений. Может, я хочу направить против него его же оружие? Это не исключено; это, знаете ли, глубокая мысль.) Однако решающим условием игры является вынесение разумного отношения за скобки. А если Оно, это отношение, является структурным элементом романа? Вот, смотрите.
Снова появилось время разобраться в себе. Так устала за последние месяцы! Выступления, гастроли, переезды, встречи с нужными и ненужными людьми. Сказала себе: эти три недели до Киева проведу безвылазно на даче, буду ничего не делать, валяться в гамаке и смотреть в небо.
Вот лежу в гамаке и смотрю в небо, а мысли все на земле.
Последний год совершенно изменил мою жизнь.
После пяти лет молчания, травли дураками и хамами, ничего не понимающими в музыке, бессмысленного сидения дома, попыток вести жизнь жены – и только жены, после пяти лет вынужденного бездействия, когда казалось, что жизнь кончена, что пора сходить с ума – вдруг все вернулось на круги своя! Откуда-то я знала, чувствовала, что все будет хорошо, что нужно просто перетерпеть, вынести все унижения, сжав кулаки и зубы – и все будет хорошо.
Я снова на сцене. И знаю, что я – другая. И дело не в возрасте и бездарно упущенных годах. Лучших годах. Я стала мудрее. Наверно, нельзя так о себе говорить. Но я чувствую, что стала петь о том же, но по-другому и о другом.
Здесь есть мысль, не так ли, ЧЧ? И на фоне аналитического дискурса игра не то чтобы блекнет, она становится всего лишь игрой. Сверчком, стремящимся к своему шестку. Игра утрачивает экзистенциальную многозначность. Автор, чувствующий автор попадает в яму со столь любезными ему червями, которую сам же для себя, гм-гм, вырыл. А не рой яму для ЛМ.
Вот еще пример пульсации мысли – ради того, чтобы показать, что количество не переходит в качество. Количество мысли в качество мысли же, я имею в виду. В новое измерение. Шокирует, бьет по чувствам, но не переходит. Я должна была топить щенков, и ты мне стал помогать: в ведро мы налили воду, бросили щенков и другим ведром с водой поскорее накрыли, вдавили, так что вода плеснула через край, обмочив нам ноги. Я крепилась, но все равно потекли слезы. И ты сказал, чтобы утешить: “Ну что ты, не плачь! Все это можно будет потом куда-нибудь вставить, в какой-нибудь рассказ”.
Мысль глубокая? Да. Но она тонет в романе, как щенки в ведре с водой. Все тонет в воде, как известно. Мысль ведь тоже надо лелеять, выращивать, она не размножается вегетативным способом, как трава. Кому, кому лелеять? Автору, кому же еще. Если нет читателей, если вокруг одно ЧЧ, за все отвечает автор. Де факто он становится культурным героем. Или антикультурным. И хорошо, что нет думающих читателей: если они способны додумать мысль за автора, они роман читать не станут.
Утешение одно, зато вечное: не Толмач первый, и не он последний. Этот уникальный – из когорты, имя которой легион. Ну, может, не совсем легион. Но их, благословляющих пустоту во имя смысла, много. Гораздо больше тех, кто чтит культуру. Практически легион. ЧЧ к ЛМ: 1 000 000 к 1 (одному).
В этом и заключена философия романа, его запрятанное в жирную землю от подслеповатых очей всевидящего автора измерение. От ума – горе. Алилуйя! Оно старо, как мир, конечно, это измерение; зато аранжировка ультрасовременна, что на языке романа означает: главная новость сегодня – ничто не ново под луной. Солнцем. Звездами. Любовью. Мозаика – пальчики оближешь. Гурманы – где вы? Автор виртуозно пользуется словами, которые удивительно передают ощущения (но к словам не липнут смыслы, вот беда). Наслаждайтесь. Bis.
Но не торопитесь, а то успеете. Трава жизни содержит в себе яд культуры (credo, на языке ЧЧ): натура сильнее культуры; жизнь, словно трава, прет неудержимо и власть травы неодолима. Это уже тянет на умозаключение, не так ли. А все потому, что сама жизнь, трава, натура, литература тянутся к культуре, смыслу, логосу, философии. Роман, детище культуры, написанный во имя отрицания культуры, от имени ЧЧ – это больше, чем игра; более, чем комично; это трагикомично. Не думаю, ибо credo имею. Забавно. До слез.
Вот, полюбуйтесь. См. цитаты. Полюбовались? Трава-мурава – превращается в зловещий символ диктатуры натуры. Не находите?
С чего бы вдруг? А цвет зеленый, как платок у Сонечки Мармеладовой?
Зеленая трава – символ жизни, спору нет; но дурной волос, покрывающий все сорняк – это одновременно угроза жизни. Венерин волос искусно оплетает могилу с погребенными в ней пустотами человека. Это может выглядеть и красиво – в абстрактном измерении и в хорошем смысле. Но стоит ли столь бездумно дергать тигра за усы? Жизнию жизнь поправ: вот чем может обернуться допотопное торжество жизни. Такова травяная философия хищника: каждый, взявшийся за перо, уже хищник в душе, ибо является представителем диктатуры – диктатуры натуры или культуры.
Философия романа состоит из двух неравных частей; меньшая, миллионная часть ее, упрятана в досадные оговорки. Например: При раскопках в Помпеях были найдены пустоты людей. Красиво, но досадно. Если в говорении нет смысла, то в оговорках он присутствует. Но из оговорок не создашь роман. Оговорками его испортишь. А иначе нельзя: роман, говорю вам (вот он, комплекс ЛМ, попер дуриком, словно венерин волос, хе-хе-с) – детище культуры. Смысла. И бессмысленно лишать его смысла. Именем диктатуры культуры диктатура натуры объявляется устаревшим типом credo. Актуальным объявляется иное измерение.
И далее по тексту.
Сотрем улыбку, если это возможно. Ну, хоть на минуту (контекст философии это позволяет). Потому что мы подошли к самому главному. Все романные отдельно взятые мысли не имеют высокой культурной цены, ибо: смыслы, не выстроенные в иерархию, перестают быть смыслами, становятся формой бессмыслицы. Мысли в порядке, в полном, идеальном порядке – это не что иное, как абсолютная истина. Если ты за порядок, за относительный порядок – значит, ты стремишься к истине. Это императив культуры. За траву – это императив натуры.
Вот она, нелитературная разгадка фокусов литературы. Уж сколько раз твердили миру, что литература начинается с философии. Не с мозаики. Вроде бы Толмач и за любовь, но как-то так получается, что роман компрометирует это светлое, умное, культурное чувство, ведь оно для него что трава – не имеет культурной ценности. Так, оплетает пустоты, словно мозаика.
Вопрос: Так чем же хорош роман?
Ответ: Тем, что он рвется за грань невозможного, в те же дебри культуры, – в частности, наловчился передавать запахи души.
Он писал жене: “Бог смотрит на нас тем же глазом, которым мы смотрим на него. Дорогая, как много слов, обозначающих невидимое! Бог. Смерть. Любовь. И что делать, если нужно назвать то, что так близко, но для чего нет слов? Вернее, те, что есть – совсем ничего не объясняют, более того, больны, грязны, гадки. У нас так мало слов для состояния души и еще меньше для состояния тела! Как описать то, что у нас было? Описать так, чтобы передать хоть часть того настоящего, удивительного, прекрасного? Придумывать новые слова? Ставить точки или тире? Господи, тогда то, что мы целовали, будет состоять из одних пропусков! Прочитал, не помню где, что душа, как и тело, пахнет собой и своей пищей. Как это точно. Запах души. Это у души может быть грязный запах. А в любви ничего грязного быть не может – там ничего от нас, там только то, что вложил в нас Бог. И поэтому твой запах (всего, чего не могу написать словами) – божественный. И вкус. И каждый раз – немножко другой. Тело, как и душа, пахнет собой и своей пищей. Нужно придумать новую азбуку, чтобы называть неназываемое, чтобы не было стыдно целовать то, чему еще нет чистого прекрасного имени.
Вы думаете, это так просто – передать неуловимый запах души? Попробуйте. Попробуйте, я не шучу. Запах души улавливается рецепторами ума. Быстро поймете, что это под силу только гению. Гению нечистой красоты, я имею в виду. Тут гейм за Шишкиным. В роман мало вчитаться, в него надо вжиться. Собственно, вжиться и означает: вчитаться. Ощущать жизнь по цвету, запаху, звуку. Читать носом, ушами, глазами. Но только не умом: в романе мало пищи для ума. Смысловые линии, имитирующие траву, прикрывающую наготу пустоты, – суррогатная пища. Скудная философская диета не красит жизнь. Не румянит ланита.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































