Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
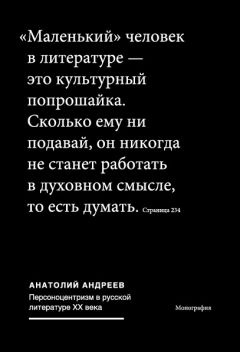
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Повторим: в Чудике не столько реально присутствует комплекс лишнего, сколько в нем можно разглядеть предпосылки к появлению подобного комплекса. Здесь важно не исказить «модель» произвольно и субъективно; в рассказе реально наличествует указанная многоплановость, что не позволяет отождествлять Василия Егорыча с бедноватыми в духовном плане, потому как одномерными, героями сусального реализма.
3
Может быть, еще большую и, несомненно, более определенную чудаковатость (чудиковатость?) обнаружим мы в герое рассказа «Мастер». «Жил-был в селе Чебровка некто Семка Рысь, забулдыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый – совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце… И тогда, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она – в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они – ровные от плеча до лапы, словно литые. Красивые руки. Топорик в них – игрушечный». Тут вам русская сказка, быль, антитеза, архетип и все, что хотите. «Семка», как водится, символ культурного крещения, а «Рысь» – это уж наше, кондовое, природно-вековечное, укореняющее Семку в иную почву. Тем не менее он лишний на свой лад – без всяких натяжек. «Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно – поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь – милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.
– Зачем же, Семка? – спрашивали.
– Затем, что так – хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так? И неделю хожу – вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас… Тьфу! (…)
– Ну, так, ладно, – рассуждал Семка, – я пью, вы – нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые…
– У тебя же золотые руки! Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.
– А я не хочу, как сыр в масле. Склизко».
Очевиден ряд антитез: «я» – «вы», тоска по смыслу – и примитивное потребительство, невостребованность «лошадиных сил» и стремление изо всех сил приспособиться, чтобы жить «как сыр в масле»… Главной смыслообразующей антитезой в рассказе выступает все то же противопоставление человека природного, с неиспорченной душой, полного сил – и бездушного каменного города, в лучшем случае имитирующего деревенскую простоту и непритязательность, что является уже формой снобизма. Так, например, в областном центре Семка одному писателю «оборудовал кабинет»: «кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному)».
Как же реализована эта главная антитеза?
Через отношение к Красоте, самому симпатичному и беззащитному компоненту (тезис спорный, однако по принятой в обществе версии – именно так) великой триады (два других, неразрывно связанных с третьим, – Истина и Добро). Bravo: очень тонкий и верный, «богатый» смыслами ход талантливейшего писателя В.М. Шукшина, также выходца из деревни. Семка как-то непосредственно узрел в небольшой заброшенной церковке красоту ради красоты. Его, непревзойденного мастера, так взволновала «светлая каменная сказка», сотворенная другим неведомым мастером, судя по всему, не корысти или самоутверждения ради – а по каким-то другим, более возвышенным мотивам («этого заботило что-то другое – красота, что ли?»), что решил Семка Рысь поддержать этот бескорыстный почин и порыв: отремонтировать церковь. Пусть и дальше стоит «белая, легкая среди тяжкой зелени тополей» (вот вам счастливый образец взаимодополняющего сочетания натуры и культуры) – и волнует, радует людей.
Дело стало за малым: необходимы были разрешение и поддержка церковных и светских властей – собственно, культурной среды. И Семка пустился по инстанциям, надеясь по темноте своей, что культурным и просвещенным людям не надо толковать о пользе красоты. Семка Рысь, очарованный тайной старинного мастера, на вопрос митрополита «как тебя надоумило храм ремонтировать» отвечает: «– Да как?.. Никак. Смотрю – красота какая! И никому не нужна!..»
Однако уважаемые и образованные люди из города начинают странным образом запутывать благородное дело, втягивая Семку в политику, в тонкости витиеватых и деликатных отношений между церковью и государством. В результате ни митрополит ему не помог, ни писатель. Областное начальство, ответственное за культуру, вежливо разъяснило, что ни исторической, ни архитектурной ценности церковь не представляет. Спокойно, с аргументами и фактами в руках, с письменными ответами специалистов из Москвы. «Семка чувствовал себя обескураженным.
– Но красота-то какая! – попытался он упорствовать».
До него уже стало доходить, что «красота» в этой жизни – не аргумент, даже красота «божественная», говорящая сама за себя.
И все вокруг относятся к этому спокойно. Только столяр-забулдыга сражался за красоту, напоминая все того же чудаковатого Дон-Кихота.
Вновь и вновь город с его «высоколобой» культурой традиционно проигрывает – на сей раз в сравнении с бескорыстным энтузиазмом Семки. Формально вроде бы «город» прав, и в то же время Семка, повествователь и читатели видят, что культурная задачка, предложенная мастером-самородком, городу не по зубам.
Важно то, что обречена не только красота, но и такие «чудики», как Семка, далекие от культуры, однако чуткие к красоте. Он замкнулся с тех пор – замкнулся и экзистенциальный круг: стихийно чуткая и отзывчивая душа не может толком объяснить, зачем необходимо присутствие в мире красоты; а те, кто великолепно разъясняют, – уже не могут «заболеть» красотой, они глухи к ней. Душевная глухота вновь соседствует с блеском интеллекта, и даже порождается последним: такие отношения психики и сознания выстроены в рассказе. Бессмысленная бескомпромиссность Семки – это форма протеста против поверхностной культуры «интеллигентных товарищей» – попов, писателей, чиновников (духовных пастырей общества, изображенных пусть и в неброском, но сатирическом ключе) – и одновременно стремление к той культуре, где от тебя не требуют объяснять ценность красоты. Семка чувствует себя выше «этой» городской культуры (он «почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты»»), но чувствует также, что не дотягивает до культуры настоящей. Он рвется к тому, чего нет в жизни, и не может опереться на то, что есть. Вновь оживают знакомые нам гримасы трагикомедии.
Логичное и закономерное завершение ситуации подобного рода – смерть, гибель, самоликвидация перед лицом неразрешимого «деревенскими» средствами трагического противоречия, нажитого цивилизацией и прогрессом. Именно об этом отчетливо трагический рассказ «Сураз». Красавец – молодой бог! – Спирька Расторгуев (в детстве он был «вылитым маленьким Байроном»), которому все «до фени» (вариант «остолбенело»), не выдержал недоступности красоты и невозможности существования без нее: красоты женской, красоты человеческих отношений, красоты жизни. Нет красоты – является смерть среди прекрасной поляны с цветами. Ценность жизни Спиридон интуитивно поставил выше пошлой городской условности и риторики. Именно бывший зэк с широкой душой, немало на своем веку начудивший, ненароком придал жизни экзистенциальное измерение, а не учителя, люди городской закалки, с которыми столкнула его судьба.
Итак, «чудики» Шукшина – далеко не эталонные фигуры, не свет в окне, не идеалы в привычном смысле, не ответы на вызов жизни. Это неприкаянные чистые души, в сопоставлении с которыми становится хорошо заметна уродливость «городских», то бишь цивилизованных отношений. Рациональная культура измельчает души – вот что демонстрируют нам чудики своим незамысловатым бытием. Однако, чтобы возник масштаб личности, красота натуры требует соответствующей культурной огранки. Какой?
На этот вопрос Шукшин не отвечал, он даже не слишком акцентированно его поставил, увлекшись вызовом времени: бездумным наступлением цивилизации на природу человека. Ответом на него, по нашему убеждению, является продление типа лишнего в культуру, что дало бы совмещение двух почв и правд. Совмещение двух языков культуры – психики и сознания.
Эта традиция в русской культуре пока еще очень и очень слаба.
Уроки русского
Заметки о творчестве Валентина Распутина
Валентин Григорьевич Распутин, несомненно, один из крупнейших писателей современности, один из тех, кого безо всякой иронии и натяжки можно короновать пышным оксюморонным определением «живой классик русской литературы».
Это так же бесспорно, как и то, что великие мастера, подобные Распутину или гениальному Шолохову, не очень востребованы в сегодняшней Росии, да и в культурном пространстве, где существует и развивается русская (русскоязычная) литература, да и в мире в целом.
Почему?
На первый взгляд – это глобальный, запутанный вопрос, ответ на который приходится искать (распутывать узлы «проблемы Распутина») долго и упорно.
В значительной степени так оно и есть; однако на каждый простой вопрос, за которым таится сложность и глубина, существуют достаточно внятные ответы, адекватные по своей простоте и сложности вопросу.
И ответ мне видится таким: Распутин – классик литературы традиционного типа, литературы социоцентрически ориентированной, где есть несомненные герои и антигерои и, соответственно, связанные с их мироощущеием трагические и сатирические ситуации, которые становятся способом существования классических персонажей.
За той традицией, которую представляет Распутин, даже не века – тысячелетия развития литературы. Героика, трагизм, сатира: вот великая духовно-эстетическая триада, в рамках которой на протяжении многих эпох развивались и совершенствовались величайшие литературы мира. И русская литература в этом отношении не только не исключение, но в известном смысле образец. Назову только два знаковых имени: Лев Николаевич Толстой и Федор Михайлович Достоевский, перед которыми снимет шляпу всякий культурный человек, homo sapiens. Это бесспорно.
Однако Распутин, творчество которого целиком и полностью укладывается в рамки очерченной традиции, Распутин, который как никто другой бережно и священно культивировал все коды и архетипы русской социоцентрической ориентации (более известной под синонимическими понятиями «народность», «почвенничество», «соборность», «коллективизм»), Распутин, стараниями которого жива сама традиция, возродившаяся в феномене «деревенской прозы», – так вот Распутин Валентин Григорьевич нынешним общественным сознанием (то есть коллективным бессознательным) воспринимается как знаковая фигура уходящей натуры. Почему?
Да потому что субъектом нынешней цивилизации медленно, но верно, стал тот самый маленький человек, homo economicus, который рожден, чтобы потреблять, чтобы истреблять «окружающую среду», включая себя самого как элемент среды. Бессознательное, роевое существование, в котором художникам всех времен и народов удалось разглядеть немало поэтических сторон, закономерно вышло на финишную прямую. Этот отрезок, словно в насмешку, называют не иначе, как глобализм. В переводе на русский означает: помирать – так с музыкой.
Магистральная социоцентрическая тенденция почти в одночасье измельчала и стала маргинальной, архаической, ибо обслуживать потребности потребителя стала идеология индивидоцентризма. На смену герою пришел эгоистически озабоченный человечек. «Свято место» героики (а также ее законнорожденных детищ, трагизма и сатиры) занял скепсис, духовно-эстетической религией стала тотальная ирония, по форме демократическая (критиковать «как бы» можно все), а по сути тоталитарная (отношение ко всему жестко редуцировалось до одного агрессивного импульса: все можно только критиковать, надо всем следует «прикалываться»).
Позитивные критические стратегии объявлены репрессивным инструментом культуры, право не думать, презирать в себе личность стало основным правом человека (индивида). Место литературы заняла «массовая литература», чтиво, ибо если литература перестает мыслить, обнаруживать в природе человека вечное, духовно-зкзистенциальное, что формировалось тысячелетиями, то она рано или поздно начинает «прикалываться». Умение владеть художественным словом сводится к умению болтать.
«Прикол» как способ осмысления действительности. Желудок в панаме стал культурным героем. Чего ж вам больше?
В таком культурном контексте, когда кризис систем ценностей стал кризисом жизни, когда вечный вопрос смысла жизни неожиданно быстро стал актуальным вопросом выживания человека (а не вопросом академического духовного совершенствования), творчество Распутина воспринимается как некое движение сопротивления, весьма благотворное для общества. С Валентином Григорьевичем можно соглашаться или не соглашаться (сам я, приверженец персоноцентрической тенденции, – той, которая увековечена «Евгением Онегиным», которая, увы, никак не прививается на русской почве, – во многом не разделяю его взглядов), однако нельзя не видеть культурного значения феномена Распутина.
Если уж говорить об архетипах, если вписывать Распутина в литературную традицию, сопряженную с истоками, с некими началами начал, то главным в творчестве классика являются не тематика и проблематика вкупе с идеями, а отношение к литературе как к форме протеста против всего того, что препятствует духовному совершенствованию человека. Статус такой литературы сакрален и философичен по определению. Я бы сказал так: проза Распутина в лучших своих образцах (а это, на мой взгляд, цикл повестей 70-х: «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Деньги для Марии») стала формой персоноцентрического выражения протеста (пока еще, правда, смутного) против оголтелого и разрушительного тотального индивидоцентризма. Думаю, именно таково магистральное культурное содержание нашей эпохи, и талантливая проза, конечно, не может пройти мимо этого.
В сущности мы наблюдаем очередное возвращение к первородной функции литературы, которая по определению и по рождению является языком мощного идейно-эмоционального воздействия – в частности, языком протеста, почему она частенько и служила звонким идеологическим набатом (что, кстати, характерно даже для самой «тихой» поэзии).
Призвание могучей литературы – служить. Не прислуживаться, не записываться в служанки политики или какой-либо морально-идеологической доктрины – а именно служить, высокому и вечному. Чистая поэзия (которая и есть суть прозы) служит высшим помыслам. Отсюда – энергия протеста против пошло-приземленного как нормы существования. Нет энергии – нет поэзии. Поэтический накал, горение, от которого рукой подать до пожара (знаковой для творчества Распутина метафоры), – это всегда нелицеприятная диагностика душевно-духовного состояния инертного по сути своей общества, которое, к счастью, состоит не только из безликих приспособленцев или эгоцентрически обезумевших индивидов, но и из персон, которых общество в лице все тех же приспособленцев и индивидов не переносит именно потому, что они-то, личности, и являются лучшим, что может только дать общество.
Война миров, что вы хотите.
Вообще вся подлинная литература – это «критический реализм» в широком значении этого понятия. Ведь если определение «критичекий» добавить к классицизму, романтизму, модернизму, не говоря уже о постмодернизме, – это вряд ли вызовет у теоретиков большие возражения. Литература в лучших своих образцах – это энергия отрицания, которая переплавляется в энергию созидания.
Именно так: красота – это преодолеваемое отрицание.
Вот почему цепочка, ведущая от человеческого измерения к эстетическому, складывается такая: персона – энергия – литература. Ключевое слово в поэзии и прозе – персона. И я сейчас не о том, как видится эта логическая цепочка воображению писателя; я о том, как с культурными мерками следует подходить к литературе.
Думаю, Распутин всегда был и всегда будет присутствовать, так сказать, в авангарде конструктивного протеста – в той степени, в какой присутствуют в его лучших вещах золотые вкрапления того сложнейшего состава, который с времен ветхозаветных принято просто называть «истина-добро-красота». Потому что он русский.
Сама русскость органично сочетается с протестным началом. Что я имею в виду?
Русский – это тип отношений с миром, где преобладает регуляция не «от ума» (умом – не понять), а «от души», от широкой и размашистой душеньки, где стремление к справедливости важнее принципа сиюминутной, и даже долгосрочной выгоды. Жить «от души» – значит от психики с ее главенствующим императивом «приспосабливайся, а не преобразовывай, верь, но не познавай».
Однако широкая душа – это уже умная, чуткая душа, в какой-то степени опробовавшая узду рефлексии, уже догадывающаяся, что ум и есть условие сохранения и развития души, а потому тянущаяся к разуму и одновременно презирающая его «логику». Вот такое смутное пограничье, маргинальность – распутье! – при отчетливой доминанте все же иррационального («азиатского») начала и есть русский путь и русский способ освоения действительности. Если его опоэтизировать, то получим «Россию – Сфинкс», в которую «можно только верить»; отсюда рукой подать до доморощенной «философии» изумительных распутинских стариков да баб.
Литература, в частности, повести и романы, – это еще и русский, художественный способ думать и познавать (поэтизация этого способа – гибридная форма «роман в стихах»). Говорится одно, а сказывается другое. Вот то, что «сказалось» в повестях и романах помимо воли и сознания автора, тот замысел, который, возможно, не был ясен самому творцу (хотя он и только он мог реализовать его), должен интересовать исследователей прежде всего. Русское можно познать только нерусским, рационально-аналитическим способом, при этом надо носить русское в душе, иначе анализ будет скользить по поверхности, схематически окольцовывая «общие» смыслы.
Настало время не злобно клеймить или бездумно превозносить Распутина (и блестяще представляемое им направление), а – понимать его. Он, один из немногих, достоин того, чтобы оценивать его этой высшей культурной мерой.
Вниманию читателя предлагается сборник рассказов Валентина Григорьевича, изданный в Беларуси, мифологизированной русским сознанием стране «Белоруссии», где русский язык является государственным и где наиболее значительные литературные достижения связаны с языком белорусским (таково широко распространенное мнение). Как у нас воспринимается творчество Распутина?
Это зависит от читательской аудитории. Если читателями становятся писатели, то здесь дело обстоит следующим образом: мастера выгодно почитать – и тем, кто пишет на русском, и тем, кто творит на белорусском. Для последних Валентин Распутин является подлинным носителем настоящего русского языка, то есть такого языка, на котором в Беларуси не говорят, и, следовательно, доказательством того, что в Беларуси нет русской почвы, на которой могла бы укорениться русская литература. Белорусским почвенникам Распутин нужен и интересен только как писатель-почвенник. Русским (в широком смысле) писателям и читателям, оторванным от России и ностальгирующим по почве, где, якобы, сконцентрирован особый, русский дух, он также интересен своей «деревенской» ментальностью, рождающей кучерявые сюжеты, особым народно-душевным колоритом, говорком, оборотами речи, когда русскоговорящим все понятно, но никто так не напишет, никто. Читая Распутина, осознаешь себя эдаким белоэмигрантом, иностранцем российского происхождения.
Короче говоря, для интересующихся изящной словесностью в Беларуси Распутин – фигура во многом экзотическая. Лично я крайне редко слышал, чтобы о Распутине говорили как о культурном (вненациональном) феномене.
И лично мне хотелось бы предложить читателю посмотреть на очень русского Распутина под «общечеловеческим» углом зрения. Этот тест для протестующих гениев всегда впечатляет: если перед нами глыба, то в очень русском писателе обнаруживается очень много общекультурного: таков урок русского языка, русского сознания, – урок русского.
Рассказы Валентина Распутина генетически связаны с выдающимися повестями, произведениями мирового значения. Я имею в виду вот что: предметом писательской заботы в рассказах, так же, как и в повестях, становятся жизнь и судьба. Не отдельные события, которые позволяют под определенным углом зрения посмотреть на жизнь, а именно жизнь в целом, со всеми ее ключевыми этапами. Не исключено, что Распутин как выразитель народного начала воспроизводит в своих произведениях и народный тип повествования, затрагивая мифологический ментальный пласт. Если уж прикасаться художественным словом к жизни, то следует делать это с притчевым уровнем обобщения – следует говорить сразу обо всех и только самое главное. Или обо всем (о жизни) – или ни о чем.
Герои рассказов отчетливо делятся на два типа: чуткие и явно одаренные мальчики или юноши («Уроки французского» (1973), «Наташа» (1981), «Век живи, век люби» (1981), «Тетка Улита» (1984)) и жизнестойкие старухи («Встреча» (1966), «Василий и Василиса» (1966), «Тетка Улита» (1984), «Женский разговор» (1994), «В ту же землю» (1995), «Нежданно-негаданно» (1997), «Изба» (1999)).
Излюбленные герои – люди на склоне лет, в возрасте, когда тянет оглянуться назад, чтобы понять что-то существенное про себя, про человека, про нас. Старость и мудрость для писателя почти синонимы. В рассказах мы видим тех же бесподобно колоритных стариков, стихийно мудрых старух, что и в знаменитых повестях, наблюдаем то же доминирование женского начала как основого структурного элемента мира. Литература, в которой ценности определяются консолидированной народной точкой зрения, коллективной моралью, почти всегда представляет собой женскую литературу. Не удивительно, что Распутину женские образы удаются несравненно лучше мужских: первых значительно больше, они бесспорно ярче и, между прочим, сильнее мужчин. В художественном мире Распутина недвусмысленно царит матриархат.
Даже по объему рассказы тяготеют к повестям: в малой форме явно ощутимо неспешно-созерцательное повествовательное начало, свойственное форме крупной. По Распутину именно «не краткость», неспешность – сестра таланта.
Нехитрый хронологический принцип подборки рассказов – от раннего Распутина к позднему – позволяет обнаружить закономерность: в творчестве писателя обреченно нарастает трагизм. Рассказы 1990-х могут показаться просто беспросветными. А где же свет в конце тоннеля? Как же быть с катарсисом и оптимизмом? С любовью к жизни?
Культ вечных ценностей плохо стыкуется с безысходностью.
Я бы не спешил с заявлением, что рассказы Распутина представляют бледную тень его повестей, что они вторичны, что писатель исписался; более точным было бы сказать, что он вовремя обнаружил свою самобытную тему, которой фатально держался всю жизнь. Как всякий крупный писатель. И рассказы его о том же, о чем и повести: о самом главном. О женском начале, которым выживает мир.
Да, эволюция миросозерцания очевидна. В повестях забавные старые чудики во многом воспринимались как носители всепроникающей народной мудрости. В рассказах 1990-х акцент меняется. Старое отмирает, и этот лейтмотив только усиливается. А как чувствует себя новая, молодая поросль, которая должно занимать место под солнцем?
Вот тут вопросы. «– Забавная ты, бабушка, – неопределенно сказала Вика и громко, со вкусом зевнула.
– Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночку поговорить со внучкой. И скажет она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизня – спаси и помилуй… Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь.
Наталья отлежала спину и со стоном повернулась на бок. Вика уже посапывала. Ее лицо, большое и белое, лежало на подушке в бледном венчике ночного света, склонившись чуть набок, на подставленную руку. Наталья вгляделась: нет, неспокойно засыпала девчонка – подергивались, одновременно вздрагивая, плечи, левая рука, ища гнезда, оглаживала живот, дыхание то принималось частить, то переходило в плавные неслышные гребки» («Женский разговор»).
Бабушка озвучивает то, чем до нее негласно жила вся почвенническая (социоцентрическая) традиция: «Устою возьми». Возьми наш лад жизни, нашу модель, которая доказала свою жизнеспособность. Очень хочется верить, что и внучка, «Вихтория», скажет своей внучке то же самое.
Назойливо звучит один печальный мотив: бабушки пытаются достучаться до зевающих внучек, а вот дети бабушек стали отчего-то русским потерянным поколением. Война породила поколение победителей, которое дало жизнь потерянному или, в лучшем случае, растерянному, поколению…
Умом не понять. Конечно, автору, как и его неравнодушным героям, очень горько лицезреть жизнь, напоминающую катастрофу. Поколение, к которому принадлежит писатель Распутин, начинало свою жизнь в послевоенную разруху (см. «Уроки французского»), а заканчивает в разруху постсоциалистическую. И если схватиться, как за кобуру, за вопрос «кто виноват?», сразу становится легче: виноватые всегда под рукой, всегда рядом. Это всегда они, другие, пришлые.
«– Вот объясни ты мне, Сергей Егорович, – шел на очередной приступ горячий мужичонка, – у меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?
– Было, – соглашался с мукой второй мужик. (…)
– Но ведь среднее образование – это же много! – горячился первый. – Это по уши ума. А едва не половина народу – с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорович?
– Мы не дураки…
– Мы не дураки, мы теперь умные, – быстро, с удовольствием согласился спорщик. Этот, если никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить. – Очень хорошо, – продолжал он. – Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом в высшее. И работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той стороны, и солнце у нас, у дураков, не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему? Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача. Ладно, задача… Но почему?.. Если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные? И сразу взяли правильный курс – все делать с точностью до наоборот?» («Нежданно-негаданно»)
Народный здравый смысл вырождается в бесплодную умозрительную казуистику. И себя винить не хочется, и постороннего виноватого за руку не схватить. И не дураки вроде мы, и умными язык не поворачивается назвать. Трагедия, да и только. Или трагикомедия. Все умные вопросы повисают без ответа, ибо если отвечать на них в стилистике вопросов, неразбериха и путаница только усилится.
В рассказе «Нежданно-негаданно» от живой и теплой веры не остается и следа. Жил-был дед Сенька да бабушка Галя, жили они где-то на краю земли, вели себе натуральное хозяйство – то ли на радость себе, то ли в пику кому-то, сразу не разберешь. По доброй воле отказались даже от вредного телевизора. Да что там телевизор! Им и электрификация, которую попытались навязать большевики, не очень-то нужна. И деньги не нужны. А зачем? Трогательная патриархальщина органично завершается гимном керосинке. Нежданно-негаданно сваливается на стариков подкинутая нелюдями «внучка» Катя. Ее, так и не успевшую стать внятным символом, так же нежданно-негаданно отобрали какие-то посторонние (эмигранты, что ли?). Между людьми за рамками заброшенной деревни не удается обнаружить человеческих отношений, они стали какими-то иными. Страшными. Человек человеку отчего-то стал волк. Homo sapiens окончательно деградировал и выродился в homo economicus.
Этот художественный эксперимент напоминает притчу Солженицына о праведниках, с которой в 1950-е начиналась деревенская проза: во глубине России можно обнаружить еще носителей нравственности, все сплошь почти стариков. А вот в городах, где живут дети этих самых стариков и куда понаехали кавказцы и прочие, – в городах царит зло.
Как ни крути, с будущим проблема.
«Человек не может быть нужен только самому себе, он – часть общего дела, общего организма, и когда этот живой организм объявляется бесполезным, обмирают и все его органы, существовать внутри своей функции они не в состоянии» («В ту же землю…»). Это говорит другая бабушка, Пашута. С ней явно солидарен повествователь.
Невозможно не заметить пессимизма, на котором густо настоены поздние рассказы. Интересно, а что другое должен испытывать писатель, на глазах которого вековечный, казалось, незыблемый уклад народной жизни не только дал трещину, но и завалился как карточный домик, попутно похоронив под собой великую державу СССР? Тайга, Ангара, женщина, земля, семья, небо, звезды, солнце – разве это не слагаемые вечности?
Сама категория «вечное» как-то дьявольски, унизительно-карнавально обернулась сакрализацией сиюминутного, вызванной заклинанием заключенных: умри ты сегодня, а я завтра. Субъективный идеализм, как сказали бы в старые добрые времена. Сегодня уже никого не обманешь: пофигизм, да и только.
Но пессимизм, реакция приличного человека, и являет собой тот самый протест против торжества тотального оголтелого эгоцентризма – против диктатуры натуры. Раньше думай о родине, а потом о себе: это патриотическое кредо понятно и естественно. И вот пришло и одолело враждебное: кто сильнее – тот и прав, а после нас хоть потоп. Если это не катастрофа, то что это?
Я бы сказал так: самое ценное в поздних рассказах Распутина – именно пессимизм, реакция здорового организма на катастрофу. Мужество писателя всегда, во все времена заключалось в том, чтобы называть вещи своими именами. Собственно, называть вещи своими именами – это и есть суть протеста. Вперед, в прошлое – уже не рождает энтузиазм; остается назад, в будущее, подсвеченное светом керосиновой лампы?
Единственный способ сохранить достоинство заключается в том, чтобы не врать себе: называть кошку – кошкой, трагизм – трагизмом (иначе он превратится в пошлый сиропно-сентиментальный комизм). Вспомним «Старика и море»: стоицизм Сеньки сродни несгибаемому кредо старика Сантьяго – человека можно уничтожить, но его нельзя победить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































