Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
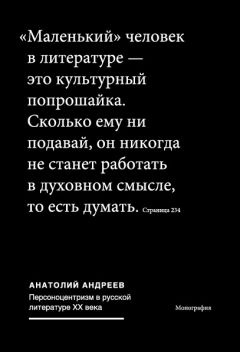
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Таким образом, главное в рассказе – логика смены умонастроений, и логика эта не определяется ни социальной, ни биологической детерминированностью героя. Думается, перед нами все же потенциально реалистическая проза, хотя формальных признаков реализма вроде бы и недостаточно. Однако если сами идеи мало мотивированы, то психологическая зависимость от идей и обратная связь психологии с идеями явственно ощутима.
Начало рассказа задает эмоциональный тон повествованию.
«Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычно время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов».
Лексика явно окрашена в печально-сентиментальные тона (большие несчастья, брат родной, стучишь зубами, ничего не видишь от слез). Детали также активно участвуют в создании «печального» фона (вечереющие снега, низкий плюшевый стул, нежилой угол). (Трудно удержаться от указания на весьма красноречивую деталь: пуф под Слепцовым не только не бунтует, но «ласково поддерживает» хозяина. И это можно сказать вообще обо всей мебели, обо всех вещах. Взаимоотношения героев «Рождества» с вещным миром диаметрально противоположны аналогичным взаимоотношениям героев «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого.) Одинокий человек, сидящий в нежилом углу, контакт с вещами – все это явно символично. Кроме того, лирическая экспрессия задается и ритмом прозы (и не в последнюю очередь – ритмом). Отрывок естественно разбивается на речевые такты, содержащие, приблизительно, по три ударения (это относится почти ко всему приведенному абзацу).
Итак, мы видим, что актуализированы специфически лирические (лирики как рода) поэтические средства. Далее отметим явное желание лирического героя (то есть повествователя) не остаться на заднем плане, его активность в подаче материала (что делает этот персонаж «зримым», выводит его из тени главного героя). «Ты и двух слов не скажешь», «поддерживает тебя», «ты… стучишь зубами»: «ты» – это не только обобщение лирического героя, но и обобщение, «конструирование» читателя определенного типа, читателя-единомышленника. Непосредственное обращение к тебе, читателю, устанавливает с тобой прямой контакт, без посредничества Слепцова.
Сдержанная безысходность героя передается мастерски выписанным овнешненным (тайным) психологизмом. Мы видим героя со стороны, словно вещи, которые его окружают. «Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула». Эти три строчки последнего эпизода первой главки в рассматриваемом стилевом контексте многого стоят по выразительности. «Поднял руку с колена»: он сидит, тяжело опершись на колено, в «позе горя». Медленность жеста отражает замирающую, умирающую внутреннюю жизнь – кожа превращается в воск. «Капля воска между пальцев» – это и свидетельство посещения церкви. «Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула»: бессмысленность жеста является симптомом шокового состояния Слепцова; трещина, появляющаяся у него на глазах, – явный символ разлома, катастрофы, свершившейся в его жизни.
Избранные как бы скупые поэтические средства (добавим сюда строгий ритм, демонстративно «бесстрастную» интонацию, «гладкую» звукопись) предельно функциональны и выразительны. Горе передано настолько неестественно красиво, что уже и не воспринимается как настоящее горе, оно сразу же покрывается налетом условности. Условная «изящная» скорбь: этого-то впечатления и добивается писатель Набоков!
Еще раньше, в третьем фрагменте первой главки, появляется Иван, «тихий тучный слуга, недавно сбривший себе усы», который внес лампу и «беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур». Во всем этом композиционном фрагменте, совпадающем с эпизодом сюжета, поражает потрясающая, ничего не пропускающая наблюдательность повествователя (пока сложно сказать, можно ли отнести ее и к Слепцову). Хозяин сидит – «словно в приемной у доктора». На стекле – «стеклянные перья мороза», вечер – «густо синеет». Слуга – «недавно сбривший себе усы», абажур – «розовый». Конец фрагмента таков: «На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью».
Казалось бы, какое нам дело до того, давно или недавно сбрил себе усы слуга? И почему так важно, что он «тихий и тучный»? Или, если угодно, вот еще пример (из третьей главки): «Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором». Какое отношение к горю Слепцова имеет «жестяной рефлектор»? Или усы?
Мало того, что никакого: эта вызывающе немотивированная цепкость внимания раздражает своим желанием ничего не пропустить – то есть уравнять важное с неважным, Слепцова с Иваном, Ивана с лампой. Следовательно, все это имеет отношение к горю Слепцова – но вовсе не является тем отношением, на которое рассчитывает читатель, привыкший к «нормальной» художественной и житейской логике. Перед нами какая-то другая логика, реализованная в других отношениях. Зрительная, слуховая, осязательная, чувственная жадность к миру вещей (наряду с равнодушием к миру идей и концепций), желание ничего не пропустить и все назвать, зафиксировать, запечатлеть (и при этом специально пропустить «умные вещи»), конечно, не случайны. Сознание повествователя, словно зеркало или рефлектор (буквальные образы рассказа), отражает попавшие в пределы его досягаемости объекты. Отражается внешний ряд, а не то, что стоит за ним (в данном случае за ним пока обнаружить ничего не удается, обнаруживает себя пустота). Может быть, это и есть то самое чистое, безыдейное и, следовательно, бессодержательное искусство с его «иной» логикой: искусство, несомненно, присутствует, а содержательность при этом отсутствует?
Проверим наши наблюдения дальше. Во второй главке творится что-то невообразимое. Немного в мировой литературе найдется страниц, так изысканно поэтизирующих заурядную материальность мира, так тонко воплощающих эстетическое торжество зрения и слуха: «Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относящихся к его горю (горе горем – а сны снами: сны вовсе не являются отражением душевных процессов, что является свидетельством восхитительного рассогласования, художественным подтверждением той «истины», того содержания, что ни одно содержание не определяет другое содержание, все как-то существует само по себе, бессодержательно – А.А.), Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица и на бледную лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хрустнула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом».
Никаких сомнений быть не может: зрение повествователя устроено как-то особенно. И эта особенность дорога Набокову: она и позволяет реализовать ему свой дар эстетизировать вещный мир. Повествователь – явный двойник Набокова. Или: автор и образ автора в данном случае в значительной мере слились, отождествились. Для подтверждения высказанной мысли пришлось бы выписать почти весь рассказ. Ограничимся приведенным фрагментом, дающим повод и для постановки другой проблемы.
Изумительны по своей выразительности и оригинальности метафоры Набокова, воплощенные, к тому же, в изощренных интонациях и звуках. Это просто, что называется, отдельная тема. Вряд ли есть необходимость указывать на разнообразные аллитерации и ассонансы, пронизывающие весь отрывок и буквально делающие его музыкальным. К тому же ритмическая основа прозы не исчезает, она становится более гибкой: на каждый речевой такт приходится по 3–5 ударений. Обратим внимание: звукопись многофункциональна, но главная ее функция – добиться впечатления звуковой пластичности, имитирующей пластичность природных силуэтов и линий. «Белые купола клумб»: во-первых, очевидны ассонансные закругления; э-ы-э у-о-а-у; во-вторых, «круглый звук» Л также рисует купол; в-третьих, совпадение четырех «мягких» звуков в двух коротких словах, состоящих их 5–6 звуков (купола клумб), делает зрительным соседство куполов. И т. д.
Мир действительно помещен в систему эстетических зеркал: метафорических, звуковых, интонационно-ритмических. Он многократно отражается, дробится в зеркальной мозаике.
Если, немного забегая вперед, раскрыть секрет повествователя и сообщить, что горе Слепцова заключалось в том, что у него умер единственный сын, то станет ясно, что чувственный гимн жизни крайне бестактен, во всяком случае, не бесспорен. В том числе и по отношению к читателю, которого сначала заставляют восторгаться великолепной картиной, а потом сообщают, что он, читатель, присутствует едва ли не на похоронах. Так или иначе, требуется обосновать уместность гимна.
Чьими глазами смотрим мы на «весело выстрелившую половицу» или любуемся «белыми куполами клумб»? Только ли повествователя? Ведь он описывает только то, что попадает в поле зрения Слепцова. Постепенно грань между точкой зрения Слепцова и повествователя стирается, и становится невозможным отделить одну от другой. Слепцов «удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как поют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан и что на склоне сугроба – песьи следы, шафранные пятна, прожегшие пасть».
Великолепие мира, перед которым невозможно устоять, как бы заслоняет, смягчает боль. Причем, это великолепие особого рода. Повествователь судьбой Слепцова словно бы иллюстрирует несомненные, прочно усвоенные им (повествователем) истины. Безымянный повествователь, двойник Набокова, завидно и плодотворно активен только в одном: он неутомимо переводит действительность в некий эстетический план. И только такая – отраженная, искусственно созданная – действительность вызывает его восхищение. Если уж быть совсем точным, то восхищение его вызывает сама возможность эстетизировать мир. Не преображенного мира у Набокова нет. Предрасположенность и открытость любых явлений к эстетизации – вот что волнует Набокова и его героев. Не случайно, в его лучшем романе «Дар» – герой и есть писатель. И пристальный интерес к искусству, литературе (скрытые и явные реминисценции, перифразы, аллюзии) – тоже знак личности, для которой искусство выше реальности. (Возможно, скрытые аллюзии есть и в рассказе «Рождество». Для этого понадобилось бы специальное исследование. Но даже возможный второй (третий и т. д.) план не может изменить главного посыла.)
Давно замечена «изобразительная сила» Набокова, дар «внешнего выражения», «меткость взгляда», внимательность к «живописнейшим мелочам». Считается, однако, что дар Набокова замкнут на самом себе. Это трактуется как крупный недостаток творческой манеры писателя. Хорошо бы, дескать, использовать Набокову этот дар для воплощения чего-то «серьезного». А раз Набоков не воплощает ничего (нет Больших Идей, как у Толстого), то дар вроде бы так и остался сам по себе. Критикам искренне жаль.
Не станем, однако, торопиться с выводами. Даже на примере одного маленького рассказа видно, что это далеко не так. Объяснимся.
Вот как сообщает повествователь о смерти сына Слепцова: «Совсем недавно, в Петербурге, – радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, – он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всей жизнью наполненный, гроб в деревню, в маленький белокаменный склеп близ сельской церкви». Эта фраза – та клеточка художественности, в которой сконцентрирована суть рассказа. Ключевое слово «умер» – спрятано во фразе, завуалировано. Его эмоциональное воздействие максимально самортизировано, ослаблено. Если бы фраза обрывалась на слове «умер», впечатление было бы максимально близким к реальности. Это звучало бы просто и грубо (вспомним ту же повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича»). Набоков не дает сосредоточиться на этом впечатлении и заговаривает читателя, сообщая ему о гробе, деревне, склепе, церкви… Кроме того, слово «умер» обрывает ряд «радостный»: школа, велосипед, индийская бабочка.
Все это очень искусно сделано для того, чтобы быть просто смертью. Напряжение во фразе, кульминация на слове «умер», и тут же нейтрализация этого впечатления – все это похоже на фокусы. Или в фокусах есть свой неслучайный смысл?
Когда Слепцов серьезно, но непременно очень красиво, относится к возможности собственной смерти, он ставит и понятие, и слово, его обозначающее, в конце: «Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.
– Я больше не могу… – простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее: – Не – могу – больше…
«Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же…»
Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.
– …Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение».
Горе Слепцова блекнет на фоне, выписанном таким образом, что фон этот не подчеркивает, а снимает, нейтрализует горе: «Далеко внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, – каждый удар звонко отпрыгивал в небо, а под белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест».
Не будем лишний раз заострять внимание на ритмико-фонетических, а также интонационно-синтаксических достоинствах. Они очевидны.
Но как невозможно скупому опоэтизировать потерю денег (при всей серьезности с его стороны это будет объективно выглядеть смешно), так и истинное горе нельзя переживать столь изысканно красиво. Даже «вой по сыну» превращается в изящный намек, эвфемизм, не могущий нарушить установку на эстетизацию мира: «слепо сиял церковный крест», то есть его сияние расплывается в наполненных слезами глазах убитого горем отца.
Что бы мы ни говорили, смакование красоты на фоне смерти выглядит неестественно. Так, думается, нравственный изъян оборачивается изъяном художественным. Причем, самым парадоксальным образом: плохим оказалось то, что получилось слишком красиво.
Рассказ просто не мог кончиться «примитивной» человеческой трагедией. И для перевода трагического мироощущения в почти язычески-восторженное понадобилась ничтожная малость: бабочка, не вовремя (зимой!) вылучившаяся из кокона. Причем, из кокона, оставшегося после умершего сына (он коллекционировал бабочек). Умерший сын возрождает к жизни отца – чудесным даром: сильнее смерти оказалась только красота. Красота как таковая, безо всяких идеологических, моральных, меркантильных и прочих примесей!
Рассказ кончается не просто формальным появлением на свет «сморщенного существа» «с черными мохнатыми лапками». Фантастическая поэма о превращении индийского шелкопряда из «черной мыши», из «комочка» в «громадную ночную бабочку» в художественном смысле равна жизнеутверждению, которое способно противостоять любой жизненной катастрофе. Бабочка (излюбленный образ и смысловой мотив Набокова), воплощенная бескорыстная красота, способна перевесить даже смерть сына, даже смерть.
Финал рассказа достоин того, чтобы его воспроизвести целиком. Мы не станем этого делать только потому, что стилевая доминанта не меняется, рассказ завершается в прежнем ключе.
Итак, рассказ Набокова «Рождество» – заканчивается жизнеутверждением, как и «Смерть Ивана Ильича», но на прямо противоположной Толстому основе. Слепцов не ищет нравственного обновления в земной жизни – «горестной до ужаса, унизительно бесцельной, бесплодной, лишенной чудес». Такой представляется жизнь Слепцову за мгновение до явления шелкопряда. Но если для Ивана Ильича жизнь перестала быть «унизительно бесцельной» и «бесплодной», то для Слепцова она, в сущности, такой и осталась. Слепцов «прозрел» иначе: бесцельность, бесплодность жизни он стал преодолевать ее украшательством, принципиально «не замечать» унизительной бесцельности жизни. От этого бессмысленность жизни, конечно, никуда не исчезла. Фактически, он так и остался слепым, он и не прозрел по-настоящему, потому что и не пытался разобраться в причинах своей слепоты.
Перед нами несмешной вариант трагической иронии. Вот почему Слепцов трагически одинок.
Попытаемся теперь свести концы с концами. Изобилие метафор в рассказе и превращение, в конечном счете, всего произведения в сплошную метафору (рождество нового мироощущения, продление жизни, новое рождение) позволяет сделать определенные выводы. Цель и смысл метафор и сравнений Набокова, поддержанных тщательно организованным словесным уровнем текста, заключаются в том, чтобы сопрягать различные явления, уподоблять их друг другу – и тем самым обогащать. Что, конечно, и должна делать всякая метафора. Однако у Набокова метафора обнажена до своей «первородной» функции: метафора служит не вспомогательным поэтическим средством, а непосредственно «скрепляет» жизнь с литературой. Эстетизация жизни в рассказе выступает не просто как прием или игра, как иногда думают, но – без преувеличения – как духовный, идеологический акт. Героям (да и автору) больше нечего противопоставить бессмысленности жизни. Такая «духовная порода» (кстати, выражение самого Набокова из «Дара») сознательно возводит башни из слоновой кости, обрекая себя на одиночество. В установке на трагическое одиночество – и способ самоутверждения, и гибельное духовное бесплодие.
Вот какими принципами обусловлено поведение героев. Вот почему именно такая стилевая доминанта реализует очень оригинальный творческий метод писателя. В конечном счете, жизненная доктрина героев (думаю, и писателя) оказалась созвучной их дару, чем и обуславливается высокое художественное совершенство рассказа.
Следует иметь в виду, что уникальный словесный дар Набокова настолько ярок, что кажется самодостаточным для объявления его гением, превосходящим даже Л. Толстого.
Но это ошибочное мнение. В отказе от поисков выхода их духовного тупика, от анализа как способа преодоления тупика, от поисков плодотворной жизненной ориентации – причины того, что Набоков, став явлением художественным, так и не стал явлением духа. А это существенно ограничило и его художественность. Будучи яркой и оригинальной, она осталась в то же время неглубокой. Попытка развести Истину с Красотой не удалась даже Набокову.
В заключение отметим, что трагико-ироническая программа жизни – мощный идеологический посыл рассказа. Рассказ, несомненно, написан не «просто так», а рассчитан на то, чтобы его читали: интерпретировали, анализировали, осваивали его содержательную сторону. В этом и заключается жизнь художественного произведения. Набокову, конечно, не удалось избежать столкновения с миром Больших Идей – хотя бы потому, что, как показывает нам формула художественного совершенства, Красоты без смысла (Истины и Добра) просто не существует.
7
Чтобы глубже понять, чего же не хватило Набокову для превращения в культурную мегавеличину, позволим себе экскурс в природу человека – то есть именно то, чего так избегал писатель.
Природа человека (или его информационный космос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-психологический, духовно (разумно) – психологический. Тело – душа – дух.
В связи с этим мужчина – это также три измерения. На уровне телесном – это мускулатура, физическая мощь и совершенство; на уровне душевно-психологическом – это все те же сила и харизма (морально-волевые компоненты: воля, целеустремленность, склонность к лидерству, решительность и т. п.); наконец, на уровне собственно духовном комплекс маскулинности предполагает способность мыслить, познавать.
Понятно, что высший уровень определяет низший, а не наоборот. Не мускулатура и воля (то есть природные данные), в конечном счете, делают мужчину мужчиной, а наличие ума (уже культурной составляющей). Обратим внимание: ума, но не интеллекта. Интеллект, будучи инстанцией, которая контролируется душой, не становится еще фактором культурным в полном и точном смысле этого понятия. «Интеллектуальная духовность» – это разновидность душевно-психологической маскулинности, высшая форма бездуховности (или низший уровень духовности, кому как нравится). «Интеллектуальную» и «разумную» духовность легко спутать, однако они различаются качественно: типом управления информации: разумным или все же психологическим (пусть даже интеллектуализированным). Отсюда интеллектуальная литература – это разновидность женской литературы.
Сила есть – ума не надо: это карикатура на мужчину, поскольку абсолютизация телесно-психологическая ипостаси мужчины – это комплекс самца. Ум есть – обойдемся без таких мелочей, как характер и физическая форма: это даже не шутка, это глупость, вещь, невозможная при наличии ума. Разум не может не заботиться о характере и качестве телесной оболочки.
Естественно, у мужчины умного (у которого в голове разум, а не интеллект) понятие «мужской характер» становится не самоцелью, а инструментом достижения мировоззренческих, философских вершин. Здоровье и тело, кстати сказать, – тоже.
Таким образом, полноценного мужчины без ума не бывает. Если нет ума, приходится компенсировать его отсутствие изобилием природной мощи. В этом случае бедный мужчина нарывается на парадокс: чем больше мужчины (бицепс, трицепс, воля, самомнение, карьера и т. п.) – тем он больше похож на женщину. Тем мужчины меньше.
Три женских измерения, разумеется, те же, что и у мужчин, однако как существо духовно-информационное женщина весьма отличается от мужчины. Это легко понять, хотя с этим нелегко смириться, особенно тем, кто не понимает разницы между разумом и интеллектом (а это, увы, сплошь интеллектуалы).
Наличие сферы телесно-психологической буквально роднит женщину с мужчиной. Они родом из природы. Адам и Ева. Здесь вполне уместно говорить о равноправии – по отношению к природным характеристикам.
Однако все меняется, когда мы обратимся к измерению высшему, духовному. Только ментальное измерение завершает целостный облик и придает содержательность низшим информационным этажам. Мужчину мы оцениваем по качеству духовных программ; к женщине мы предъявляем несколько иные требования.
Разумных женщин не бывает. Разумная женщина, если использовать это выражение как метафору, – это женщина с высоко развитым уровнем интеллекта, который позволяет ей понять, что ее духовные качества определяются не потребностями познания, а потребностями приспособления к тому, кто способен познавать.
Главным в жизни женщины становится мужчина. Следовательно, любовь. Семья. Дети, будущие мужчины и женщины. Будущее мужчины и женщины.
Понятия «женщина», «женственность» становятся инструментом достижения женских духовных вершин. С точки зрения умного мужчины, это самое главное в женщине. А ему, разумному, виднее.
Женщина же, которая выстраивает тип личности по мужскому, то есть разумному, типу, попадает в глупое, двусмысленное, маргинальное положение. Невозможно реализовать чужую природу, даже если ты при этом решила отказаться от своей.
Мужчины и женщины стоят друг друга. Никто не лучше и не хуже. Просто у них разная природа, которая определяет набор и содержательность достоинств. Женщине мужские достоинства ни к чему, своих девать некуда; мужчина, облагороженный женскими достоинствами, – смешон.
Главное в жизни не мужчина или женщина, а гармония между мужским и женским комплексами. По отношению к этой гармонии сила мужчины не в разуме как таковом, и не в том, чтобы подчинить женщину, а в том, чтобы прожить счастливую жизнь с любимой женщиной, оставаясь при этом мужчиной.
Разумность мужчины становится абстрактным качеством, если он не рассматривает любовь как высшую ценность. Следовательно, к женщине он относится как к высшему проявлению натуры (в том числе высшему проявлению натуры в себе), по отношению к которой выстраиваются все высшие культурные ценности. Добытое разумом делится на двоих, непременно на двоих, поскольку разум – это, по большому счету, не женское и не мужское качество, даже не человеческое; это качество – культурное. Надприродное. Условием существования которого, однако, становится натура, женская по своей сути. Если женщина заинтересована в увеличении разумного присутствия в жизни (а умная женщина в этом, безусловно, заинтересована), то она будет всячески способствовать тому, чтобы мужчина стал мужчиной, ибо разум проникает в жизнь через мужчину. Разум – гарант того, что женщина будет счастлива, женщина с триумфом реализует себя как женщина.
От рода человеческого пока что мужчина делегирован в культурное измерение. Это не предмет для гордости или культивирования комплекса превосходства (оборотной стороны комплекса неполноценности); это констатация положения вещей. Это истина, добытая разумом. А с истиной нельзя кокетничать, ею нельзя манипулировать. Она вообще не для телесно-душевного потребления. Ее можно понимать.
Или относиться к ней по-женски: понимать, что есть вещи, недоступные твоему пониманию, без которых, однако, не прожить.
В отношении истины мужское и женское в принципе «не делится», не раскладывается по полюсам «негатив» – «позитив»; на уровне разумном, духовном, полюса осознаются всего лишь разные качества жизни. «Женское» и «мужское» дифференцируются и кокетливо противопоставляются на уровне социально-психологическом и природно-психологическом, на радость умным феминисткам и глупым мужланам-шовинистам.
Иными словами, проблема женского и мужского в актуальном для социума виде, – это проблема не разума, а души. Это женская проблема, которую никак не могут решить мужчины.
Получается, что герои Набокова, как, впрочем, все остальные герои всей остальной художественной прозы мира – не мужчины?
Хотелось бы изящно уклониться от ответа, поскольку он уже дан. Тело – душа – дух: вот забота свободного человека (не политика, заметим, не детектив, не женщины сами по себе, будь то старухи или нимфетки, и не какие-нибудь «отцы и дети»).
«Мужское начало» в данном контексте оборачивается сложными культурными смыслами. Говорим «мужское» – подразумеваем легкость и свободу, альтернативу пустоте. Почему?
Вспомним: природа человека (или его информационный космос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-психологический, духовно (разумно) – психологический. Тело – душа – дух. Это объективно существующие информационные инстанции.
В связи с этим все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности имеют три измерения. Взять свободу, именем которой не клянется только ленивый. Существует свобода на уровне тела, душевно-психологическая свобода (в том числе социально-психологическая) и свобода порядка духовного (информационная основа которой – разум, а форма – философия).
Политическая свобода – это психологическая свобода.
Экономическая свобода – это психологическая свобода.
Религиозная свобода – это психологическая свобода.
Эстетическая свобода – это психологическая свобода.
Это все свобода выбирать потребности тела и души. Свобода «думать» брюхом. Необходимый, но явно недостаточный компонент свободы, если принять к сведению, что каждый человек потенциально мог бы стать личностью.
Комплекс свободы завершается свободой духовной (или начинается с нее: точка отсчета здесь подвижна). Человек, который ощущает свободу только как потребность в душевно-телесном комфорте, является рабом природы. Его свобода ограничивается заточением в телесно-психологическую оболочку. Если человек свободен духовно, то есть в состоянии познать (осознать) свою информационную природу в полном объеме, свобода политическая и экономическая становятся условием реализации главной свободы. Политическая и экономическая свобода становятся для личности фоном, вторичной потребностью (важной, безусловно, но не главной: вот что главное).
Свобода психологическая часто выражается как нежелание осознавать себя личностью. Именно такие люди политически наиболее активны. Чем меньше человек свободен разумом, тем больше он выступает за свободу на уровне политическом. Такова плата глупца за свободу выражать свою зависимость от брюха.
Беда в том, что наша цивилизация культивирует свободу исключительно как свободу двух низших порядков, свободу телесно-психологическую. Глупый человек не может быть свободным, но хочет им казаться. Все лозунги цивилизации рассчитаны на свободных дураков, сама цивилизация есть продукт находящейся в свободном полете глупости.
Свобода личности подразумевает свободу дистанцироваться от политики и экономики (настолько, насколько это возможно в реальной жизни). Способность быть адекватным природе человека в полном объеме – вот что такое свобода (в аспекте информационном). Свобода тела и души – это замечательно; однако без свободы разума они превращаются в ловушку и тюрьму для человека. (Определение свободы, данное Спинозой, – это все-таки абсолютизация «разумного» момента и компонента свободы, здесь отсутствует акцент на целостность (неделимость) и одновременно структурированность этого многомерного понятия.)
Пушкинский Онегин говорит в письме к Татьяне:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
Онегин «думал» (принимая императив «познанной необходимости»): «вольность и покой» (результат разумного отношения: свобода плана духовного) замена «счастью» (то есть свободе телесно-психологического порядка). Но Онегин ошибся – и в этом глубоко прав автор. Где свобода – там и счастье. Нельзя противопоставлять «свободы» разных уровней; и реализация высшего уровня свободы, пусть высшего, но одного, – это еще не счастье. Счастье – это не «замена» одной свободы другими аспектами свободы, а их гармония. Свобода – это счастье умного человека.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































