Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
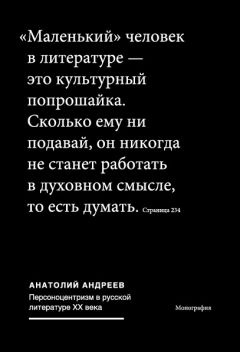
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Русская литература Беларуси: актуальные проблемы
Когда говорят о литературе Беларуси, иногда вспоминают о том, что кроме белорусской литературы (литературы на белорусском языке), имеется еще литература, вроде бы и белорусская, однако же на русском языке. Назвать ее белорусской – вроде бы некорректно, ибо без существенных оговорок здесь не обойтись; назвать русской – тоже натяжка, ибо она специфически русская, белорусско-русская. Как быть с белорусской литературой, которая одновременно является русской (русскоязычной)? Очевидно, что ее двойственный, маргинальный культурный статус самым непосредственным образом сказывается на общественном бытии и на репутации: вот эта пока безымянная литература, которую неизвестно как и назвать, чтобы никого не обидеть, обречена быть вечно второй и в литературе белорусской, и в русской. И там и там она как бы чужая, не стопроцентно своя, подозрительная и, что особенно радует ревнителей однозначности и категоричности, беззащитная. Прежде всего следует точно обозначить серьезный предмет для серьезного разговора, феномен, объективно существующий, но не имеющий пока общепринятого обозначения. Есть корпус текстов, есть писатели, поэты и драматурги, пишущие по-русски, но живущие в Беларуси. Является ли такая литература частью литературы белорусской? Безусловно. Здесь и обсуждать нечего. Белорусская литература – это не только литература на белорусском языке, но еще и литература Беларуси, страны европейской, где сосуществуют многие языки и культуры. Часть белорусской литературы на русском языке вполне корректно называть русскоязычной. Гораздо больше проблем возникает в отношениях русскоязычной литературы Беларуси с литературой русской. Можно ли считать белорусскую литературу на русском языке моментом (ответвлением) русской литературы? Для русской литературы сама по себе ситуация достаточно типичная: ведь пишущие по-русски живут не только в России, однако это не мешает им быть причисленными к когорте русских писателей. Пишешь по-русски, живешь в пространстве русской культуры – следовательно, ты русский писатель. Русская литература Беларуси – это, как ни странно, проблема в большей степени Беларуси, нежели России. Считать ли «наших» писателей одновременно «не нашими»? В Беларуси типичная для русской культуры ситуация приобретает уникальные черты. До распада Советского Союза практически все, что выходило в Беларуси на русском языке, втягивалось в русское, русскоязычное культурное пространство, и белорусской литературой считалась литература на белорусском языке. Все ясно и достаточно однозначно. С появлением государства Республика Беларусь, в котором существуют два государственных языка, ситуация существенным образом изменилась. Написанное в Беларуси на русском языке становится уже не только русским, но и белорусским. Вот этот амбивалентный статус русской литературы Беларуси и следует зафиксировать в формуле, обозначающей суть явления. Таким образом, существуют две базовые классификационные модели, по-разному интерпретирующие сложившуюся ситуацию: «русская литература Беларуси» – и «русскоязычная литература Беларуси». И там и там амбивалентность «объекта» принимается к сведению, однако результат получается разный. И ставить вопрос «или – или», или одна модель – или другая, значит, по моему глубокому убеждению, осуществлять насилие над реальностью. Есть русская литература Беларуси, и есть русскоязычная. В случае с «русскоязычной литературой» речь идет о белорусской литературе, о части одной литературы – белорусской. Русскоязычная – это «составляющая» белорусской литературы, транслирующая модус белорусской ментальности. В другом случае речь идет не о русскоязычной литературе Беларуси, не о белорусской литературе на русском языке, не о русскопишущих, не об уроженцах Беларуси, пишущих на русском и живущих где угодно, только не в Беларуси, не о белорусских писателях, пишущих по-русски, – а именно о русской литературе Беларуси, литературе, имеющей отношение одновременно и к русской, и к белорусской изящной словесности. Русская литература Беларуси – это одновременная развернутость в сторону разных культурных (ментальных) парадигм, которая осуществляется в едином языковом дискурсе. Два в одном. При этом преобладание «русскости» в предложенной формуле значительно и очевидно. Так уж получилось, такова реальность. Графически эту самую амбивалентность можно выразить следующим образом.

Кстати, сама процесс идентификации «новоявленной» литературы разворачивается совершенно по классическому сценарию. Поскольку существует два внятных критерия – язык и ментальность, постольку неизбежно появление двух полярных классификационных моделей, где язык и ментальность конфликтуют между собой. Как решать подобного рода проблему? Можно было бы мудро заметить: время все расставит на свои места. Однако на деле расставлять на места приходится здесь и сейчас – и, между прочим, тем писателям, читателям, ученым и общественным деятелям, которым не отпущено какого-то дополнительного времени на схоластические дискуссии. Таким образом, есть писатели, творчество которых великолепно, без натяжек укладывается в формулу «русскоязычная литература Беларуси». Например, Алесь Адамович; из писателей недавнего прошлого можно назвать имена В. Тараса, А. Дракохруста, Н. Кислика, Б. Спринчана. А есть писатели и поэты, которые не укладываются в смысловые рамки данной формулы, которые, являясь русскоязычными писателями Беларуси, одновременно являются и русскими писателями. Таковыми являются, например, поэты Вениамин Блаженный, Анатолий Аврутин, Константин Михеев, Юрий Сапожков, Любовь Турбина, Глеб Артханов, Татьяна Лейко, Дмитрий Строцев, Юрий Фатнев, Изяслав Котляров, Владимир Карпов и многие другие; из прозаиков значительная (возможно – большая) часть пишущих по-русски осознает себя представителями русской литературы Беларуси (в данном случае я ссылаюсь на опыт личного общения). Кстати сказать, санкции России или Беларуси на подобного рода культурную идентификацию не требуется: речь идет прежде всего именно о культурном явлении, а не о гражданстве. Требуется помощь и понимание, а если не помощь, то хотя бы активная воля не чинить препятствий и помех. Лично я ратую за совмещение двух представленных формул, «русская» и «русскоязычная» литература Беларуси, за точное, адекватное и, я бы сказал, деликатное их применение. Но если говорить о тенденции, о количественном и, что важнее, качественном преобладании писателей «русской» и «русскоязычной» ориентации, то пока ответ, который дает реальность, мне видится таким: русскоязычная литература Беларуси является в преобладающей степени русской литературой Беларуси. Чтобы не запутаться самим и не вводить в заблуждение общественное мнение, более корректным было бы популяризировать формулу «русская литература Беларуси» (имея в виду, конечно, что там, где необходимо, следует пользоваться понятием «русскоязычная литература Беларуси»). Разумеется, вопрос о русской и белорусской составляющей культуры Беларуси возник не сегодня. Конечно, в исторической ретроспективе точкой отсчета русской литературы Беларуси в известном смысле можно обозначить все то же универсальное, всем корням коренное «Слово о полку Игореве», творчество Симеона Полоцкого и т. п. Однако это все исторические конструкции и реконструкции, не более того. Они имеют право на существование, имеют логические и культурные обоснования, но ничего не проясняют в существе сегодняшнего понимания формулы «русская литература Беларуси». Одно дело, когда Беларусь была частью Российского государства, и совсем иное – процесс формирования собственной культуры на русском языке (по отношению к сегодняшним реалиям точнее было бы сказать – процесс формирования мультикультурного белорусского пространства, в том числе и русской его составляющей). Сегодняшняя русская литература Беларуси немыслима без традиций русской литературы (вне этого контекста русской литературы Беларуси просто не существует), и в то же время в русской литературе Беларуси начинают присутствовать традиции и контекст, которых не было, нет и не может быть в литературе русской. Это живой и противоречивый процесс, который требует постоянного осмысления и отслеживания. Аналитическое «обслуживание» такого процесса – задача литературной критики, которой не было и пока что, увы, практически не существует в отношении русской литературы Беларуси. В связи с этим отметим еще одну специфическую и весьма любопытную особенность, которая характеризует ситуацию, сложившуюся вокруг русской литературы Беларуси: литература есть, а критики нет, следовательно, литературы тоже как бы нет. Что это за литература, о которой «не говорят»? Ее не замалчивают, уточним истины ради, о ней именно не говорят, официально не говорят, – в силу, надо полагать, «очевидной» второразрядности «русскоязычного материала» (вот вам еще один семантический оттенок слова «русскоязычный»). Или как надо полагать? Есть поэты, есть писатели, но нет литературного процесса (составляющие которого – критика, устойчивый интерес научного литературоведения, изучение произведений в школах и вузах, наличие общественно-литературных изданий, системы продуманных культурных мероприятий) и как результат – нет «прописки» в общественном сознании, где русская литература Беларуси занимала бы подобающее ей место, свое место, не чужое. Специфичность ситуации видится также в том, что феномен русская литература Беларуси, который не осознается как некая целостность, как самодостаточный процесс, не представлен если не классиками, то знаковыми фигурами, как сейчас принято говорить (фигуры, достойные по своему творческому потенциалу такой чести, возможно, существуют, однако они не материализовались в общественном сознании в качестве «культовых»). Проблема «личность для истории или история для личности» в полной мере актуальна и для литературы. Более того, литературы без крупных творческих личностей просто не бывает. Если «звезды» не зажигают, значит, это никому не нужно? Или, того хуже, кому-нибудь нужно? У перечисленных мною поэтов, хороших и разных, живых и уже отошедших в мир иной, есть, в основном, профессиональная репутация, однако отсутствует общественная. Личность как персонификация феномена – вот чего так не хватает сегодня русской литературе Беларуси. Это, если угодно, проблема не собственно литературная, а общественно-культурная. С появлением ряда символических фигур (не обязательно, кстати сказать, «живых классиков»: все ведь можно сделать с умом) происходит и легализация самой культурной формулы «русская литература Беларуси» и укореняется ее статус в общественном сознании. Что же есть, если нет крупных творческих личностей «с репутацией», и даже отсутствуют внятные черты литературно-общественного процесса? Как ни странно, при дефиците ярких знаковых фигур есть достаточно заметные произведения. Писателей и поэтов как фигур общественно и литературно значимых и признанных (у нас, здесь, в Беларуси признанных) – словом, бесспорных, имеющих статус, если угодно, местных классиков – таких фигур пока нет, а отдельные произведения, которых набирается на добрую библиотечку, есть. Это также специфика русской литературы Беларуси на нынешнем этапе ее становления. В этом нет ничего страшного или ужасного, это совершенно естественно и нормально. Далее стоит отметить и такой момент: уровень поэзии на русском языке в Беларуси выше уровня художественной прозы. И это, скорее, свидетельствует не об уникальности ситуации, а о закономерности, относящейся к процессу становления литератур: художественная проза, особенно романы, это наиболее престижный и значимый жанр литературы, и расцвет романа, жанра по определению «концептуального», – это уже своего рода подведение неких предварительных итогов или, по крайней мере, завершение полного цикла. Великой литературы без великих романов не бывает – это с одной стороны; с другой – литература начинается с поэзии. Поэтому известный дисбаланс в соотношении поэзия – проза налицо. Правильной дорогой идем. Таким образом, уже само наличие литературных проблем свидетельствует о том, что «непонятно какая» литература, которая прижилась в «непонятно каком культурном пространстве», все же существует и развивается по классическим законам, свойственным любой литературе мира. Пора бы русской литературе Беларуси определиться с названием – следовательно, и с оригинальным культурным статусом. Именно так: выбирая термин для литературы то ли русской, то ли русскоязычной, мы определяем ее культурный статус. В известном смысле уже сейчас прогнозируем ее будущее (по принципу «как вы яхту назовете – так она и поплывет» вестном смысле уже сейчас прогнозируем еей будущее ().). Поэтому бурные дебаты «всего лишь по поводу термина» не должны никого вводить в заблуждение: это дискуссии о будущем литературы, у которой пока что темное настоящее. Тем не менее сам факт полемики является косвенным свидетельством того, что у русской (для кого-то пусть и русскоязычной) литературы Беларуси большой потенциал.
Заключение
Один общий роман, или Что нам Гекуба после Гекатомб?
Литературовед А. Зеркалов как-то заметил: «После гекатомб 1937 года, все советские писатели, в сущности, писали один общий роман: в этическом плане их произведения неразличимо походили друг на друга. Роман Булгакова («Мастер и Маргарита» – А.А.) – удивительное исключение…» (А. Зеркалов. Этика Михаила Булгакова. – М.: Текст, 2004. – С. 9)
В сущности, подобное происходит с ощутимой периодичностью: писатели всех времен и народов не сговариваясь на очередной волне новейших умонастроений (коллективного бессознательного, будем откровенны) начинают писать, как впоследствии выясняется, один общий роман, или пьесу, или стихотворение. По прошествии времени волне, образовавшей течение (направление), присваивают имя, словно эстетическому урагану или торнадо. Например, строгий Классицизм. Или разбушевавшийся Романтизм. Или суровый реализм. Или прикольный Постмодернизм. Все течет, все меняется, бушует и вновь стихает; не меняется только вот этот удивительный алгоритм: коллективное умонастроение дает старт новому общему роману.
Между прочим, данная закономерность свидетельствует о волновом, бессознательном характере художественной словесности, самого умного из искусств, однако. Литература, которую создают отдельно взятые писатели, оказывается феноменом массового ажиотажа. Индивидуум служит толпе? «Да это парадокс, и больше ничего!» – воскликнет какой-нибудь отдельно взятый читатель. И мы не оставим эту реплику без внимания.
Вот и сейчас на наших глазах (в данном случае речь идет о русской литературе, знаковой для мирового литературного процесса) формируется течение: все как сговорившись пишут один роман. На первый взгляд, подобное утверждение может показаться парадоксальным. Ведь мы, после гекатомб 1990-х, имеем неслыханное разнообразие: писатели решительным образом отличаются друг от друга: Виктор Пелевин не похож на Михаила Шишкина, Михаил Шишкин ничем не напоминает Владимира Сорокина, Владимир Сорокин – просто противоположность Людмиле Петрушевской, которая вообще как бы неповторима. Это мы сейчас упомянули постреалистов. А ведь есть еще крепкие реалисты (хотя и в них есть что-то от пост) – Захар Прилепин, Людмила Улицкая… Да что там! Свобода – мать разнообразия. Тут впору говорить о культе индивидуальности, уникальности и абсолютной непохожести. Просто исполнение мечты Маяковского: больше художников слова, хороших и разных. Куда уж больше…
Однако схожести у них, у этих неповторимых писателей, гораздо более, нежели различий. Они «неразличимо походят друг на друга» в плане мировоззренческом. Они схожи в главном: все как один дружно, словно по команде, отвернулись от разума.
И все как один, будто в ненавистном строю – напра-аво! в направлении правого полушария! с левой ноги! повзводно, поротно, шагом марш! – самым разнообразным способом стали выражать одно и то же: недоверие к разуму, к личности. Все как один отвернулись от личности и повернулись лицом к человеку, презирающему личность в себе.
А ведь их никто не заставляет писать один общий по смыслу роман, все делается на исключительно добровольных началах. Что за парадокс в парадоксе!
Откуда такое подозрительное единодушие?
Если кратко изложить то, что требует долгого и неспешного разговора, получается, к сожалению, нечто излишне категоричное и агрессивное (таков, увы, закон философского дискурса); «долго и неспешно» сегодня, когда все привыкли орать и вклиниваться, воспринимают как форму капитуляции.
Однако «глас вопиющего», в пустыне ли, в литературе ли, – занятный и, судя по всему, древний жанр, и если не остается ничего другого, то почему бы и не воспользоваться правом на крик, на блиц крик, я имею в виду?
Думать – значит, сверять свои мысли, желания и поступки с универсальной шкалой ценностей; иными словами, ставить заслон природному эгоизму «культурнорожденными» законами.
Не думать – значит, не замечать объективного присутствия в мире универсальной системы ценностей и действовать по принципу «делаю, что хочу»; иными словами, абсолютизировать эгоистическое начало в человеке, игнорируя начало культурное.
Мыслить – становится способом жизнедеятельности личности, субъекта культуры; не мыслить – способ существования человека (иногда говорят маленького человека, чтобы вызвать жалость к его неспособности быть личностью), субъекта цивилизации.
Альтернативой личности становится уже не глупец, а человек, интеллектуально развитый. Он мимикрирует под личность, создает видимость равного в культурном отношении.
Однако личность и человек различаются не качеством деклараций о благих намерениях, а качеством информационного отношения к миру: личность познает мир и оперирует законами; человек приспосабливается к миру, выдает приспособление за познание и в качестве единственного ведомого ему закона признает «заповедь», не вошедшую в нагорную проповедь: умри ты сегодня, а я завтра.
Вот это сакральное «из не вошедшего» и выдает интеллект с ушами: интеллект является функцией психики, то есть бессознательного отношения к жизни; однако (вот он, его величество парадокс, одно из немногих на сегодняшний день достижений культуры!) интеллект может выполнять также функции «неангажированного сознания», – и тогда человек начинает мыслить, превращаясь в личность, а в интеллекте появляются проблески разума. Культ личности в человеке или человека в личности? На этот вопрос интеллект и разум отвечают с противоположных позиций.
Жизнеспособность интеллекта не следует путать с жизнеохранительной миссией, за которой стоит философия (читай – универсальная система ценностей).
Разум – это инструмент, с помощью которого человек может понять себя, то есть выстроить свои отношения с высшими культурными ценностями. Интеллект, которым заправляют бесы сознания (ср. бес-сознательный), – инструмент, с помощью которого человек запутывает свои отношения с культурой, делая культурно неактуальным само понятие истина.
Интеллект, каким бы развитым он ни был, не меняет главную потребность человека: потребность приспособления так и не становится потребностью познавать. Поэтому потребность витийствовать, медитировать, принимать позу мыслителя не превращается в потребность мыслить. Интеллектуальная игра не становится философией. Интеллект, как бы разум, замутит как бы философию. Так вот как бы и живем.
Парадоксальным выражением неспособности думать сегодня становится какая-то мультяшная мудрость: у меня есть мысль, и я ее думаю (таким нехитрым способом разводятся мысль и мышление). Забавное сходство с императивом натуры налицо: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Это уже архетип, от которого рукой подать до закона.
По сути получается именно так: кто думает мысль, тот расписывается в своем неумении мыслить, ибо: мысль, ставшая законом, не принадлежит тебе, а мысль, твоя мысль является и не мыслью вовсе, а так, навеянным ощущением. Чувством, если называть вещи своими именами. И «мысль» эту можно «ужинать», «танцевать», «думать» – можно делать с ней все, что угодно, ибо закон «думаю то, что пришло мне в голову» («вижу то, что хочу видеть») никто не отменял.
Только называйте кошку – кошкой: мысль – мыслью, чувство – чувством, неспособность мыслить – глупостью, способность творить законы – философией.
В этом контексте литература, ставшая на защиту прав человека, представляет собой чрезвычайно жалкое зрелище: она защищает то, что губит великую литературу, или, если угодно, то, что лишает литературу возможности стать литературой.
Казалось бы, всего-то: культ личности заменили культом индивида (как бы личностью). В конце концов, я ведь право имею. Это с точки зрения интеллекта.
С точки зрения разума, все гораздо сложнее и печальнее. Культ интеллекта становится формой культа бессознательного. Мыслящее существо заменили существом, имитирующим мышление. Великая литература никогда не отстаивала права человека (с его великим правом – не думать): это миф, запущенный индивидами; «мертвые души», заполонившие культурное пространство, словно сорная трава-мурава, интересовали великую литературу именно как «мертвое живое», как угроза культуре; великую литературу интересовал путь от человека к личности (или наоборот: но точка отсчета при этом всегда была – личность); ее интерес – всегда и только – были права личности, права человека мыслящего, то есть права, которые и поныне существуют, пожалуй, в виде абстрактного закона.
Но они существуют: как ориентир, как универсальная (sic!) система ценностей. Как осиновый кол, вбитый пусть даже в бархан (мы же в пустыне вопием, не станем этого забывать).
Вот откуда подозрительное едино-душие: у всех душа без рассуждений приняла безнравственный, без-умный императив индивида: раздавите гадину разума, долой культуру, личность – к стенке; кто был ничем, тот достоин всего. Этот императив стал выгодным и глобально легитимным, он кормит, потому как обслуживает потребность приспособления к нежеланию познавать.
Раньше все под тоталитарным прессом – «после гекатомб 1937 года» – писали умилительно-идеологический, социоцентрический роман (на разные лады обыгрывая беззаконие, ставшее законом: репрессивный универсализм советской этики стал объектом «обожания», потому что вселял жуткий страх); точка отсчета такого романа – интересы общества; теперь все пишут роман, отключив левое полушарие самым радикальным образом, изредка в культурных судорогах что-то там покритиковывая – типа дайте мне свободу не думать, уберите оковы культуры, бряцающей кандалами законов. Или совсем незатейливо: руки прочь. Не трожьте музыку (забредшую ко мне мою мысль) руками (разумом). Получается предсказуемый роман с непредсказуемым бессознательным, индивидоцентрический роман. Точка отсчета такого романа – потребности человека.
Да вот беда: свобода и разнообразие не спасают от одной упряжки, в которую, как оказалось, вполне себе впрягаются и конь, и трепетная лань, и рак, и щука, и всякие мутанты. Им по пути. Этот парадокс «по щучьему велению» и тянет воз «общего романа», который – еще одна культурная катастрофа – не претендует на истину. Вообще никак. Просто воз смысла в гору, не более того. Тяжело – да, и что из того? Кому сейчас легко? Разные писатели в едином порыве отказываются искать истину из принципиальных интеллектуальных соображений: на «этой волне» с истиной не то что не по пути – как-то себе дороже. Запишешься в правдоискатели – выпадешь из общей обоймы. Отстанешь от жизни. Нет, лучше быть как бы скромным.
И в этом что-то есть; скромность, несомненно, украшает, тебя начинают узнавать, однако скромность никогда не была достоинством великой – то есть, думающей – литературы. Опять грабли парадокса: не увернешься.
Что может написать человек, запрещающий себе думать, презирающий мышление (потому, конечно, что мышление презирает такого писателя)?
Что бы он ни написал, он всего лишь покажет язык культуре. Или фигу (все зависит от размеров скромности). Он будет кривляться, забавляя публику, потому что забавлять сегодня – главная стратегия «писателя» (тут бы покорректнее, поскромнее, если так понятнее: автора книг, что ли; и «читателя» у автора книг нет, у него есть поклонники, фанаты общего романа, единого прекрасного дискурса). Это вовсе не смешно. Забавлять означает завоевывать. Завоевать читателя сегодня можно одним единственным способом: угодить ему. Повернуться к нему передом, к личности задом.
Мифы работают, сказка становится былью.
Ибо: выгодно.
Вот она, вся сущность примитивной идеологии индивида, маленького человека, пишущего для таких же пигмеев.
Разнообразие в культурном смысле – это разнообразие не просто концепций, но культурных стратегий, вариативность познавательного отношения; ведь не тесно же на культурном поле Грибоедову, Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Толстому, Достоевскому, Чехову? Нисколько не тесно. Путь от человека к личности всегда уникален и тернист. Отсутствие внятных концепций ведет к пестроте, к формальному разнообразию, которое порождено единообразным приспособительным отношением. И здесь все лишь похожи друг на друга своим стремлением выделиться. Затратить столько усилий, чтобы не стать личностью, – это банально. Человека от личности отделяет гносеологическая пропасть, хотя кажется, что один маленький шажок. Нет, это от великого до смешного один шаг, а от человека до личности – пропасть. А ведь «великое» и «смешное» кажутся жутким разнообразием, тогда как личность и человек воспринимаются почти как синонимы.
Но внешность, то бишь культурная личина, обманчива. Не обманывает лишь закон, гласящий: культурно значимая оригинальность литературы определяется уровнем представленного в ней персоноцентризма. Как известно, каждый судит в меру своего понимания; так вот мера понимания писателя – это мера его приближения к персоноцентрическим ценностям.
И не следует питать иллюзий: кто был ничем, тот ничем и останется. Маленький человек – это культурный попрошайка. Сколько ему ни подавай, он никогда не станет работать в духовном смысле, то есть думать. Стоит ли писать «один общий роман», стоит ли лабать на рояле литературы, даже если попрошайничают, сучат ручонками миллиарды, нескучно проводящие время в прокуренном казино жизни? Сегодня даже «желудок в панаме» по отношению к этим жующим звучит неоправданно романтично; как назвать это стадо, чтобы никого не обидеть?
Стоит ли писать «один общий роман», вызывая уверенность у этих сильно чавкающих мира сего, что думать – удел слабых?
Вот в чем вопрос.
Ответ на который хорошо известен.
«Тем более. Зачем кричать-то?» (аргументы отдельных индивидов, как правило, излагаются не системно, зачем себя утруждать, а в виде отдельно взятых «убийственных» вопросов). «Императив культуры, как известно, гласит: не плакать, не ненавидеть, и даже не смеяться – а понимать. Про вопить вообще ничего не сказано».
Именно, именно. Золотые слова. Ай, да Спиноза…
Только вот когда поймешь, все равно вопить хочется (этот парадокс в императиве между строк зашифрован: так нас природа сотворила, к противуречию склонна).
Кроме того, вдруг на волнах сегодняшнего общего течения – как назвать этот форпост? постпост? постпостпост? донашиваем остатки с некогда барского, социоцентрического плеча? – творится «удивительное исключение» – вдруг кто-то пишет другой, персоноцентрический роман, точкой отсчета которого становится личность? Вдруг уже вторгается эпоха предчего-то-нового, персоноцентрического реализма, например? Вдруг мэйнстрим того, что сегодня робко пытаются обозначить как постреализм, возьмет и парадоксально обретет культурную плоть в виде персоноцентрического реализма?
А так бывает, ох, как бывает. И этот писатель воспримет краткий вопль как возглас в свою поддержку. Ему будет приятно. И такой парадокс вполне возможен.
Собственно, на него, на парадоксально мыслящего писателя, вся надежда.
Ибо: один в культурном поле – воин.
Пишущий свой, уникальный роман.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































