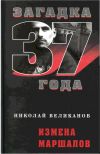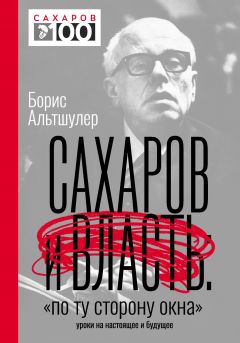
Автор книги: Борис Альтшулер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
Сахаров:
«Люся многое рассказала мне в первые же часы нашей встречи: о детях, внуках и Руфи Григорьевне, об операции и других медицинских делах, о написанной ею книге, о выступлении в Конгрессе США, о многочисленных действиях с целью способствовать изменению моего положения. Она рассказала также о появившихся на Западе гебистских фильмах (снимавшихся скрытой камерой на протяжении многих лет до голодовок, во время и после голодовок, в том числе на улице и в кабинетах д-ра О. А. Обухова и его жены, кардиолога д-ра А. А. Обуховой, на вокзале в Горьком, на почте и в других местах). Во время наших телефонных разговоров в декабре – мае Люся неоднократно пыталась рассказать о фильмах, но каждый раз, как она затрагивала эту тему, связь прерывалась.
* * *
Жизнь наша после Люсиного приезда потекла своим чередом.
Люсин багаж привезли в Горький с полным нарушением всех формальных правил. Из пришедших вещей Люся собрала 15–20 посылок с подарками для родных и друзей, и мы разослали их по адресам. Никакого общения с кем-либо у нас не было, почти как во время голодовки. Единственным радостным исключением явилась встреча 15 августа с моим однокурсником Мишей Левиным и его женой Наташей. Они были в Горьком проездом и прошлись перед нашими окнами. Я случайно вышел на балкон и, увидев их, выбежал на улицу. Потом мы провели с ними полдня, и ГБ нам не препятствовало. Но пытаться провести их в квартиру я не решился – их могли бы сразу схватить. Я глубоко благодарен Мише за эту и предыдущие встречи».
Михаил Левин (однокурсник по физфаку МГУ, из статьи «Прогулки с Пушкиным» в книге [5]):
«Через пять лет, летом 1986 года, нас с женой снова пригласили провести часть отпуска под Горьким. За эти годы положение круто изменилось. Прошли голодовки. Несмотря на поездку для операции в Штаты, Люся оставалась ссыльной, и все каналы связи были наглухо перекрыты. Поэтому в день отъезда Наташа и я с утра поехали в Щербинки, надеясь на удачу. День был пасмурный, моросило. Улица и двор были пусты. Мы постояли около лоджии, обошли дом, понимая, что на втором круге нас скорее всего засекут из окна опорного пункта. И удача нам улыбнулась! Оса запуталась в веточках домашнего цветка, и Андрей вышел в лоджию, чтоб выпустить ее на волю. Наташа окликнула: “Андрей Дмитриевич!..” Он махнул рукой, и мы отошли под навес соседней почты, куда он выбежал в одной домашней куртке.
Минут сорок мы простояли незамеченные, беспорядочно разговаривая обо всем сразу. Андрей опасался, что нас могут растащить, и начал расспрашивать про Чернобыль. У него была лишь официальная информация. Я мало что мог добавить к ней.
Было сыро и зябко. Андрей пошел за теплой курткой и, вернувшись, сказал, что Люся, несмотря на нездоровье, сейчас выйдет. Но еще раньше появилась “обслуга”. Они прошмыгивали около нас, некоторые с фото– и киноаппаратами, и не таясь, в открытую щелкали и жужжали.
Обслуга не унималась, и Люся предложила попытаться сесть в машину и уехать. Нас не задержали, хотя плотно проводили до машины. Поехали в Зеленый Город – главную зону отдыха горьковчан. По дороге на маленьком рынке купили огурцы и помидоры, в магазине, кроме хлеба, нашлись и сметана с творогом, дождь кончился. Сахаровы утром не успели поесть, и Андрей с удовольствием предвкушал “завтрак на траве”. “Трава” обернулась грубо сколоченным столом с двумя лавками, такие столы заботами горсовета были раскиданы по роще Зеленого Города, слава Богу, на большом расстоянии друг от друга.
Наружное наблюдение утратило прежнюю наглость. В ближних кустах и за деревьями Андрей засек пару “статистиков”. Время от времени мимо нас медленной походкой проходили какие-то штатские. Может быть, и обыкновенные прохожие. Парень приволок велосипед со спущенной камерой, выпросил у Люси автомобильный насос и, расположившись у нашего стола, полчаса “накачивал” камеру в режиме воздух-воздух.
В этой роще мы и провели несколько часов. Им было что рассказать о пяти прошедших годах… Сейчас обо всем этом можно прочитать в двух книгах воспоминаний Андрея и в Люсином “Постскриптуме”. Настроение шло по синусоиде. Радость встречи чередовалась с глухой тоской от нынешней безнадеги. У меня и сейчас звучат в ушах Люсины слова:
– Нас тут уморят до смерти, а на Западе все еще будут крутить проданные Луем кагэбиные фильмы. И зрители возрадуются – вот как хорошо живется Сахаровым в Горьком!
– Да и вас с Наташей могут теперь показать на американском экране. Так что и тебе недалече до Луевых гор[128]128
Луевы гоpы недалече от коpчмы на литовской гpанице («Боpис Годунов»). – М. Л.
[Закрыть]! – добавил Андрей, и я обрадовался отсылу к Пушкину. Значит, не сломали его эти годы.
Напоследок покатались в дозволенных режимом границах. Прощание было долгим и трудным.
Мы сидели в машине, говоря какие-то последние отчаянные слова. Андрей опять, как при первой нашей встрече, повторял пушкинские строки к Пущину. У Наташи в глазах стояли слезы. У меня сорвалось: “Промчится год, и с вами снова я”, но тогда в это не верилось.
Мы пересекли улицу, прошли сквозь арку. Сахаровская машина оставалась на месте…»
Елена Боннэр («Постскриптум» [28]):
«Стояло лето. Мы ездили по своему разрешенному кругу, как белки в колесе. Я терла витамин из смородины и варила варенья – много, чтобы хватило на всю долгую зиму. Слушали радио, по-прежнему чаще у кладбища. Так и называли его – “наше кладбище”, и мне казалось, что оно и будет нашим. Ни с кем, ни разу не разговаривали. Никого не видели, кроме прохожих на улице да вечных, казалось, своих топтунов. А они за эти годы если не состарились, то тоже как-то отяжелели, заматерели на своей безработной работе.
Все это время я очень много читала. Андрей сохранил все “Литературные газеты” за те месяцы, что я отсутствовала. Очерки и статьи о судах, Чернобыле, дискуссии о театре, съезд кинематографистов, съезд писателей, обещания всех редакторов всех толстых журналов напечатать Набокова, Ходасевича, Бека, Пастернака, Нарбута, уже опубликованная “Плаха”, “Карьер”, Астафьев. Я как будто вернулась в какую-то новую для меня страну (правда, это касалось только печатной продукции – остальное-то было как раньше). К моменту начала подписки на 1987 год я составила грандиозный список. Получалось, что надо выписывать все журналы, даже “Огонек”, который мы сроду не читали. Это в нашем затворничестве обещало какую-то новую жизнь. Прямо-таки “вита нуова”. Я не очень-то понимала, что означает слово “перестройка” для всей страны в целом (да и сейчас понимаю не больше), но что будет, что читать, – в это поверила сразу.
В конце лета мы были в кино. Смотрели прекрасный французский фильм “Бал”, а в ноябре выбрались на фильм Лопушанского “Письма мертвого человека”. Потом как-то сразу ударили морозы, и я намертво закупорилась в доме, но предвидела войну нервов с районным ОВД за мои явки (верней, неявки) на отметку. Я еще в октябре подала заявление туда, что не смогу во время морозов являться на отметку, так как после операции на сердце мне запрещено выходить на улицу при температуре ниже 9 градусов. Ответа я не получила».
Сахаров:
«Мы с Люсей часто ездили на машине в разрешенных узких пределах (как мы говорили – по “малому” или по “большому” кольцу; последнее включало небольшой участок Казанского шоссе и выезд к Волге), читали книги, смотрели по вечерам телевизор, а по утрам подолгу сидели за утренним чаем-кофе и болтали, выясняя спорные вопросы истории и литературы с помощью энциклопедического словаря. В общем оказалось, что мы хорошо выдерживаем испытание на психологическую совместимость в условиях изоляции от внешнего мира. Можно сказать, что мы были счастливы…»
БА:
В октябре (1986 г.) Сахаров направил письмо Горбачеву с просьбой об освобождении из ссылки.
Сахаров:
«Я долго колебался, следует ли мне писать такое письмо или ждать, пока решение об освобождении “созреет” без моего участия… Но я также чувствовал, что мое пребывание в Горьком или, наоборот, возвращение в Москву – это не только мое личное дело или наше с Люсей, а нечто, определяющее “стандарт” во всей проблеме прав человека в СССР. В конце концов я решил, что должен сделать все возможное для своего освобождения, прибавив свои усилия к усилиям столь многих людей, в расчете, что мое обращение, быть может, как-то повлияет на неизвестный нам баланс сил “там, наверху”. Когда наше освобождение стало фактом, взаимосвязь моего освобождения с судьбами других людей, с правами человека и гласностью, и трудности для меня, и ответственность московской жизни проявились даже с большей силой, чем я мог то предполагать.
23 октября я отправил письмо на имя Генерального секретаря… Письмо я окончил словами: “Я надеюсь, что Вы сочтете возможным прекратить мою изоляцию и ссылку жены”. Отправив письмо, я больше о нем не вспоминал в течение ближайших полутора месяцев.
* * *
Вечером 9 декабря Люся, как всегда, крутила ручку приемника. Помехи (глушение) в этот день были очень сильными, и поймать что-либо было трудно. Как всегда в доме, мы пользовались наушниками, чтобы не привлекать внимания наших индивидуальных “глушителей”. Один из сдвоенных наушников она протянула мне. Через треск в какой-то момент Люся и одновременно я услышали фамилию “Марченко”. На мгновение нам показалось, что речь идет о том, что Толя Марченко освобожден. Дней за 10 до этого мы слышали, что Ларисе Богораз предложили заполнить анкеты на выезд в Израиль. Она ответила, что должна сначала поговорить с мужем (и стала добиваться свидания). Мы рассматривали предложение властей как признак того, что дело Марченко “сдвинулось”, – Люся послала Ларе радостную открытку. С 4 августа Марченко держал голодовку в Чистопольской тюрьме, требуя облегчения участи политзаключенных и внимания к их судьбе, прекращения репрессий. Сам Толя был лишен свиданий 2 года 8 месяцев, много раз подолгу находился в карцерах и ПКТ. Я хочу напомнить, что в перерыве между его предпоследним и последним заключениями ГБ неоднократно предлагало Марченко эмигрировать “в Израиль в порядке воссоединения семьи”. Но он отказывался, не желая уезжать из страны, где он жил и сумел стать человеком (в высоком смысле этого слова), и не желая принимать участия в гебистских “играх” и обмане. После его отказа последовал арест.
Теперь, на грани гибели Толи, Ларисе предлагали то же самое.
Через несколько минут, однако, мы поняли, что речь идет не об освобождении. Ларисе Богораз сообщили, что ее муж умер. Она с сыновьями и невесткой в тот же вечер выехала в Чистополь. Ей не разрешили увезти тело мужа для похорон дома. Толю похоронили в Чистополе. Почти никаких подробностей обстоятельств Толиной смерти и его последних дней ей не сообщили. Известно лишь, что он до вечера 8-го находился в камере. Подошел к двери и попросил врача. Его перевезли в больницу в безнадежном состоянии. На теле Толи во время похорон были видны следы побоев, возможно полученных при принудительном кормлении. Продолжал ли он голодовку до момента смерти или прекратил ее за несколько дней до этого, неизвестно. Непосредственная причина смерти – якобы инсульт. Толе было 48 лет.
Смерть Толи потрясла нас, так же как очень многих во всем мире. Это был героический финал удивительной жизни, трагической и счастливой. Сейчас мы понимаем, что это также финал целой эпохи правозащитного движения – у истоков которого стоял Марченко с его “Показаниями”!
В воскресенье мы с Люсей случайно включили телевизор днем – чего мы обычно не делаем. Показывали пьесу Радзинского “Лунин, или смерть Жака” – о декабристе Лунине. Нас поразило совпадение основных линий в пьесе и в судьбе и трагедии Марченко. Лунин в камере перед смертью – он знает, что скоро придут убийцы, – вспоминает всю свою жизнь, сопоставляя ее с жизнью другого бунтаря из прочитанной им когда-то книжки. Он вспоминает, как Константин (брат царя) предлагал ему бежать, чтобы избежать ареста, а он не воспользовался предложением, и думает словами из книги: “Хозяин думает, что раб всегда убегает” (если у него есть такая возможность). И далее: “Но всегда в Империи находится человек, который говорит: Нет!” Это Лунин! И это – Марченко!
Из моего дневника тех дней: “Все время мысли возвращаются к этой трагедии, ко всей его (Толи) жизни, к судьбе Лары и Павлика. Все время чувство вины (и у меня, и у Люси)”.
По случаю Дня прав человека 10 декабря Люся (по призыву Эмне-сти) установила на окнах свечи – символ призыва к освобождению узников совести. На одном из окон свечей было три – в знак скорби по Толе (три свечи ставят на похоронах)».
Рабочая запись заседания политбюро ЦК КПСС 1 декабря 1986 г.[129]129
Печатается по газете «Сегодня» от 8 февраля 1994 г.
[Закрыть]
«Сов. секретно
Экз. единственный
Рабочая запись
Горбачев. Теперь о Сахарове и Боннэр. У меня есть такой документ (зачитывает[130]130
М. С. Горбачев имеет здесь в виду письмо А. Д. Сахарова от 22 октября 1986 г.
[Закрыть]). Видно, голова у него соображает и вроде бы в интересах страны. Этот момент меня больше всего заинтересовал. Давайте попробуем. (Зачитывает дальше.)
Он хочет вернуться в Москву. Надо воспользоваться этим и поговорить с ним. Обеспечить квартирой здесь.
Лигачев. Может быть, для начала пусть к нему поедет Марчук?
Горбачев. Да, надо послать т. Марчука к нему и сказать, что академики поговорили с советским руководством и оно поручило переговорить с ним, чтобы он включился в нормальную жизнь. Сказать, что все старое надо закрыть, страна включилась в огромную созидательную работу. Спросите, как он смотрит на то, чтобы свои знания, энергию отдать служению Родине, народу.
Громыко. Это хорошо, принципиально.
Горбачев. Если есть движение души, надо использовать. Как, Виктор Михайлович, не возникает осложнений?
Чебриков. Будем работать. Насчет квартиры. По улице Чкалова у него имеется хорошая двухкомнатная квартира. Они жили там вдвоем. Она полностью оборудована. Вторая квартира есть, где он жил с первой супругой. Это – четырехкомнатная квартира. Там первое время жили дети, потом они съехали. Но Боннэр там не хочет жить.
Горбачев. Ну, это их дело.
Чебриков. В Жуковке есть дача, где живут академики – Александров, Зельдович и другие атомщики. Там есть дача, которая построена государством. Она также свободная. Так что квартирный вопрос решен.
Горбачев. Так и сказать ему: квартира за Вами сохранена, дача тоже. Если у Вас есть какие-то другие вопросы, – пожалуйста. Но давайте включайтесь в работу. Вся страна сейчас энергично работает, и Вы тоже должны включиться.
Чебриков. Но он сказал в одном из писем: я обязуюсь вести себя лучше, но не смогу молчать тогда, когда нельзя будет молчать.
Горбачев. Пусть и говорит. Если же будет выступать против народа, то и расхлебывает пусть сам. Как, товарищи, не возникает ни у кого никаких вопросов в связи с этим?
Члены политбюро. Это даст нам выигрыш.
Горбачев. Тогда поручим т.т. Лигачеву и Чебрикову пригласить академика Марчука и сказать, чтобы он действовал.
Чебриков. Но надо и указ Президиума Верховного Совета СССР по этому вопросу принять.
Горбачев. Да. Может быть, мы сейчас импровизируем, но Вы вместе с т. Лигачевым проработайте этот вопрос, а потом пригласите т. Марчука и скажите ему все, что нужно сделать. Если бы мы раньше поговорили с Сахаровым, то, может быть, и не было бы такой ситуации. В общем, надо его приглашать.
Члены политбюро. Правильно.
Горбачев. Пусть едут корреспонденты, пусть разговаривают.
Чебриков. У нас есть некоторый опыт работы с ними.
Громыко. Только не допускать такую тематику, которая не желательна.
Чебриков. Должен сказать, что у нас не было повода, чтобы привлечь Сахарова за разглашение тайны. Он это понимает.
Горбачев. Виктор Михайлович, надо сказать т. Марчуку, что все нужно сделать так, чтобы это не было неожиданностью для общественности. Может быть, следует собрать Президиум Академии наук и сказать об этом. Пусть т. Марчук расскажет, что был в ЦК и беседовал по этому вопросу. А то получается, что ученые в свое время высказались за его выезд из Москвы, а теперь их даже не поставят в известность о другом подходе к этому вопросу.
Громыко. Я думаю, что ученые поступят правильно.
Горбачев. Тогда на этом закончим?
Члены политбюро. Да.
Постановление принимается».
Документы Политбюро ЦК КПСС:
9 декабря 1986 г. Секретарь ЦК КПСС Е. Лигачев, председатель КГБ СССР В. Чебриков и президент АН СССР Г. Марчук представляют в ЦК КПСС для согласования «предложения в отношении Сахарова А. Д.».
Лигачев, Чебриков, Марчук рекомендуют: 1) решить вопрос о возвращении Сахарова в Москву: «…возвращение обойдется в настоящее время меньшими политическими издержками, нежели продолжение его изоляции в Горьком»; 2) принять решение о досрочном освобождении из ссылки Боннэр путем ее помилования.
Сахаров:
«15 декабря исполнилось 25 лет со дня смерти папы. Вечером мы с Люсей, как обычно, смотрели телевизор, сидя рядом в креслах, Люся что-то штопала. В 10 или в 10.30 неожиданный звонок в дверь. Для почты слишком поздно, а больше никто к нам не ходит. Может, обыск? Это были два монтера-электрика, с ними гебист. “Приказано поставить вам телефон”. (У нас возникла мысль, что это какая-то провокация; может, надо отказаться? Но мы промолчали.) Монтеры сделали “перекидку”. Перед уходом гебист сказал: “Завтра около 10 вам позвонят”.
Мы с Люсей строили всякие предположения, что бы это могло быть. Может, попытка взять интервью для газеты? До этого было две попытки: в сентябре письмо из “Нового времени” и в начале ноября из “Литературной газеты” – предложение, переданное Гинзбургом в его письме. Я отказался, так как не хотел давать интервью в условиях, когда я никак не могу проконтролировать точность передачи моих слов, вообще не могу давать “интервью с петлей на шее” – это перефраз названия книги Фучика. В этот раз я также собирался отказаться.
До 3 часов дня 16 декабря мы сидели, ждали звонка. Я уже собирался уйти из дома за хлебом. Далее – на основе записи из моего дневника, с некоторыми комментариями.
В три часа позвонили. Я взял трубку. Женский голос: “С вами будет говорить Михаил Сергеевич”. – “Я слушаю”. (Люсе: “Это Горбачев”. Она открыла дверь в коридор, где происходил обычный “клуб” около милиционера, и крикнула: “Тише, звонит Горбачев”. В коридоре замолчали.) “Здравствуйте, это говорит Горбачев”. – “Здравствуйте, я вас слушаю”. – “Я получил ваше письмо, мы его рассмотрели, посоветовались”. Я не помню точных слов Горбачева, с кем посоветовались, но не поименно, и без указаний, в какой инстанции. “Вы получите возможность вернуться в Москву, Указ Президиума Верховного Совета будет отменен. (Или он сказал – действие Указа будет прекращено. – А. С.). Принято также решение относительно Елены Боннэр”. Я – резко: “Это моя жена!” Эта моя реплика была эмоциональной реакцией не столько на неправильное произношение фамилии Боннэр (с ударением на последнем слоге), сколько, главным образом, на почувствованный мной оттенок предвзятого отношения к моей жене. Я доволен своей репликой! Горбачев: “Вы сможете вместе вернуться в Москву. Квартира в Москве у вас есть. В ближайшее время к вам приедет Марчук. Возвращайтесь к патриотическим делам!”
Я сказал: “Я благодарен вам! Но несколько дней назад в тюрьме убит мой друг Марченко. Он был первым в списке в письме, которое я вам послал. Это было письмо с просьбой об освобождении узников совести – людей, репрессированных за убеждения”. Горбачев: “Да, я получил ваше письмо в начале года. Многих мы освободили, положение других облегчено. Но там очень разные люди”. Я: “Все осужденные по этим статьям осуждены незаконно, несправедливо, они должны быть освобождены!” Горбачев: “Я не могу с вами согласиться”. Я: “Я умоляю вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения. Это – осуществление справедливости. Это – необычайно важно для всей нашей страны, для международного доверия к ней, для мира, для вас, для успеха всех ваших начинаний”. Горбачев сказал что-то неопределенное, что именно – не помню. Я: “Я еще раз вас благодарю! До свидания!” (Получилось, что я, а не он, как следовало по этикету, прервал разговор. Видимо, я не выдержал напряжения разговора и боялся внутренне, что будет сказано что-то лишнее. Горбачеву не оставалось ничего другого, как тоже окончить разговор.) Горбачев: “До свидания”».
БА:
8 января 1980 г. Президиум Верховного Совета СССР, кроме открытого – опубликованного в «Ведомостях» – указа «О лишении Сахарова А. Д. государственных наград СССР», принял также секретный указ «О выселении Сахарова А. Д. в административном порядке из города Москвы».
17 декабря 1986 г., на следующий день после звонка М. С. Горбачева, Президиум принял два указа: «О прекращении действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахарова А. Д.» (с грифом «Секретно») и «О помиловании Боннэр Е. Г.» (с грифом «Не подлежит опубликованию»).
Вопрос об отмене Указа о лишении наград возник в 1988 г., но заглох по причине отсутствия интереса самого АД и в целом загрузки другими действительно важными и неотложными делами.
Погибший от COVIDа 29 ноября 2020 г. академик Владимир Евгеньевич Фортов говорил мне незадолго до кончины, что рассматривается вопрос об официальной отмене к 100-летию Сахарова 21 мая 2021 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 г. № 1390 «О лишении Сахарова А. Д. государственных наград СССР» (Российская Федерация как правопреемник СССР вправе это сделать).
Сахаров:
«Через три дня состоялась встреча с президентом АН Марчуком, о которой говорил Горбачев (не в квартире, а в Институте физики, куда меня привезли на директорской машине). Разговор происходил с глазу на глаз. Я впервые видел недавно избранного президента…
Марчук сказал, что он хочет обсудить мое возвращение к активной научной работе, мою общественную позицию. “Я хотел бы понять ваше кредо в общественных делах. Вы обладаете большим авторитетом, к вашему мнению многие прислушиваются”. Я ответил ему довольно развернуто – Марчук внимательно слушал. В некоторых пунктах он подчеркнул свое несогласие, в частности это касалось линии действий СССР в так называемых горячих точках (я сказал, что политика СССР иногда объективно является провоцирующей), проблемы Афганистана и принципа “пакета”, связывающего соглашения по вопросам межконтинентальных и евроракет с соглашением по СОИ.
Я особо выразил свою заинтересованность в судьбе узников совести. Марчук сказал: “Учитывая, что вы поднимали этот вопрос, мне сообщили из Президиума Верховного Совета следующее. Многие из интересовавших вас осужденных освобождены, или условно освобождены, или переведены на ссылку, некоторые получили разрешение на выезд за границу. Сейчас продолжается рассмотрение дел некоторых других лиц. Необходимым условием освобождения является, как мне сообщили, заявление об отказе от продолжения антиобщественной деятельности”. Я резко возразил: “Это посягательство на свободу убеждений, ломка человека, это неправомерно и несправедливо”. Марчук сказал: “Излишняя концентрация на негативных явлениях, которые сейчас изживаются, может привести к вашей изоляции в академической среде – это мнение многих академиков, с которыми я говорил”. Он упомянул о предстоящем в Москве Форуме по проблемам разоружения – я обещал подумать о своем участии. Я также высказал мысль о целесообразности моей встречи с Эдвардом Теллером. Это была бы встреча двух независимых и авторитетных людей для выяснения разных принципиальных подходов к проблемам разоружения, СОИ и т. п. Заключительная часть беседы касалась моего участия в МТР, проблем безопасности ядерной энергетики и предупреждения землетрясений. Я сказал о желательности привлечения к работе в ФИАНе Б. Л. Альтшулера.
Вечером того же дня (19 декабря) на телевизионной пресс-конференции в МИДе, посвященной мораторию на ядерные испытания, замминистра Петровский, отвечая на (инспирированный, конечно) вопрос, сказал: “Некоторое время тому назад академик Сахаров обратился с просьбой разрешить ему перебраться (!?) в Москву. Эта просьба рассмотрена, в частности в АН СССР, с учетом того, что Сахаров длительное время находился вне Москвы. Одновременно принято решение о помиловании гражданки Боннэр Е. Г. Таким образом, Сахаров получает возможность вернуться к научной работе – теперь на Московском направлении” (почти точная, на слух, запись телепередачи). Стиль бесподобен, так же как “фигуры умолчания”! Обращают на себя внимание ссылка на Академию и на длительность “нахождения вне Москвы” как на причину возвращения. Об указе в отношении меня – ни слова.
У нас с Люсей в те дни вовсе не было ощущения счастья или победы. Нас глубоко мучила гибель Толи. Кроме того, у меня было смутное, но неприятное чувство, вызванное моим письмом М. С. Горбачеву от 23 октября, – хотя умом я и понимал, что ни в коей мере себя не унизил и не взял на себя никаких юридических обязательств, ограничивающих свободу моих выступлений в важных вопросах, когда я “не могу молчать”. Более того, я и по существу не обманывал Горбачева в отношении своих действий – я действительно хотел ограничиться только важными общественными делами. Тем не менее я очень хорошо понимаю узников совести, для которых нелегко написать в качестве условия освобождения, что они не будут заниматься “антиобщественной деятельностью” (многие не написали требуемого и остались в заключении[131]131
Освободив сначала политзаключенных, написавших требуемое заявление, власти затем, в течение 1987–1988 гг., освободили и тех, кто отказался его писать.
[Закрыть]). Но вскоре все мои “рефлексии” отошли на задний план – неумолимый поток “свободной” жизни захлестнул нас, требуя ежедневных усилий и готовности принять на себя новую ответственность. Сил же у нас обоих сейчас гораздо меньше, чем 7 лет назад.
22 декабря мы, наскоро собрав несколько сумок и оставив в квартире большую часть вещей, выехали из Горького. Впервые за семь лет мы с Люсей вдвоем сели в поезд – до этого я только провожал ее, пока и она не “застряла” вместе со мной».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.