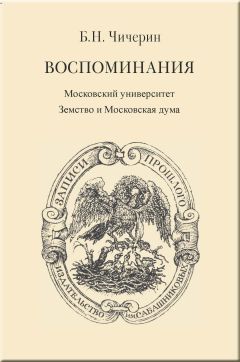
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 45 страниц)
Но кругом была чистая, гладкая, голая степь, с мелькающими кое-где деревнями и помещичьими усадьбами. Главное же, был недостаток воды; небольшой пруд через несколько лет совсем высох. Мы пробыли тут около трех недель. Погода все время стояла мрачная, холодная и сырая; но какое дело до погоды, когда сердце преисполнено счастьем?
Отсюда мы отправились в Тамбовскую губернию. При недавно построенных железных дорогах передвижения были не затруднительны. Я хотел представить жену моей матери, которая в это время переехала в Караул. Когда мы выехали из Вознесенска, дубы едва начинали распускаться; проезжая через Орловскую губернию, мы видели еще совсем голые ивы. Но когда мы 22 мая приехали в Караул, весна была в полном блеске. Густая и свежая зелень покрывала деревья; сирень пышно цвела, наполняя воздух благоуханием. Был прелестный, тихий и теплый майский вечер. Караул предстал нам во всей своей красе, как бы приветствуя молодую хозяйку, которая призвана была внести в него новую жизнь. На крыльце нас встретила слепая мать с иконою и священником, окруженная всеми домашними. Двор был полон народа; вся деревня была собрана, и мать представила нас миру как будущих хозяев Караула. Встреча была задушевная и трогательная. Это была одна из тех редких минут в жизни, когда все, что наполняет человеческое существование, и прошедшее и будущее, сливается в один радостный восторг, в одно невыразимое чувство бесконечного блаженства.
Пробыв в Карауле около месяца, мы опять поехали в Малороссию. Мне нужно было принять в свое управление полтавское имение, познакомиться с тамошним хозяйством, о чем я в первые дни после свадьбы, конечно, не думал. Жена повезла меня и по своим родным. Мы пожили некоторое время в Михайловке, Лебединского уезда, имении, которое некогда принадлежало Полуботку и от него непрерывною линией перешло по наследству моей теще, а после нее досталось брату жены, Василию Алексеевичу. Там, среди очаровательной природы и барского обилия, протекли счастливые дни ее детства. Громадный зал наполнен портретами предков. Возле усадьбы мне показали исторический дуб, под которым, по преданию, пировал Петр Великий после полтавской битвы; жена помнит еще прибитый к дереву деревянный орел, ныне сделавшийся жертвою тления. Мы посетили и родовое имение Капнистов[93]93
Приютный дом мой под соломойПо мне ни низок, ни высок;Для дружбы есть в нем уголок,А к двери, знатным незнакомой,Забыла лень прибить замок.
[Закрыть], прелестную Обуховку, воспетую дедом жены, Василием Васильевичем. Приютный дом его под соломой, к которому лень забыла прибить замок, возобновлен в прежнем виде. Внизу извилистый Псел течет под зелеными сводами, образуя острова, которых пышная зелень переплетается над его прозрачными струями. По берегам стоят громадные серебристые тополи в несколько обхватов, перед которыми старик князь Репнин проходя мимо, всегда снимал шапку, как бы воздавая честь могучей старине. Недалеко оттуда лежат Сорочинцы с знаменитою ярмаркою. Мы проезжали и через Миргород, полный воспоминаниями Гоголя. Мне все хотелось спросить: где дома Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича? Проезжали также через Кибенцы, где старик Трощинский, вышедши в отставку, жил на покое после многолетних государственных трудов. Мы вошли в старый запустелый дом и видели тот самый диван, где умер Василий Васильевич Капнист, приехавший навестить соседа. Все в этой стране полно литературных воспоминаний. И все, вместе с тем, дышит какою-то поэтическою негой. Я увидел лучшие места Малороссии, берега Псела, с бесконечно разнообразными и красивыми видами, с селами, утопающими в зелени, с неправильно разбросанными белыми хатами, окруженными садиками, с многочисленными помещичьими усадьбами, возвышающимися среди стройных тополей и нежной зелени белых акаций; я увидел горы с разноцветными песками, поля, тщательно обработанные плугом, старых чубатых хлопцев и грациозных малороссиянок, украшенных венками цветов на голове. Этот волшебный край, с мягким климатом, с тучною почвою, представляется одним из самых привлекательных уголков русской земли. И на природе, и на населении лежит печать мирного приволья и какой-то сладостной лени.
К осени мы вернулись в Караул, который и по местоположению и по устройству не уступал этим очаровательным местам. Я мечтал поселиться здесь и зажить помещиком, как жил мой отец, с меньшими средствами, однако достаточными для безбедного существования в деревне, для приема родных и друзей. Я был тут в родной среде и мог, занимаясь хозяйством и участвуя в местных делах, пользоваться достаточным досугом для продолжения ученой работы, которая составляла все-таки главную цель моей жизни. Но прежде нежели я имел возможность исполнить свои желания, пришлось совершенно неожиданно, по земским делам, провести зиму в Петербурге. Я был выбран директором Тамбово-Саратовской железной дороги от Кирсановского земства.
Это была пора железнодорожной горячки. Уже с самого начала царствования Александра II, когда для частной предприимчивости открылось широкое поприще, стали возникать общества для построения железных дорог. Первое образовавшееся частное общество получило концессию на дорогу от Москвы до Саратова. Сначала, однако, дела его шли плохо. Московский банкир Марк, который был главным акционером, разорился на этом предприятии. Но затем оно перешло в руки фон-Дервиза, который дал ему совершенно другой оборот. Не только он достроил участок от Москвы до Рязани, которым вследствие безденежья ограничилась старая компания, но он сам взял концессию на следующий участок, от Рязани до Козлова, и на этом нажил многие миллионы. Это было вполне заслуженное богатство: он был пионером и проложил путь. За ним кинулись и другие; в дело вмешались земства, которые хлопотали о проведении дорог по своим губерниям. Но с выгодностью дела росли и неправильные расходы. В Петербурге открылся настоящий рынок. Концессии получали те, которые умели деньгами и интригами привлечь на свою сторону влиятельных лиц. Между тем, как недавние преобразования более и более искореняли старую язву взяточничества в провинции, в высших бюрократических сферах оно получило страшное развитие. Для людей, ищущих заработать деньгу, соблазн был громадный. «Тут сидишь себе всю жизнь, – говорил мне Садомцев, – работаешь, как вол, и наколотишь, наконец, каких-нибудь десять, двадцать тысяч; а приедешь, в Петербург, тебе говорят: что это за пустяки? Можно в несколько дней получить сотню тысяч; умей только обделать дело».
И многие земцы поддались искушению. Первый пример подал орловский губернский предводитель Шереметев. Пользуясь связями, он выхлопотал для орловского земства концессию, которую передал Губонину, с уплатою миллиона земству и почти такого же магарыча себе. Я знал это из достоверных источников. Даже правительство было возмущено и несколько раз отказывало ему в утверждении в должности губернского предводителя. Но орловское дворянство с настойчивостью, достойною лучшего дела, выбирало его вновь, пока, наконец, правительство уступило. И чем же отплатил он своим избирателям? После первого земского собрания, в котором он, в качестве председателя, проявил всю свою деловитость, покончив с делами, запущенными в течение нескольких лет, он вдруг подал в отставку, как бы желая доказать, что он своим местом вовсе не дорожит. Когда мне сообщил это его тесть, Соловой, я сказал, что это пощечина не правительству, которое его утвердило, а дворянству, которое его выбирало. Впоследствии он понял, что сделал большую глупость, но было уже поздно. Дворяне не захотели выбирать его вновь.
В Тамбове искусителем явился Волконский. С своими сподвижниками, Садомцевым и Сальковым, они затеяли построить железную дорогу от Борисоглебска до станции Грязи на Козлово-Воронежской дороге. Осуществить это предприятие было тем труднее, что правительство в это время, вследствие финансовой скудости, приостановилось с выдачею гарантий и отказывало всем. Тамбово-Саратовская железная дорога была давно намечена в правительственных предположениях. Представителям местностей, хлопотавшим о проведении этого пути, было даже формально обещано, что он будет первым поставлен на очередь, как скоро финансовые средства откроют возможность гарантировать железнодорожные предприятия. Но, пока, дело стояло, и никакое общество не могло составиться. Как же, при таких условиях, можно было выхлопотать концессию на совершенно второстепенный участок от Борисоглебска до Грязей? Борисоглебцы изобрели земскую гарантию, и на этом основании правительство не только дало им концессию, но само взяло у них акций на несколько миллионов.
В 1868 году, когда я вступил в земство, это дело было только что сделано. Случилось, что на именинах моей двоюродной сестры Кондоиди я съехался у них в деревне с местными борисоглебскими дельцами. После обеда, за бокалом вина, я пристал к ним с вопросом: «Скажите пожалуйста, как вы получили эту концессию? Ведь не может же быть, чтобы правительство, которое в эту минуту отвечало отказом на ходатайства по важнейшим дорогам, из каких-либо видов общего блага дало вам концессию на дорогу из Грязей в Борисог-лебск»? После некоторого колебания они, наконец, признались: «Ну, что тут таить! Дело было заранее обделано между инженером Садовским и Рейтерном. Когда мы явились к министру, он прямо сказал нам: я даю вам концессию и беру для казны акций на три миллиона». «Всего более меня удивило одно обстоятельство, – прибавил Кондоиди. – Заявив министру нашу глубокую благодарность за оказанную милость, я сказал ему: «Ваше высокопревосходительство, я имел честь благодарить Вас в качестве борисоглебского дворянина; теперь позвольте мне в качестве тамбовского губернского предводителя, ходатайствовать о другой дороге, весьма важной для губернии, о Козлово-Тамбовской». «Этой я не могу разрешить, – отвечал министр, – она гарантируется только двумя уездами». «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, та дорога, которую Вы нам разрешили, гарантируется только одним».
Разумеется, и Тамбово-Козловская дорога была разрешена; давши концессию одному уезду, нельзя было отказать другим. Я потом рассказал этот анекдот Волконскому по поводу похвал, которые он расточал Рейтерну; он ужасно рассердился. «Должно быть, мои товарищи были очень пьяны, если они сказали вам такую штуку», – воскликнул он. Он мог сердиться на разоблачение, ибо сам получил весьма порядочный куш. Впоследствии мне случилось встретиться с Александром Борисовичем Казаковым, который вместе с Губониным был строителем Грязе-Царицынской дороги. «Волконский не может при мне отрицать, что он получил от меня акции даром», – сказал он мне. На эти акции было куплено большое имение Романовна в Балашовском уезде.
Самое замечательное в этом деле было то, что гарантия, которую брало на себя Борисоглебское земство, была чистою фикциею. Всякий человек, сколько-нибудь знакомый с положением местного хозяйства, мог знать, что уезд не в состоянии платить шестьдесят копеек с десятины, как они обязались. И точно, как скоро дорога была построена, те же борисоглебцы явились к Рейтерну с заявлением, что они такой громадной суммы платить не в силах. «Сколько же вы можете платить»? – спросил министр. – «Четыре копейки». -И гарантия с шестидесяти копеек тотчас была сбавлена на четыре. Так у нас строились железные дороги. Я как-то в разговоре с Садомцевым смеялся над этим способом обделывать дела. «Что же? уезд должен быть нам благодарен», – отвечал он.
В то же время была построена и Тамбово-Козловская дорога. Здесь главным деятелем был козловский уездный предводитель Горсткин, который на ней нажил себе состояние. Затем тамбовский губернский предводитель Башмаков выхлопотал себе концессию на проведение линии от Ряжска на Моршанск и далее на Сызрань, на этот раз даже с правительственною гарантиею. У министра внутренних дел Тимашева было огромное имение в Оренбургской губернии, откуда нужен был сбыт. Естественно, что эта дорога была сочтена существенно важною для государства. Одна Тамбово-Саратовская дорога обреталась в накладе. Не было высокопоставленного лица, которого интересы были бы тут замешаны; не было и ловкого дельца, который бы сумел обработать дело. Земские люди хлопотали, но взяток давать было не на что, и вопрос не двигался. В Комитете министров было даже постановлено, что эта дорога оказывается лишней, так как уже проводятся две параллельные линии к Волге: от Ряжска до Сызрани и от Грязей до Царицына; зачем же нужен еще путь к Саратову? Для нас этот вопрос был существенно важный, ибо с проведением означенных двух дорог наши соседи получали перед нами громадное преимущество. Чтобы иметь возможность с ними конкурировать, надобно было во что бы то ни стало выхлопотать концессию. Волею или неволею, пришлось прибегнуть к земской гарантии. Мы были приперты к стене, и другого исхода не оставалось. Саратовская губерния, город Саратов и Кирсановский уезд вошли с ходатайством о разрешении им гарантировать дорогу, и концессия была дана. Это было как раз перед самым моим вступлением в земство.
Уполномоченным от кирсановского земства был мой двоюродный брат, Николай Бологовский, человек умный и деловой, но в других отношениях не совсем надежный. Дорога была построена, однако на весьма невыгодных для земства условиях. В концессии стоимость ее была определена по 81 000 рублей на версту, сумма чрезвычайно высокая, и вдобавок при постройке не были даже соблюдены установленные в концессии условия, были уклоны, значительно превышающие норму, что должно было невыгодно отразиться на эксплуатации. Между строителями не было, в сущности, ни одного настоящего дельного человека. Деньги бросались зря, а толку было мало. Несмотря на полученные громадные суммы, ни один из них ничего не нажил. Гладины даже объявили себя банкротами, хотя был слух, что один из них кой-что приберег. Зато земские уполномоченные поживились. Представитель саратовского земства Лупандин купил имение в три тысячи десятин в Подольской губернии, куда и удалился. Бологовской впоследствии приобрел большое имение в Саратовской губернии. Все это нашему земству было известно; оно видело у себя на глазах и безобразное хозяйничанье, и постоянные кутежи. Кирсановцы смутились. Они влезли в дело, им совершенно неизвестное, и за которое они могли сильно поплатиться. Своему уполномоченному они перестали доверять. При выборах в директоры составившегося по постройке дороги правления он не был избран. Нужен был человек толковый и верный, который мог бы выяснить дело. Мои ревизии и доклады в губернском собрании побудили всех обратиться ко мне. Ехать в Петербург и погрузиться в совершенно незнакомые мне железнодорожные дела было мне вовсе не по вкусу. Однако, видя затруднение собрания и зная, что это вопрос для земства весьма существенный, я не счел себя в праве отказываться. Я объявил, что приму поручение на один год, постараюсь изучить дело и доложить о нем земскому собранию, а затем предоставлю ему выбрать другого. Так и было сделано. Осенью 1871 года я поехал в Петербург в качестве директора Тамбово-Саратовской железной дороги от Кирсановского земства.
Перед отъездом со мною случился эпизод, характеризующий судебные нравы того времени. Я был назначен присяжным в ту самую пору, как мне нужно было ехать в Петербург. Вообще, я от должности присяжного не уклонялся. Напротив, я вспоминаю, в особенности о первом разе, когда мне довелось заседать в суде, как об одной из хороших минут моей жизни. Так недавно еще в России, можно сказать, вовсе не было суда; он заменялся крючкотворством, взяточничеством и произволом. А тут я увидел процедуру, удовлетворяющую всем высшим требованиям правосудия, со всеми возможными гарантиями для подсудимого; представители общества призывались к участию в приговоре, и все это происходило в отечестве, которым мы могли в этом случае гордиться. Но на этот раз у меня было на руках общественное дело, не терпящее отлагательства. В это время в правлении происходили расчеты со строителями, и я, как представитель кирсановского земства, на которого возложена была обязанность разобрать дело, не мог при этом не присутствовать. Я поехал в Тамбов к председателю окружного суда и изложил ему свои обстоятельства. Он сказал мне, что я могу прислать заявление, которое будет сочтено законным поводом к неявке. Я так и сделал. Однако выехавшее в Кирсанов отделение окружного суда не признало приведенной причины уважительною и оштрафовало меня на сто рублей. Я подал жалобу в Саратовскую судебную палату, но та утвердила постановление суда на том основании, что земское дело не казенное, а частное! Далее я тяжбы не повел.
Переселившись на зиму в Петербург, я весь погрузился в железнодорожные счеты и расчеты. Правление состояло из пяти членов: двух директоров от гарантирующих земств, Лупандина и меня, двух от акционеров, англичан Гвейера и Гранта, и одного от строителей, Пахитонова. Последний впрочем никогда почти не ездил в заседание. Дело вел главным образом председатель Лупандин, человек смышленый и толковый; но он скоро выбыл: саратовское земство удалило его, так же как мы удалили Бологовского. На место его был прислан совершенно пустой человек, Коваленков. Мне предлагали председательское место, но я отказался, объяснив, что я долее года в правлении не пробуду и не имею притом ни малейшего желания отсчитываться перед предстоящим первым акционерным собранием: это должны делать те, которые вели дело с начала. На место Лупандина председателем правления был выбран Гвейер, занятый многими другими делами и имевший в Саратовской дороге весьма второстепенный интерес. Главным дельцом остался Грант, человек, приобретший на Волжском пароходстве репутацию высокой честности и деловитости, но состарившийся и оглохший. Многое поэтому лежало на правителе дел Струговщикове. Это был красивый мужчина, разыгрывавший роль светского льва в средних петербургских гостиных, а вместе подвизавшийся на чиновничьем поприще. Вскоре после моего выхода из правления обнаружилось, что он пользовался железнодорожными деньгами для собственных надобностей. Сделать это было тем легче, что бухгалтерия была в полном беспорядке. Настоящий бухгалтер умер; место его занял его помощник, Куричанов, который дела вовсе не понимал. Я не раз пытался разобраться в этом хаосе, но не мог добиться от него толку, мне случалось задавать ему разные расчеты, и он делал их навыворот. У нас по этому поводу были постоянные споры с Грантом. Тот жаловался на леность Куричанова: «Борис Николаевич, он не хочет работать», – говорил он. «Александр Александрович, он не может работать», – отвечал я. «Пока у вас будет такой бухгалтер, ничего путного выйти не может». Действительно, перед акционерным собранием правление должно было нанять двух бухгалтеров со стороны, чтобы распутать счета.
При таких условиях приходилось изучать дело, мне совершенно незнакомое. Я целое утро сидел в правлении, на дом брал старые журналы, дела и счеты, старался ознакомиться со всеми подробностями железнодорожного хозяйства. Два раза я ездил в Саратов, чтобы видеть ход дела на местах, где оно под ведением дельного управляющего, Бунге, шло удовлетворительно. Я ездил и на железнодорожные съезды, которые произвели на меня впечатление собрания людей толковых и смышленых, основательно знакомых с практикой, хорошо понимающих свои интересы, но для которых не только интересы публики были вопросом совершенно второстепенным, но и собственные обязательства становились ничего не значащими, как скоро они противоречили выгодам. Между прочим, постановлениями съезда и частными соглашениями была установлена норма для обмена вагонов между соседними дорогами, причем за излишек была положена плата. В силу этих обязательств, при обмене с Тамбово-Козловскою дорогою нам приходилось получать довольно значительную сумму, но нам в ней упорно отказывали, и железнодорожные тузы, которым я на съезде представил это дело, советовали мне не настаивать, ибо соседним дорогам выгоднее жить в мире, нежели во вражде.
В Петербурге мне пришлось познакомиться и с бюрократическими порядками, дожидаться аудиенций у министров путей сообщения и финансов, мыкаться по министерским канцеляриям и департаментам, где я нашел крайнюю рутинность, полное равнодушие к делу, а в руководителях, пользовавшихся известною репутациею, даже удивительное тупоумие. Все это было мне так противно, что я обещал себе впредь держать себя как можно дальше от этих сфер. Но когда я впоследствии был выбран московским городским головой, пришлось опять проходить через всю эту канитель. Результатом моей годовой работы был доклад, который я осенью 1872 года представил кирсановскому собранию. Он стоил мне много труда, ибо я все данные должен был собрать и группировать сам, без малейшей помощи от кого бы то ни было. Я излагал в нем историю и настоящее состояние дела, представлял все расчеты, входил в хозяйственные подробности, делал сравнение с другими дорогами, рассматривал виды на будущее и в заключение советовал последовать примеру Борисоглебского земства и хлопотать о сбавке гарантий, с каковою целью мною уже были начаты переговоры с министром финансов. Перечитывая теперь этот доклад, нахожу его обстоятельным и дельным. Им могли бы удовлетвориться даже люди, хорошо знакомые с железнодорожным хозяйством. Кирсановское собрание осталось им вполне довольно, с благодарностью приняло мою отставку и выбрало на мое место Олива, который в это время переселялся в Петербург.
Однако совету моему оно не последовало вследствие малого знакомства с воззрениями и условиями петербургских сфер. Паши земцы вообразили, что если борисоглебцам сразу сбавили гарантию с шестидесяти копеек на четыре, то нас должны совершенно от нее избавить, так как не были выполнены существенные условия, на которых мы ее давали. На этом мы и уперлись. Мы собрали гарантию, но ее не выплачивали, а оставляли в казначействе в виде запасного капитала, что и послужило главным поводом к растратам Пенина. Началась также война между земством и акционерами. В Саратове директором был выбран дельный и деятельный Штрик, который неутомимо подвизался на этом поприще. Но так как в правлении земские директоры были двое против трех, то ничего из этого не выходило. Хлопоты о снятии гарантии также не повели ни к чему. Успех в петербургской бюрократической среде зависит вовсе не от правоты дела, а от умения подладиться и заинтересовать кого следует. Пришлось, наконец, пойти на условия менее выгодные, нежели те, которые мы могли получить вначале, Только в прошлом 1892 году, по случаю голода, гарантия была с нас совершенно снята. Так прекратилась эта странная аномалия в русском железнодорожном хозяйстве.
Погруженный в железнодорожные дела, я в Петербурге мало ездил в общество. Однако пришлось витать и в высших сферах. Нас пригласили на бал в Аничков дворец, где обитал наследник. Жена пользовалась репутациею красоты, и ее хотели видеть. Из дальнего угла, где она стояла, не желая соваться вперед, ее вытребовали на середину залы для представления императрице, которая была с нею чрезвычайно любезна. Немедленно даже пожилые дамы начали за нею ухаживать. Затем вытребовали и меня. Императрица сказала мне, что она очень жалела о том, что я оставил университет. Я отвечал, что оставаться дозволительно только там, где можно оставаться с честью. Государь тоже подошел ко мне и сказал несколько любезных слов. Тем и ограничились наши представления. У Елены Павловны в начале зимы были довольно частые вечера по случаю приезда пруссаков, которых надобно было забавлять; позднее она мало принимала, ибо стала уже прихварывать. Были большие вечера и у графини Протасовой[94]94
К. Головин в своих записках («Мои воспоминания», т. I, СПБ. – М.) так описывает салон Н.Д. Протасовой – Бахметевой: «Дом графини Натальи Дмитриевны был настоящим местом священнодействия. И обедни в ее крошечной церкви, и ее утренние приемы по вторникам, и дававшиеся у нее балы – носили полурелигиозный характер. Здесь был свет по преимуществу, и его центральная точка, главный алтарь ее культа. В заключительной сцене своего «Дыма» Тургенев, кажется, намекал именно на этот дом, называя его «храмом».
[Закрыть]. Но все эти светские выезды, визиты и разговоры нагоняли на меня невыносимую скуку. Я не слыхал ни одной живой мысли, ни одного путного слова. Пустота, пустота бесконечная и однообразная, вот все, что я тут находил. Наполнявшие ее придворные, чиновные и светские интересы нисколько меня не занимали, а были мне скорее противны. Самая политическая атмосфера была в это время удушливая и гнетущая. О реформах не было уже и помину; вызванное ими юношеское одушевление исчезло. Это был самый разгар Шуваловской реакции, царствование Петра IV, как его тогда называли[95]95
Петр IV – прозвище всесильного в описываемые годы шефа жандармов графа П. А. Шувалова. Известна эпиграмма Ф. И. Тютчева, опубликованная Г. И. Чулковым («Тютчевиана», М., 1922, стр. 13):
Над Россией распростертойВстал внезапною грозой —Петр, по прозвищу Четвертый,Аракчеев же – второй.
[Закрыть]. В сущности серьезных реакционных мер не принималось; государь не допустил бы искажения собственного своего дела. Но оно было вверено людям, которые портили его по мелочам, исподтишка. Над всем ощущалась какая-то тяжесть. Люди, сочувствовавшие преобразованиям, поникли головой и молчали. С петербургским ученым и литературным миром я не имел сношений. Я считался консерватором, следовательно, врагом. Присматриваясь в течение многих лет к петербургским жителям, я разделял их на две главных категории, между которыми немного было посредствующих звеньев: на беснующихся и пресмыкающихся. Ни с теми, ни с другими я не имел ничего общего. Для последних я был слишком независим, для первых не довольно яростен. В Петербурге не только не с кем было сойтись, но почти не с кем было перемолвить слово. Из прежних моих друзей остались весьма немногие. С Кавелиным я давно перестал видаться; Николай Алексеевич Милютин в эту самую зиму скончался в Москве; Дмитрий Алексеевич весь погружен был в свое военное управление. Только беседы с баронессою Раден постоянно доставляли мне сердечное и умственное удовлетворение, хотя и она в это время, так же как великая княгиня, предавалась германофильским сочувствиям, которых я вовсе не разделял.
Я рад был вырваться из этой удручающей атмосферы, отделаться от нисколько не привлекавших меня железнодорожных занятий и возвратиться к сельской свободе и тишине. Я мог наконец исполнить свое заветное желание: жить независимым помещиком и отцом семейства. Жена тоже ни мало не жалела о Петербурге и охотно поселилась в деревне, к которой она с детства привыкла. У нас была уж дочь[96]96
Дочь Б. Н. Чичерина, Катя, умерла в конце декабря 1874 г. или в первых числах января 1875 г.
[Закрыть], источник семейных радостей, дающих полноту человеческому существованию. Все, казалось, устроилось как нельзя лучше.
В первый раз приходилось мне круглый год жить в деревне, заодно с природою, и это имело для меня неизъяснимую прелесть. Каждая пора года носит в себе свою, собственно ей принадлежащую поэзию, свое обаяние. У нас в России эти особенности выступают ярче, и переходы совершаются резче и быстрее, нежели на юге, а потому они чувствуются сильнее. Я любил не только лето с его разнообразными наслаждениями, когда караульский дом был полон, и вокруг матери собиралась семья. Мне милы были также осенние дни: и ранняя осень, когда вместо однообразного летнего одеяния, природа облекается в золото и пурпур, когда из свежей еще зелени дубов выделяются лиловый вяз, оранжевый клен и красная осина, когда облитый золотом лес глядится в прозрачной, гладкой, как зеркало, реке; и поздняя осенняя пора, когда человек закупоривается от внешней непогоды, на дворе воет ветер, а внутри тепло и уютно, и мирный домашний быт и семейное счастие чувствуются как бы с обновленною силою. Я любил и утренние осенние прогулки, когда под ногами хрустит мороз и шуршат увядшие желтые листья, волнуются туманы и утренняя свежесть, обдавая прохладой, вселяет бодрость и готовность на всякое дело. Мысль движется ясно и живо; умственный труд спорится. Тут начинаются и любимые мною садовые работы: посадка, порубка, проведение дорожек, начертание клумб. Затем, после утренней усталости и сытного обеда наступает длинный вечер с чтением вслух. И поэзия, и история, и старые романы, и воспоминания, все чередой проходит перед умственным взором и дает все новые наслаждения. Мирно встает день и мирно он кончается сладостным сном, обещая повторение за повторением.
И наступающая затем долгая зима имеет свое обаяние. В природе, облеченной белым покровом, водворяется торжественное и величавое молчание, подобно торжеству смерти вызывающее чувство бесконечного. Но это не смерть, а временный сон, собирание с силами для нового, радостного пробуждения. Порой среди этого однообразного величия взорам представляются чудные картины: при ярком вечернем зареве розовые оттенки на снежной пелене, над которою возвышается темная зелень сосен и елей; или покрывающий деревья пушистый иней, который всему ландшафту придает какую-то странную красоту и нарядность; лес стоит в серебристом уборе, рисуясь и блистая на глубокой синеве небосклона. Нам случалось при лунном свете гулять по осыпанной инеем роще; кажется, что забрел в какой то сказочный мир, где все таинственно и чудесно, и нет ничего похожего на земное существование: среди зимнего покоя природе как бы чудятся волшебные сны. А с восходом солнца эти сны сменяются другими; иней начинает оттаивать, и падающие капли, захваченные морозом, виснут на тонких и длинных ветвях берез; деревья кажутся как бы осыпанными бриллиантами, сверкающими на солнце миллионами огней. Видениями фантастического мира представляются и морозные узоры, начертанные на окнах, когда они при солнечных лучах или при лунном сиянии искрятся разнообразными блестками в самых причудливых очертаниях. Пешеходу зима доставляет много неудобств; но они заменяются катанием в санках по пустынному полю, по безмолвному лесу или по широкой гладкой реке, окаймленной дубравами, с возвышающеюся на холме усадьбою вдали. А там уже, после веселых святок, дни начинают быстро расти, возвещая приближение радостной поры; солнце ярче светит в окна и греет теплее; в воздухе чувствуется мягкость, ивы краснеют, с крыш падает капель и одни за другими являются столь знакомые с детства весенние впечатления: первые проталинки, ручьи по холмам, превращающиеся в шумные потоки, первые желтые и синие цветки, мало-помалу заполняющие и рощи и поляны, прилет птиц, громкий говор гусей на широком половодье, веселое пенье жаворонков под небесами, разлив, на целые версты потопляющий луга. Мы с женою в теплые апрельские дни нередко ходили вдоль сияющей на солнце водной равнины, гладкой, как стекло. Она любила садиться в легкий челнок и кататься по этому зеркальному морю. И вот уже подходит конец апреля; везде кругом, и в кустах около дома, и в рощах, и в дальних лесах тысячами голосов защелкают соловьи, раздается звонкое пение иволги и знакомый голос кукушки; из болот поднимается беспрерывный гул; вся природа как будто ликует и празднует свое обновление. С тем вместе зацветает пахучая черемуха; за нею вишни и яблони покроются белою, как снег, пеленою; яркая зелень лугов усеется желтыми цветами, которые превращаются в пушистые одуванчики, разлетающиеся при малейшем дуновении ветра; наконец пышная сирень является как довершение весеннего наряда. Май наступил в полном очаровании.









































