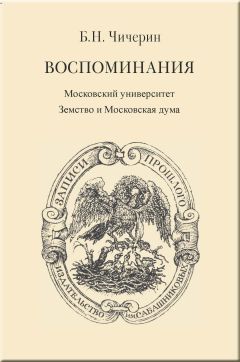
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 45 страниц)
Конец царствования Александра Николаевича
Москва в то время, как мы в нее переехали, была уже не прежняя Москва 40-х и 50-х годов. Дворянский город превратился в промышленный центр. В старое время она действительно заслуживала название сердца России. Сюда съезжались отовсюду самые зажиточные представители землевладельческого сословия, которое было господствующим в обширных пространствах русской земли. Здесь, в независимой среде, вдали от развращающего влияния двора, проявлялись чувства и мысли лучшей части русского дворянства, его пламенный патриотизм и его просвещенные стремления; здесь постоянно из него выдвигались люди образованные, даровитые и с характером, которые были украшением общества. Теперь Москва перестала быть сборным местом дворянства. Средней руки помещики, занятые хозяйственными и общественными делами, сидели на местах; более зажиточные, пользуясь удобством железных дорог и свободою выезда, жили за границею. В столице, более нежели в провинции, почувствовалось оскудение. Английский клуб ловил уже членов и сделался пристанищем невыносимой скуки. Иссякла и светская жизнь; не было тех беспрерывных празднеств, которых я был свидетелем в молодости. Балы стали редкостью; на них красовались преимущественно начинающие выезжать в свет девицы, которые с трудом находили женихов. Кавалеров набирали не только в университете, но и в гимназиях. Барские дома, один за другим, переходили в руки богатых купцов, которые выдвигались на первый план в замену расшатавшегося аристократического сословия. Но замена была плохая. Ни образованием, ни утонченными нравами, ни возвышенными стремлениями и интересами купечество не могло равняться со старым дворянством. Одно общество ушло, когда другое не успело еще сложиться.
Все литературные интересы сосредоточивались теперь в редакциях газет. Первенствующим светилом был Катков, с которым, однако, мало кто из порядочных людей имел сношения. У него собирались клевреты и поклонники, что было вовсе не интересно. С другой стороны, собирались у Аксакова, который был редактором «Дня». В год, предшествующий нашему переселению в Москву, тут было, говорят, значительное славянское беснование; но уже в следующую зиму все это испарилось, и жена его удивлялась такому быстрому исчезновению напускного политического интереса. Вскоре последовала ссылка в деревню за речь о Берлинском конгрессе, а когда он вернулся, его еженедельные вечерние приемы, на которые я иногда ездил, были только скудными и вялыми сборищами разных второстепенных, преимущественно славянофильствующих лиц; на них никогда не слышалось живого слова или сколько-нибудь интересного разговора. Славянофильство вымирало, а Аксаков тщетно старался его подогреть. Еще тошнее были вечера у Кошелева, который выбивался из сил, чтобы поддержать свои исторические вторники, но напрасно: все элементы умственной жизни исчезли, и, кроме нестерпимой скуки, здесь ничего нельзя было обрести.
В Москве была и третья крупная газета – «Русские Ведомости», которые, однако, по таланту далеко уступали первым двум. В то время редактором был еще Скворцов, но они уже сделались центром университетских и разных других социал-демократов. Каковы были эти господа, это лучше всего можно видеть из анекдота, который случился несколько позднее, но который я не могу не рассказать, так он типичен и забавен. В 80-х годах редакторы и сотрудники «Русских Ведомостей», «Русской Мысли» и их единомышленники собирались, по примеру парижских экономистов, ежемесячно на обед, который сопровождался послеобеденными речами. Обычаи, как видно, были самые просвещенные. В это время приехал в Москву известный писатель Брандес читать публичные лекции о русской литературе. Это был социал-демократ чистокровный, свой брат, делавший честь партии, а потому эти господа тотчас пригласили его на свой ежемесячный обед. Оказалось, однако, что ни один из них не владел достаточно каким-либо иностранным языком, чтобы свободно объясняться с Брандесом. В качестве толмача приглашали Герье, который держался совершенно другого направления. После обеда, когда начали произносить речи, Брандес стал расспрашивать Герье о их содержании и о направлении обедающего кружка. Герье объяснил ему, что они социал-демократы и вместе признают себя либералами. «Как это может быть?» – воскликнул Брандес. Герье стал его уверять, что это именно так. Тогда Брандес не вытерпел, он вскочил и обратился к собранию. «Что я слышу, господа? – воскликнул он. – Мой почтенный сосед уверяет меня, что вы социал-демократы, и вместе считаете себя либералами. Да ведь это невозможно! Это монстр! это – теленок о двух головах!» Но те, на своем жаргоне, привились доказывать ему, что то, что представляется теленком о двух головах, очень хорошо умещается в русских радикальных мозгах. Связь понятий составляла для них совершенно излишнюю роскошь.
Брандес так и уехал озадаченный. Этот анекдот рассказывал мне сам Герье.
И эти хаотические мозги владычествовали в университете, считались светилами и увлекали юношей! Вскоре я мог испытать на себе, что с полною путаницею понятий соединялось у них и совершенное отсутствие всякого чувства приличия. Это случилось по поводу изданной мною, совокупно с Герье, книгою «Русский дилетантизм и общинное землевладение», которая заключала в себе критику на сочинение князя А. И. Васильчикова о землевладении.[102]102
«Русский дилетантизм и общинное землевладение». Разбор книги кн. А. Васильчикова «Землевладение в земледелие», М., 1878. Б. Н. Чичерину принадлежат главы II, IV и V; В.И. Герье – главы I и III.
[Закрыть]
Происхождение этой книги было таково. Летом 1877 года, перед переездом в Москву, я отправился к Станкевичам в деревню, Бобровского уезда Воронежской губернии. Там жил и Герье, женатый на племяннице Станкевича[103]103
Евдокия Ивановна Герье, урожд. Станкевич.
[Закрыть]. Я нашел его в большом негодовании. Незадолго до того вышла упомянутая книга князя Васильчикова. Она была написана в социалистическом духе, а потому восхвалялась на все лады и в русских журналах и ученою братией. Я сам слышал, как профессор политической экономии в Московском университете Чупров на каком-то диспуте, в присутствии самого автора, пел ей восторженные гимны и ставил ее на первом месте в современной экономической литературе. Понадеясь на эти отзывы, Герье купил книгу и стал ее читать; но как же удивился он, увидав в ней сочетание самого колоссального невежества с невообразимым хаосом понятий! Он решил, что непременно следует написать критику; но так как он историею русского права никогда не занимался, а тут были исторические и юридические вопросы, касавшиеся России, то он обратился ко мне за содействием. Я сперва отказался. Зная князя Васильчикова, я не имел ни малейшего желания читать его произведения, а тем более заниматься их опровержением. Но тут у меня был досуг. Я две недели прожил у Станкевичей, и от нечего делать согласился прочесть книгу, которая возмутила меня, так же как и Герье. У Станкевичей гостил их приятель, Н. Н. Тютчев, вращавшийся в петербургских литературных кружках. Он горячо защищал книгу Васильчикова. Я увидел, что разобрать ее, в поучение русской публике, будет, пожалуй, не бесполезно, тем более что для этого не потребуется много времени. Мы разделили между собою работу. Я взялся написать главы об экономических воззрениях автора, о его взглядах на русскую историю, о его статистических выводах и, наконец, заключение, а Герье, принял на себя начало, главу о методе и разбор общих исторических воззрений князя Васильчикова. Вернувшись домой, я в две недели написал свою часть, но у Герье работа затянулась. Отвлеченный другими занятиями, он мог приняться за нее только в конце зимы, да и то писал наскоро. Потому его критика вышла довольно несвязная и мелочная, что несколько вредило общему впечатлению нашей книги. Тем не менее, удар был жестокий. Из Петербурга посторонние люди писали, что князь Васильчиков совершенно уничтожен: после непомерного превознесения последовало падение. Сам он пришел в такую ярость, что, даже несколько лет спустя, не мог говорит обо мне иначе, как с остервенением, считая меня главным автором и зачинщиком этого дела. Вместе с ним и русская журналистика озлобилась на науку, обличающую невежество. В ее глазах обличать грехи писателя с социал-демократическою тенденциею было непростительным преступлением. На нас посыпалась брань со всех сторон.
Разумеется, и ученый люд, восхвалявший книгу князя Васильчикова, не мог не сказать своего слова. В это время один из видных профессоров Московского университета, бывший харьковский студент, Максим Ковалевский, издавал маленький журнал под названием «Критическое Обозрение». Мне за достоверное сообщили, что сотрудником и даже вдохновителем этого издания, которое должно было служить органом передовой молодежи, был знаменитый парижский социал-демократический философ, если можно так назвать пародию на философа, Лавров. Ковалевского я почти не знал, но имел о нем невысокое понятие со слов Герье, который рассказывал, что этот молодой ученый, выдавая себя за знатока английских учреждений, в своей магистерской диссертации приписывал: дарование Великой Хартии вооруженному восстанию баронов, предводимых Симоном Монфортским, графом Лейстер.[104]104
Симон де Монфор переселился из Франции значительно позже (1236), уже после подписания Иоаном Безземельным в 1215 г. «великой хартии вольностей». Восстание баронов, во главе которого он стал, относится к 1263 г. и было направлено против Генриха III, сына Иоанна Безземельного. Таким образом, у Ковалевского здесь явная описка.
[Закрыть] В сущности это был хлыщ, который нахватался кой-каких сведений и во что бы то ни стало хотел играть роль, щеголяя перед студентами разными выходками во вкусе новейшего материализма и социал-демократии. Но как ученик Каченовского, он искал со мною знакомства. Мы встретились в Юридическом обществе, которого я был выбран почетным членом. Он заигрывал и почти насильно запряг меня в какую-то комиссию, которая не имела смысла.
Чтобы сделать ему удовольствие и вместе оказать внимание Юридическому обществу, я согласился пойти, но, разумеется, из этого ничего не могло выйти.
Вдруг, после появления нашей книги о Русском дилетантизме и общинном землевладении в «Критическом обозрении» появилась статейка, в которой, мимоходом и чисто голословно, Ковалевский презрительным тоном утверждал, что мои воззрения на общинное владение почерпнуты из старых, давно забытых немецких учебников и что я отвергаю признанное всеми новейшими исследователями существование общинного землевладения как первоначальной формы поземельной собственности[105]105
В№ 2 «Критического обозрения» за 1879 г. Ковалевский поместил рецензию на книгу Е. Нассе: «О средневековом общинном землевладении» в которой, между прочим, писал: «Еще недавно кн. Васильчиков высказывался в том смысле, что одним славянам известно существование общинной пахоты. С своей стороны, проф. Чичерин, не приводя никаких новых данных для подкрепления своей, по меньшей мере устаревшей теории, усиленно убеждал читателей, что русскому народу общинное землевладение на первых порах не было известно»… ит. д.
[Закрыть]. На подобные заметки обыкновенно не отвечают, и я твердо держался этого правила. Но Герье представил мне, что это журнал, издаваемый молодыми профессорами Московского университета, а потому могущий сбить с толку студентов. Он уговорил меня послать заметку в самое «Критическое обозрение»[106]106
«Критическое обозрение» 1879, № 4. В том же № помещен ответ Ковалевского.
[Закрыть]. Я написал, что не только никогда не отвергал первоначальной формы общинного землевладения, а напротив, прямо на это указывал в напечатанной еще в 56-м году статье о сельской общине, которую Ковалевский не потрудился прочесть[107]107
«Обзор истории развития сельской общины в России» («Русск. вестник», 1856,1, стр. 373–386, 579–602).
[Закрыть]. В последней его книге я вовсе не имел повода касаться этого вопроса, ибо хотел только доказать, на основании не подлежащих сомнению данных, что современное нам общинное землевладение не есть остаток древнейшей формации, а плод крепостного права и податной системы. При этом я сослался на цитированную мною еще в то время статью Грановского, напечатанную в Архиве Калачова, в доказательство, что взгляды, которые выдаются за результат новейших исследований, были хорошо известны уже двадцать пять лет тому назад[108]108
«О родовом быте германцев» (Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачевым, кн. II, пол. 2) М., 1855.
[Закрыть].
Тогда Ковалевский, видя, что он дал промах, кинулся в другую сторону. В своем ответе он стал уверять, что я, на основании старых немецких учебников, допускаю непосредственный переход от первоначальной родовой общины к личной собственности, помимо общинного землевладения. Это была возмутительная передержка. Я отвечал на этот раз уже не в «Критическом обозрении», а в «Русских ведомостях»[109]109
«Русские ведомости», 1879, 3 марта № 54.
[Закрыть], что приписывать мне подобное мнение нет ни малейшего основания, ибо я об этом вопросе не говорил ни слова. Тут же я сделал заметку и о Грановском, которого Ковалевский задел также неприличным образом. Я прибавил, что при таких приемах, дальнейшее ведение спора совершено бесполезно: отныне мой противник может писать все, что ему угодно; я отвечать не буду.
Тогда Ковалевский разразился, на этот раз тоже в «Русских ведомостях», самою неприличною статейкою, в которой, кроме пошлейшей брани, ничего не было. Я даже удивился, как Скворцов, которого я считал все-таки порядочным человеком и с которым я некогда был в хороших отношениях, решился напечатать подобный пасквиль[110]110
«Русские ведомости», 1879, 5 марта № 56.
[Закрыть]. После я узнал, что Скворцов в это время был в отсутствии; когда он вернулся, он так рассердился, что даже уволил Неведомского, который заступал его место в редакции. Несколько лет спустя я случайно встретил Неведомского; он передо мною извинялся, говоря, что в отсутствие Скворцова приезжали в редакцию Ковалевский с Чупровым, который был одним из главных сотрудников газеты, и оба так настойчиво требовали напечатания статьи, что он не счел себя в праве отказать. Рассказываю подробно этот пустой инцидент, чтобы показать, каковы были в то время ученые и литературные нравы и каков был уровень молодых профессоров Московского университета, нас заменивших.
По этому поводу Победоносцев писал мне из Петербурга: «Любезнейший друг Борис Николаевич, сегодня услышал, что вы втянулись в полемику в московских газетах с Максимом Ковалевским. Какой злой гений подтолкнул вам руку? Послушайтесь дружеского моего совета – бросьте это и как можно скорее, хотя бы последнее слово оставалось за противником. Разве можно в наше время в России пускаться серьезному человеку в полемику, и с кем же? Неужели вы еще надеетесь, что разумное слово будет услышано, что разумная аргументация подействует! Напрасно! Вы имеете дело с толпою, которая способна только хохотать, не разбирая, когда видит, что на улице дерутся или ругаются, и только кричит, кому попало: еще его! хорошенько! вишь, как он его отдубасил! И стоит ли растрачивать свои внутренние силы, которые собирать надобно, стоит ли сеять свое негодование! Когда на рынке под окнами галдят мальчишки и кричат, ругаясь, торговки, посидим дома, либо обойдем осторожно безобразную толпу, пробираясь, куда лежит наша дорога».
Я прекратил спор еще до получения этого письма, ибо так же, как Победоносцев, был убежден, что при современных наших литературных нравах и направлении в журнальной полемике можно только загрязниться, не принеся никакой пользы.
Не все, однако, молодые профессора Московского университета были такого пошиба, как Ковалевский с компанией. Были и почетные исключения. Из них более всех выдавался Герье, с которым я издал упомянутую книгу. Можно сказать, что в это время он главным образом поддерживал в университете истинно научное направление.
При таких элементах, при таком состоянии общества, для человека, ищущего жизни, движения, умственных интересов или даже просто развлечений, Москва представляла мало привлекательного. В литературных и светских собраниях царила скука. Но кто хотел жить тихо и мирно, в тесном кругу друзей, у кого были свои кабинетные занятия, тому трудно было найти в России более приятное место жительства. Тут не было столичного шума и суеты, не было всеподавляющего двора, источника всякой суетности и тщеславия; не было и низменных чиновничьих интересов, и постоянных рассказов о всякого рода интригах и гадостях. Официальный центр Москвы, князь Владимир Андреевич Долгорукий, в кругу, где я вращался, вызывал только улыбку пренебрежения. А с другой стороны, тут не было тесноты и мелочных сплетен провинциального города, где все смотрят друг другу в глаза и знают, что делается в каждом доме. Это была провинция, пожалуй, даже деревня, но раскинутая на обширных пространствах, с большим все-таки количеством людей и с большею шириною интересов. У меня были тут и свои старые добрые друзья, с которыми я часто видался. Ближайшими были Щербатовы и Станкевичи. Щербатов в это время не занимал уже никакой общественной должности. Он жил себе московским барином, значительно умножив и без того весьма хорошее состояние, наслаждаясь счастливою семейною средою. Его общительный и приветливый нрав, его сердечность, соединенная с большим здравым смыслом, высокое благородство его характера, приобрели ему всеобщую любовь и уважение. Его положение в Москве было, можно сказать, совершенно исключительное. Чем реже становились представители старинного вельможества, тем отраднее было видеть в нем одно из лучших его воплощений. Держа свои дела всегда в полном порядке, он тем не менее жил на широкую ногу и принимал весь город. Жена его[111]111
Княгиня Мария Павловна Щербатова, рожд. Муханова.
[Закрыть], смолоду блиставшая обаятельною грациею и красотою, сохранила в зрелых летах всю живость и свежесть необыкновенно восприимчивого и тонкого ума, искавшего постоянной пищи в разнообразном чтении, что было редкостью не только между дамами, но и между мужчинами. Одаренная горячим сердцем и пылким воображением, она равно могла быть центром оживленного салонного разговора и соединить вокруг себя тесный приятельский кружок. Детей она, вкупе с мужем, воспитывала в таком высоком нравственном строе, стараясь возбудить в них и умственные интересы и живое участие ко всякому добру, что любо было смотреть на их семейную жизнь. С дорогими своими друзьями Станкевичами я виделся почти каждый день и всегда находил у них и умственную и сердечную отраду. Старый наш литературный кружок распался[112]112
О литературном кружке, собиравшемся в 50-х годах в доме Станкевичей, см. в «Записях прошлого», Воспоминания Б. Н. Чичерина «Москва сороковых годов». М.,1929, стр. 199–201.
[Закрыть]; выбывал один член за другим, а новые не прибывали. Одно время Станкевичи пробовали приютить к себе наиболее подходящих из молодых профессоров: но это не пошло: за весьма немногими исключениями, молодые элементы были такого рода, что они плохо клеились с старыми и представляли собою мало интересного. Приходилось довольствоваться обломками прошлого. Всегда милым другом был милый Кетчер, которого одно присутствие доставляло сердечное услаждение. На зимние месяцы приезжал Дмитриев, в то время поселившийся в провинции и весь погруженный в земские дела. Изредка появлялся Забелин, а также разбитый параличом наш добрый друг Пикулин, у которого мы иногда собирались вечерком. Как опытный гастроном, он обыкновенно угощал нас маленьким ужином, сам варил севрюгу в кастрюльке и ставил бутылку отборного вина, с удовольствием показывая надпись: tire du chateau[113]113
«Разлива замка»– подразумевается замок Лафит (во Франции), прославившийся еще в XVIII в. своими виноградниками; здесь выделывалось первоклассное красное бордосское вино; среди любителей считалось особым шиком выписывать вино непосредственно от владельцев знаменитого замка.
[Закрыть]. У Кетчера же, в день его именин, б декабря, собиралась целая ватага, ибо у него были приятели во всех кругах. До глубокой ночи друзья его должны были пировать и упиваться шампанским.
В Москве были некоторые удовольствия и для любителей художества, как я. Выше я сказал, что в самом доме, где мы жили, был музей, с отличною картинного галереею, где были первоклассные произведения, между прочим Распятие Перуджино, античные и новые бронзы, фарфоры, всякого рода великолепные вещи. Вскоре после нашего выезда этот музей был продан. В этом отношении Москве не посчастливилось. Все накопившиеся в ней в течение XVIII века сокровища исчезли, не только старинные барские собрания, Растопчинская галерея[114]114
Галерея гр. Андрея Федоровича Растопчина состояла из предметов, собранных в 1817–1823 гг. в Париже и помещалась в его доме на Лубянке; в 1836 г. А. Ф. перевез ее в Петербург и значительно пополнил в 1846–1847 гг.; в 1849 г. он перевез ее обратно в Москву, где отделал для нее дом на Садовой и открыл в 1850 г. для обозрения публики
[Закрыть] и одна из Мосоловских, которые были проданы уже на моих глазах, но и то, что было присвоено городу Я слышал об этом изумительные рассказы от московских старожилов, любителей искусства, каких в старину было много. Вельможи времен Екатерины были все ценители и собиратели художественных произведений. В то время была мода; сама императрица подавала пример, и все ее любимцы и сановники считали долгом ей подражать. Между прочим, русский посланник в Вене во времена Французской революции, князь Дмитрий Михайлович Голицын, пользуясь смутною порою, когда все во Франции продавалось за бесценок, составил великолепную картинную галерею. После смерти он оставил ее при основанной им Голицынской больнице, с тем, чтобы город пользовался ею на вечные времена. Но случилось, что в Москву приехала императрица Мария Федоровна. Осматривая больницу вместе с попечителем, князем Сергеем Михайловичем Голицыным, она заметила, что хорошо бы больницу расширить и прибавить кроватей. Надо было добыть денег. В это время в Москве проживали несколько больших любителей картин: братья Мосоловы, Власов, Протасов. Они уговорили князя Голицына пустить галерею в продажу и на вырученные суммы расширить больницу, в 1818 году был аукцион; драгоценные полотна разошлись по частным рукам и впоследствии большею частью ушли за границу.
Я видел список их у Егора Ивановича Маковского, одного из интересных и типичных представителей старого поколения любителей искусства. Он был бухгалтер Дворцовой конторы, человек бедный, но страстно преданный художеству. Смолоду он жил в этой атмосфере и до конца жизни весь был в нее погружен. Он рыскал по всем углам, знал все, свято хранил предания, на свои скудные средства собирал и картины и гравюры, умел до тонкости ценить произведения искусства. Немудрено, что он воспитал целую семью даровитых художников. Но мало того, что Москва лишилась картинной галереи. Тот же князь Дмитрий Михайлович Голицын составил великолепное собрание рисунков, в числе которых были Преображение Рафаэля и Пляска Смерти Гольбейна. Оно перешло к его родственникам, Долгоруким. И тут опекуном был князь Сергий Михайлович Голицын. Опять понадобились деньги, решено было это драгоценное собрание продать. В сороковых годах оно было выставлено в Москве для продажи.
Но времена изменились, богатых любителей уже не обреталось. Два или три года продолжалась выставка, и не только не находилось покупателей между частными лицами, но само правительство отказалось от приобретения этих сокровищ. Наконец, зубной врач Жоли купил все собрание за десять тысяч рублей ассигнациями, увез его в Париж и там продал за большие деньги. Случай весьма характерный для тогдашней эпохи.
Из князей Голицыных нашелся, однако, один, который снова одарил Москву собранием художественных произведений. Племянник князя Сергия Михайловича Голицына, князь Михаил Александрович, служивший в дипломатии и долго состоявший русским посланником в Испании, был большой любитель и знаток искусства. Получив богатое собрание от отца и дядей, он значительно его приумножил, постоянно живя за границею.
Из всех собранных им и унаследованных редкостей он оставил в Москве публичный музей, который помещался в его доме, в том самом, где мы жили. При открытии музея было отслужено торжественное молебствие; прочитана была воля князя Михаила Александровича, в силу которой этот музей предназначался для Москвы и должен был навеки оставаться открытым для публики. Но в России вечность непродолжительна. Наступило новое поколение, и все это исчезло. Сын князя Михаила Александровича, князь Сергий Михайлович, не только не разделял вкусов отца, но вовсе лишен был ума и образования. Еще очень молодым человеком он женился на цыганке, потом с нею развелся, прижив четверых детей; насильно увез какую-то замужнюю даму, но и ее через несколько лет бросил, наконец, женился вторично, на гувернантке своих дочерей, которых он оставил при себе. В виду всех этих похождений он принужден был оставить военную службу и поселился за границею. Огромное состояние было значительно расшатано. Старинный барский дом, с стенами в два аршина толщины, с каменными сводами в нижнем этаже, дом, в котором жила Екатерина, стал раздаваться на квартиры. В наше время отдавался в наймы только нижний этаж, где мы помещались, а наверху был музей; но после нас весь дом был сдан под учебное заведение.[115]115
В 90-х годах, когда писались «Воспоминания», в доме кн. Голицына помещалось частное реальное училище Хайновского, позднее в нем был Народный университет имени Шанявского (до постройки им собственного здания на Миусской площади).
[Закрыть] На дворе воздвиглись новые постройки с коммерческою целью, а музей был продан, к счастью, на этот раз не в частные руки и не иностранцам, а русскому правительству, которое перевезло его в Эрмитаж. Но Москва окончательно лишилась картинной галереи.
Взамен старых русских вельмож разбогатевшие купцы начали собирать картины, но уже новейших школ, русской и иностранных. Так составились галереи братьев Третьяковых, Д. П. Боткина, Солдатенкова. Сохранились еще некоторые частные собрания и для ценителей старинного искусства. Такова была галерея, принадлежавшая Семену Николаевичу Мосолову, прелестному старику, представлявшему последний остаток старых московских бар, всецело преданных художеству. Это был, в более утонченной форме, такой же привлекательный тип прежнего поколения, как Егор Иванович Маковский. Его галерея, собранная еще его отцом, была одним из обломков знаменитого Голицынского аукциона. У Мосолова было составленное им самим великолепное собрание старинных гравюр, которым он часто услаждался. И в третьем поколении продолжалась та же страсть, наполнявшая всю жизнь. Сын Семена Николаевича, Николай Семенович, сам подвизался на этом поприще, побуждаемый и вдохновляемый отцом. Он был одним из видных русских граверов, и каждое новое его произведение рассматривалось и обсуждалось в небольшом кружке любителей.
Частью при моем содействии составилась небольшая, но очень хорошенькая галерея Станкевича. Истинным перлом была прелестная, купленная в Италии Мадонна Беллини, а также приобретенная в Москве картина Луини, изображающая Христа, несущего крест. Тут был Гверчино, первоклассный Гвидо-Рени, Мороне, Боль, Стеен, Ван-Гойен, в особенности Кюйп с очаровательным вечерним освещением, а из новых прелестный пейзаж Лессинга, пейзажи Каменева и Шервуда. В пятидесятых годах мы с Станкевичем со страстью предавались поискам. Тогда в Москве еще можно было приобретать хорошие вещи и не за дорогую цену. Иногда совершались дальние походы. Мне особенно памятен один, по своим характерным подробностям. Станкевичу сообщили, что в окрестностях Москвы, в Подольском уезде, продаются картины у помещика Медокса. Отец этого Медокса был первым антрепренером театра в Москве в начале нынешнего столетия.[116]116
Театр Медокса стоял на берегу р. Неглинки, на месте здания 2то МХАТа; он был построен в 1780 г. и существовал до 1808 г.
[Закрыть] В двенадцатом году его предприятие рушилось, но деньги у него были, и он тогда же накупил картин, которые уцелели в деревне. Сын был некогда военным, чуть ли не адъютантом наместника в Царстве Польском, но давно уже вышел в отставку и поселился в своей подмосковной. Мы решились туда ехать; но в самый день отъезда нам пришли сказать, что Медокс с семейством прибыл в Москву. Мы отправились к нему в гостиницу, чтобы переговорить о посещении. Оказалось, что он одну из дочерей выдавал замуж и ехал в другую деревню. Мы увидели тут двух девиц, разряженных, в шляпах с перьями. Деньги для свадьбы были нужны, и он решил тут же отправиться с нами обратно. Мы ночевали в Подольске и на следующее утро, по проселочной дороге, в маленьких санках гуськом, поехали к нему. Снаружи нас поразил вид совершенно разрушенного балкона с колоннами. Видно было, что старая помещичья усадьба вовсе не поддерживалась. Но это было ничто в сравнении с тем, что ожидало нас внутри. Изломанные столы, стулья без ножек, везде грязь невообразимая, вот что кинулось нам в глаза. Ничего подобного я не видывал. Можно было подумать, что тут стояла целая рота солдат. К тому же дом был истопленный, и мы принуждены были оставаться в шубах. Но всего печальнее было, когда он вздумал угощать нас обедом: еда была такая отвратительная, что буквально нельзя было ничего взять в рот, и вдобавок все подавалось на грязнейшей, избитой посуде, с сломанными и запачканными вилками и ножами. Если бы подобное хозяйство встретилось где-нибудь в захолустье, у нищего русского помещика, то и тогда бы оно привело нас в изумление как признак совершенно варварского быта. Но это было под Москвою; хозяин был сын англичанина, имевшего видное положение, сам бывший адъютант, обладатель двух деревень; дочери щеголяли нарядами. И к довершению контраста на стенах висели если не первоклассные, то весьма хорошие картины, которые вознаградили нас за нашу поездку.
В 60-х годах в Москве было некоторое оживление и между художниками. Перов, Каменев, Шервуд вступали в состязание и выставляли свои произведения. Но в семидесятых годах этот мимолетный порыв значительно ослабел. Перов умер, Каменев спился, а Шервуд разбросался; он писал и пейзажи, и портреты и исторические картины, хотел быть и скульптором, и архитектором, и поэтом. Везде проявлялся талант, порой довольно сильный, но чрезвычайно неровный. Я сблизился с этим чистым, наивным и восторженным жрецом искусства, который то вдруг возносился до небес, воображая себя русским Микеланджело и открывая неведомых гениев, то свирепо ратовал против современного равнодушия и низменного направления.
В полном упадке находился и столь высоко стоявший в прежнее время Московский театр. Крупные актеры, украшавшие русскую сцену, сошли в могилу. Не было ни Мочалова, ни Щепкина, ни Садовского, ни Шуйского. Один старик Самарин, который недостаток природного таланта заменял умною игрою, оставался хранителем старых преданий. Театр пробавлялся пьесами Островского, которые приходились мне вовсе не по вкусу. Я всегда находил, что изображение пошлости тогда только терпимо, когда оно сопровождается комизмом; при отсутствии юмора оно становится невыносимо. Упадок театра обнаруживался в особенности, когда давали какую-нибудь из крупных комедий старого времени. В 1883 году праздновали столетие Недоросля парадным представлением в Большом театре. И что же? Один Самарин, который играл смертельно скучную роль Стародума, умел ходить, стоять и говорить, как человек. Все остальные были из рук вон плохи. Я уехал раздосадованный после второго действия, будучи не в силах выдержать до конца, а Аксаков, который был тут же, уехал еще прежде меня.
Одна музыка процветала под влиянием Николая Рубинштейна. Если не было порядочной оперы, какие бывали в прежние времена, зато еженедельно давались симфонические концерты, на которые стекались толпы народа среди непомерной духоты, а также утренние квартетные собрания, на которые съезжались любители и даже посредственные слушатели, как я. Но для последних в особенности это было плохое утешение за оскудение во всем остальном. Москва конца семидесятых годов была, в сущности, не более как воспоминанием старой Москвы. Тем не менее в ней жилось тихо, мирно и приятно.
В тот год, как мы в ней поселились, был, однако, политический вопрос первостепенной важности, который занимал все умы, хотя без всякого толку. Я говорю о Болгарской войне.
Восточные замешательства и болгарская резня произвели в русском обществе небывалое возбуждение. Само правительство не только его поддерживало, но и поджигало. Не решаясь на первых порах выступить прямо и открыто на этот скользкий путь, оно действовало исподтишка. Своим орудием оно избрало Московский славянский комитет. Он не только послал в Сербию генерала Черняева, но направлял туда массы добровольцев, снабжал их деньгами и оружием, отправлял даже пушки. Это я знаю от самого Ивана Сергеевича Аксакова, который с удивлением восклицал: «Славянский комитет вел войну с Турецкою империею!» Однако война Комитета вышла неудачною, и русское правительство, затеявшее эту опасную игру, наконец, само было вовлечено в военные действия.









































