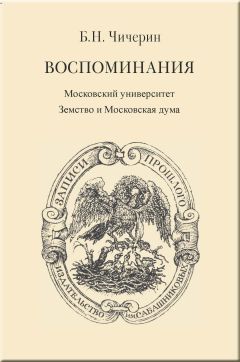
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 45 страниц)
Сначала петербургская жизнь его тяготила. В 1868 году он писал мне: «Здешняя жизнь мне не по душе – все так измельчало на здешнем большом рынке и мельчает все больше и больше, не по дням, а по часам. Когда бы у меня был такой угол, как есть у вас, любезнейший Борис Николаевич, охотно мы с женою оставили бы здесь все и уехали бы жить в деревню. Оттого, когда думаю о вас, как о деревенском жителе, невольно вам завидую. Вы на высоте, о которой мы здесь из болота, и мечтать не смеем». Позднее, в 1874 году, он опять писал: «Поистине благую часть избрали вы, ту самую, которую судьба возле вас поставила, т. е. поселились в деревне, где у вас не только покой, свобода и природа, но и общество людей близких и сочувственных. Вы там живете с мудростью, хотя и не змеиною, меняя кожу с каждой весной, а мы здесь разрушаемся в ветхой коже, и без всякой мудрости подвергаемся опасности превратиться в пресмыкающихся».
Но эти вопли сердца, просящегося на свободу, мало-помалу заглохли. При полном недостатке характера, он поддался тлетворному влиянию окружающей среды. Болото его затянуло и затопило выше ушей; грязь залепила ему глаза, так что он потерял даже способность различать добро и зло. Положение пресмыкающегося начало ему казаться естественным состоянием человека, а хождение на своих ногах непозволительным своеволием. Видя вокруг себя постоянные низости, он сделался к ним снисходительным и стал даже осуждать разделение людей на черных и белых. Все казались ему одинаково окрашенными в тот темно-серенький цвет, который господствует в петербургской нравственной атмосфере. Этому отчасти способствовали и семейные обстоятельства. Его тесть Энельгардт, которому он доставил выгодное место в Таганрогской таможне, крупно проворовался. Нужны были неимоверные ухищрения и хлопоты, чтобы выгородить его из дела, за которое другие пошли в Сибирь. Рассказывают, как достоверный факт, что нынешний государь, узнав из доставленного ему дневника умершего морского министра Шестакова, как Победоносцев его в этом деле обманывал, потерял к нему доверие. Строго винить за это нельзя: нужно слишком много твердости, чтобы не покривить душой, когда отцу жены приходится идти на каторжную работу. Мягкий Победоносцев всего менее был рожден спартанцем. Но это приучило его скрытничать, лукавить, интриговать. В сущности, это был единственный способ действия, который мог упрочить ему успех в петербургской среде, и он, при отсутствии характера, стал все более на него падок. Чем выше он восходил, тем глубже эти растлевающие начала всасывались в его плоть и кровь. Искреннее благочестие превратилось в узкий фанатизм; он стал гонителем всего иноверного. Новое царствование, в котором он на первых порах получил преобладающее влияние, сделавшись главным советником царя, в этом отношении развязало ему руки. Всюду обнаружилось его тлетворнее действие, то в притеснительных мерах, то в лживых советах. Он провел в министры народного просвещения Делянова и свел государя с графом Толстым, хотя хорошо знал свойства этих людей. В вопросе о новом университетском уставе он явился предателем. Вполне понимая все безумие этой меры, он сначала сам против нее ратовал, но затем поддался хныканью Делянова и настояниям Каткова: рассчитавши, что в конце концов ему все-таки выгоднее оставаться в союзе с теми, которые проводили эту меру, он посоветовал государю, после того как предложенный министерством устав был отвергнут большинством Государственного совета, вновь обсудить это дело в маленьком совещании лиц, подобранных из меньшинства, где единственным будто бы защитником противоположного мнения являлся сам потерявший совесть обер-прокурор. Таким извилистым путем, опять и опять русское юношество и судьба высшего просвещения в России были отданы на жертву чисто личным интересам. В характеристическом для современных наших государственных людей деле молодого Дервиза, которого рекомендованный Победоносцевым министр юстиции Манассеин, предлагал взять в опеку, деле, которое, по приказанию государя, разбиралось в Комитете министров, Победоносцев вместе с остальными подписал согласие, не считая даже нужным потребовать объяснения от обвиняемого и дать ему возможность сказать слово в свое оправдание. И когда вся гнусность этого приговора всплыла наружу, и оказалось, что не было ни малейшего повода лишать ни в чем неповинного человека гражданских прав, он, говорят, со слезами извинился перед государем, говоря, что был введен в заблуждение; как будто порядочный человек и вдобавок юрист мог заблуждаться насчет самых элементарных требований правосудия.[131]131
Победоносцев письмом от 29 апреля 1883 г. обратился к Александру Ш с ходатайством о прекращении дела его тестя. «Время коронации, – писал он, – время милостей чрезвычайных – единственный случай к прекращению этого несчастного дела по высочайшей милости в административном порядке». 27 мая он имел уже возможность благодарить царя за исполнение этой его «усердной просьбы» (Письма, т. II, стр. 29–31, 37).
[Закрыть] Наконец, даже в частных делах он стал проявлять такое полное отсутствие не только всякого чувства деликатности, но и простой честности, что прежние его друзья не могли не придти в изумление в происшедшей в нем перемене. Я мог это видеть на любопытном случае. Летом 1891 года появилось в газетах объявление о выходе учебника по истории церкви, изданного под редакциею Победоносцева. Я удивился, как это обер-прокурор св. синода среди всех своих дел находит еще досуг для издания учебников для народных школ. Приехав в Москву, я стал расспрашивать о нем Александру Николаевну Бахметьеву, которая тоже написала книгу по этой части. «Представьте, – отвечала она, – я тотчас послала купить его учебник, как только прочла о нем в газетах, и что же я вижу? Это ни что иное, как извлечение из моей собственной книги. Едва есть страниц двадцать чужих, а то все взято целиком, иногда с перестановкою некоторых фраз, даже совершенно бессмысленною». Приятели Александры Николаевны приезжали к ней даже с сетованием, что ее обокрали. Все думали сначала, что Победоносцев дал себя обмануть какому-нибудь чиновнику, которому он поручил работу. Но оказалось, что учебник составляла его собственная жена, под личным его руководством. И когда об этом пошли толки, которые дошли и до Победоносцева, он написал обобранному им автору такое иезуитское письмо, которое обличало всю сознательность его поступка и то странное состояние души, в которое поверг его одуряющий чад петербургской чиновничьей атмосферы. Спекуляция была выгодная, и обер-прокурор хорошо знал, что его не захотят и не посмеют притянуть к ответу. В письме к А. Н. Бахметевой он даже прямо говорил, что едва ли издатель ее книги может за это извлечение призвать его к суду.
Так низко пал этот человек, некогда столь чистый и полный самых возвышенных стремлений. Я не могу думать о нем без глубокой грусти. Что такое после этого человеческая душа и как мало она способна противостоять растлевающему действию почестей и власти! Глядя на него, я еще большим почтением проникаюсь к тем немногим, которые, как Дмитрий Алексеевич Милютин, сумели устоять против всех соблазнов высокого положения, и в развращающей среде сохранили неприкосновенною всю свою нравственную чистоту Долго я все еще верил в искренность Победоносцева и обращался к нему, как к старому приятелю, которого сердце, так же как и мое, билось на благо отечества. Но наконец я убедился, что кажущаяся его искренность не более, как нажитой внешний прием, который удержался при совершенно изменившейся подкладке. Когда он после 1-го марта стал проводить Делянова в министры народного просвещения, я пришел в ужас и негодование: «Помилуйте, Константин Петрович, – воскликнул я, да ведь это отребье человеческого рода, а вы хотите, при нынешних обстоятельствах, сделать его руководителем взволнованного юношества и поставить его во главе русского просвещения!» На это он стал объяснять мне, что Делянов удобен для проведения разных мер, тогда как с бароном Николаи не всегда сладишь, прибавляя, что, отзываясь таким образом о Делянове, я ничего не возьму. Но я ровно ничего не хотел взять, а только возмущен был до глубины души от такого отношения к важнейшим интересам отечества. Ниже я приведу отрывки из нашей переписки и расскажу, как я наконец высказал ему все начисто. Наши внешние отношения остались приличными, но я потерял к нему всякое уважение. Я искренно любил Победоносцева, скромного труженика; Победоносцев – обер-прокурор св. синода, в моих глазах, достоин только презрения. Это тоже одна из тех дружб, с которою пришлось с грустью расстаться.[132]132
Отношение Победоносцева к Чичерину в описываемую эпоху определяется в письме, написанном им 14 декабря 1878 г. Е. Ф. Тютчевой: «Чичерин мне приятель, но того тона, которым он пишет, я переносить не могу, и наши отношения от того портятся, что он наивно ждет сочувствия своим мыслям, а во мне нет его, и спорить с ним я не берусь, зная наперед, что его не убедишь и толку не выйдет. Я желаю только от души, чтоб Чичерин не попал в люди, власть имущие».
[Закрыть]
Совершенно иной человек был Сабуров. Я знал его с детства. Наши семьи были дружны. Отличных душевных свойств, честный, прямой, но недалекий, он вовсе не был подготовлен к тому положению, на которое он был призван. Воспитанный в Царскосельском лицее, где образование получалось более чем посредственное, он служил сначала по министерству юстиция, где в качестве председателя петербургского окружного суда приобрел весьма хорошую репутацию. К сожалению жена его[133]133
Елизавета Владимировна Сабурова, рожд. графиня Соллогуб.
[Закрыть], дочь известного писателя графа Соллогуба, женщина довольно суетная, но в которой он души не чаял, тянула его вверх. Сперва он поступил директором департамента министерства юстиции, а затем перешел в министерство народного просвещения и сделался попечителем Дерптского учебного округа.
Там она любезничала со всеми профессорами, а он, с своей стороны, старался всеми мерами приобрести популярность между немцами, которые были от него в восторге и превозносили его до небес. Когда Толстой был уволен, государь спросил его: кого из попечителей он может рекомендовать на свое место? Тот указал на Сабурова, который и был назначен. Это показывает, как мало у него было способных людей. В сущности эти два лица представляли между собою полный контраст: один был темный негодяй, другой вполне честный человек; один был ярый крепостник, другой был легенький либерал. Непонятно даже, с точки зрения нормальных человеческих отношений, каким образом Сабуров мог служить при Толстом, и как Толстой мог рекомендовать Сабурова. Но в чиновничьей сфере все как-то сглаживается и слаживается.
Сабуров искал, однако, пособников. Он понимал, что с персоналом графа Толстого оставаться нельзя. Весною 80-го года брат Владимир поехал в Петербург по земским делам. Он встретил Сабурова, который сказал ему, что он очень желал бы меня видеть и хочет предложить мне место попечителя. Мы вошли в сношения; свидание было назначено в Москве, во время открытия памятника Пушкину. Я поехал ко дню торжества, но по случаю смерти императрицы оно было отложено. Дожидаться я не захотел. Мне нужно было ехать в Малороссию, и я написал Сабурову, что если ему необходимо видеть меня именно теперь, то я, по возвращении, проеду в Петербург; но лично я предпочел бы иметь перед собой свободных шесть месяцев, так каку меня в ходу ученая работа, которую я желал бы привести к концу. Я в это время писал сочинение «Собственность и государство». Нигилистическое движение убедило меня в необходимости выяснить эти вопросы в форме, более или менее доступной для читающей публики. К концу осени у меня готов был первый том.[134]134
I часть вышла в Москве в 1882 г., II ч. – в 1883 г.
[Закрыть]
Между тем, Сабуров принялся за свое путешествие по России, которое произвело на меня самое странное впечатление. Легкомысленные речи при отсутствии всякой серьезной мысли, какое-то развязное заигрывание и либеральничание были вовсе не к лицу человеку, поставленному во главе русского просвещения. Такое же впечатление он производил и на других благоразумных людей. Баронесса Раден писала мне из Костромы, где она проводила лето у своей сестры: «Трудно было бы представить себе фиаско более полное, чем то, которое постигло Сабурова: он осуществляет собой в полной мере где-то вычитанные мною у Цицерона слова: воображение без таланта и власть без здравого смысла – это злейшие из бичей. Быть может этот бледный призрак министра был менее несчастлив в другом месте. – Здесь он оставил отвратительное впечатление. Его глупое шествие по России в сопровождении господина Висковатова в роли «Пятницы» показалось верхом неприличия. Он шокировал благоразумных людей, привел в уныние немногие серьезные умы этого уединенного уголка и вызвал шуточки со стороны вредных посредственностей, которым он льстил. Куда же девал он свою простоту и что сталось с умеренностью нашего доброго Сабурова, который порой был так глуп, но так преисполнен прекрасных и серьезных чувств? Вообще вокруг нас происходят странные события».[135]135
В подлиннике отрывок из письма приводится на французском языке.
[Закрыть]
В ноябре, когда я уже собирался в Москву, я получил от него телеграмму с просьбою приехать в Петербург. Я тотчас отправился. С первых же слов он предложил мне должность попечителя, по моему выбору, в Москве или в Петербурге, ибо и здесь и там были вакансии. Я отвечал, что во всех отношениях предпочитаю Москву. «Очень рад, – сказал он, – ну, теперь нам надо условиться на счет программы». Он вынул бумагу и начал читать мне целый ряд пунктов о предполагаемом им корпоративном устройстве студентов. Им разрешались сходки, кассы, читальни, столовые, все под управлением собственных выборных. «Бога ради, Андрей Александрович, – воскликнул я, – что вы затеваете? Да вы хотите разом зажечь избу на всех четырех углах!» Он совсем опешил. Я начал ему доказывать, что по дерптским студентам нельзя судить о русских; что я все это видел вблизи и знаю, что такое сборища и увлечения молодых людей; что настоящее смутное время менее всего благоприятно для узаконения студенческих сходок и для водворения всяких студенческих прав. Он отделывался пошлыми либеральными фразами. Мы протолковали несколько часов; он оставил меня обедать, и после обеда мы опять толковали. Наконец, я ему сказал: «Знаете, Андрей Александрович, я думаю, что мы с вами не сойдемся и что лучше от этого отказаться. Принять попечительство при таких условиях, помогать вам в таком деле, которое я считаю в высшей степени вредным, я по совести не могу. Но как человек близкий вашему семейству и всю жизнь свою посвятивший русскому просвещению, я умоляю вас быть осторожным. Вы в несколько месяцев наделаете таких дел, что их после не расхлебаешь и в десять лет». «Нет, погодите, – отвечал он, – приезжайте завтра утром. Я подумаю, а вы подумайте с своей стороны». На следующее утро, когда я приехал, он сухо сказал мне, что не может отказаться от своей программы, а я изъявил сожаление, что не могу быть ему пособником. Потом я узнал, что в это самое утро, еще до моего приезда, в Москву была послана телеграмма моему шурину Капнисту, который в это время был прокурором Судебной палаты, с предложением принять место попечителя Московского учебного округа. По-видимому, программа Сабурова была уже пущена в ход, так что ему трудно было от нее отступиться. Едва ли даже, в бытность его в Ливадии, во время путешествия по России, она не была показана государю. Мне рассказывали, будто, возвращаясь оттуда в одном поезде с наследником и цесаревной, он так их растрогал своими планами на пользу русского юношества, что те плакали. Мне оставалось уехать обратно в Москву; но Победоносцев сообщил мне, что он встретил цесаревну, которая сказала ему, что наследник очень желает меня видеть, и чтобы я непременно приехал. После смерти покойного его брата я сперва считал долгом представляться ему всякий раз, как бывал в Петербурге; но потом, видя, что свидания ограничиваются несколькими пустыми фразами, которые были в тягость обоим собеседникам, я перестал являться, полагая, что если я на что-нибудь могу быть нужен, то за мною пришлют. На этот раз он сам хотел меня видеть по вопросу, которым он интересовался, и я надеялся услышать наконец хоть какое-нибудь путное слово. После получасовой аудиенции я вернулся в полном отчаянии: ни одной живой мысли, ни одного дельного вопроса я не слыхал. Все ограничилось возгласами: «Ах, это очень жалко!» С тем меня и отпустили. Боже мой, что же готовит нам будущее? думал я с ужасом.
Вопрос был, однако же, так важен, стремление взволновать всю русскую университетскую молодежь и внушить ей всякие несбыточные мечты о своих правах было так опасно, что я счел обязанностью изложить свое мнение письменно. Я составил небольшую записку, один экземпляр которой я переслал через Победоносцева наследнику, а другой передал Абазе. Графа Строганова в это время не было в Петербурге. Абазауговаривал меня остаться еще один день, другой. Ждали возвращения государя из Крыма; с ним ехал и Лорис-Меликов. Но я не хотел дожидаться, не желая подавать повод думать, что я интригую против Сабурова. Вернувшись в Москву, я послал ему также экземпляр своей записки для сведения. Вот ее содержание:
«Студенческий вопрос в настоящее время снова выдвинулся на первый план. Обнадеженные переменою министерства, студенты всюду собираются подавать прошения о своих нуждах и требуют себе прав. Эти заявления поддерживаются университетскими советами; правительство готово им уступить.
Требования состоят в том, чтобы студенты получили корпоративные права; они желают иметь своих выборных, свои собрания для обсуждения общих дел, свои кассы, столовые и читальни, которыми бы они заведовали сами.
Защитники этой программы утверждают, что все это уже существует на деле, и что гораздо лучше, чтобы все это делалось явно и законно, нежели тайно и беззаконно. Они надеются, что правильною организацией парализуются вредные элементы, которые ныне, при неустроенном состоянии, получают верх над другими. Они видят спасение в том, чтобы соединять студентов, а не в том, чтобы разъединять их.
Напрасные надежды. Такого рода меры не уменьшат, а лишь усилят зло. Это – игра с огнем, которая может способствовать не тушению пламени, а тому, чтобы оно разгорелось в пожар.
Самое возбуждение этого вопроса чисто искусственное. Оно коренится, с одной стороны, в смутном состоянии молодежи, с другой стороны – в шаткости ее руководителей. В действительности, у студентов нет таких общих нужд, которые требовали бы совокупных совещаний и общих учреждений. Настоящая задача студентов состоит в том, чтобы учиться. Все, что отвлекает их от этой цели, есть зло; все, что производит агитацию и ставит учащихся в ненормальное положение, есть еще большее зло. А к этому именно клонятся выборные учреждения. Таких учреждений нет ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии; тем менее они уместны в России, при слабости нашего образования, при отсутствии всяких преданий и при полной неустойчивости руководителей. В Германии студенческие корпорации существуют веками; но это не более как частные товарищества для общего кутежа, для дуэлей и прогулок с собаками. Работающие студенты в них не участвуют или уходят из них, как скоро принимаются задело. Студенты в общем составе принадлежат к университетской корпорации; но они состоят в ней подчиненными, а не самостоятельными членами. Они смолоду приучаются к разумной дисциплине, и это составляет лучшую школу для будущей самодеятельности.
У нас студенческая жизнь имеет свои особенности. В наши университеты стекается масса молодых людей, лишенных всяких жизненных средств, не имеющих никакой опоры в семье и получивших самое скудное и поверхностное образование. Но именно подобная масса нуждается не в правах, а в разумном руководстве. К сожалению, именно этого она не находит, вследствие чего в ней бродят всякие смутные мысли и стремления.
Напрасно мечтают о том, что с правильною организацией выборов выдвинутся вперед лучшие элементы, а беспокойные и вредные будут затерты. Лучшие студенты те, которые работают у себя дома и не занимаются общественными делами. На студенческих же, так же как и на мирских сходках, владычествуют горланы, которые, специально занимаясь агитацией, всегда будут стоять во главе других. И теперь они играют роль запевал; но будучи признаны правительством, они явятся уже представителями корпорации, облеченные правами, как законом упроченная сила. И теперь существуют сходки, неизбежные, как скоро есть вопрос, волнующий толпу молодых людей; но теперь это – явление случайное и редкое. Университетское начальство смотрит на них сквозь пальцы, когда они имеют невинный характер и всегда может их воспретить, как скоро они принимают более бурное направление. Когда же сходки обратятся в право, они сделаются явлением постоянным и нормальным; запрещение их будет казаться действием произвола. Подобная мера не что иное, как узаконение агитации, парламент несовершеннолетних, учрежденный в стране, где не существует парламентской жизни и в среде взрослых.
Напрасно мечтают и о том, чтобы сходки ограничивались тем или другим курсом. Нет возможности помешать студентам других курсов и даже факультетов войти в общую аудиторию. Всякое живое прение привлекает массы, а живыми прениями будут именно те, в которых будут высказываться самые крайние мнения. Кто знает молодые умы и их увлечения, тот не может в этом сомневаться.
Товарищество между студентами, о восстановлении которого хлопочут, бесспорно хорошая вещь, но товарищество во имя общих умственных интересов, а не во имя искусственно организованной агитации. Истинное товарищество есть дело свободы; оно устанавливается нравами и всего более процветает там, где умы находятся в спокойном состоянии. Оно существовало в университетах в то время, когда ни об каких выборных правах и учреждениях не было речи, и восстановится только тогда, когда умы придут в нормальный порядок.
Для того, чтобы привести их в это положение, необходимо прежде всего разумное руководство. Всякий, кто имел дело с молодежью, не может сомневаться в том, что единственное средство получить над нею нравственный авторитет состоит в твердости, соединенной с любовью. Не потачка страстям молодых людей, не пошлое искание популярности, не робкие уступки искусственному возбуждению, прикрывающему себя именем современного духа, а ясное сознание целей и значения студенчества может ввести в надлежащую колею наши высшие учебные заведения. Молодые силы, привлекающиеся к университетам, надобно направлять не к бесплодной агитации, не к легкомысленной игре в студенческий парламентаризм, а к серьезной умственной работе, в которой всего более нуждается Россия и которая ныне почти совершенно исчезла. Отсюда то страшное умственное оскудение, которое замечается всюду, и которое составляет главную язву нашего отечества.
Скажут, что уже все другие меры испробованы и что остается испробовать ту систему, о которой идет речь. Но разве позволительно производить опыты над душою молодых поколений, которые мы должны беречь, как зеницу ока, ибо они составляют всю надежду России? А если опыт не удастся? Если вместо того, чтобы направить юношество на разумный путь, оно будет направлено к погибели? Если, возбудивши несбыточные надежды и даровавши ни с чем несообразные права, придется потом принимать самые крутые меры, пожалуй даже закрывать университеты, чтобы организовать их на новую ногу? Какая неисцелимая рана нанесется и зреющим силам и всему русскому просвещению, и какую страшную ответственность берут на себя те, которые наталкивают правительство на подобный путь!
После того тяжелого гнета, который много лет господствовал в министерстве народного просвещения, несомненно нужна свобода; но есть свобода, которая ведет к мирному развитию, и есть свобода, которая приводит лишь к новой и более суровой реакции. Именно эту последнюю хотят водворить защитники разбираемых мер, с добрыми намерениями, без сомнения, но не ведая, что творят. Чтобы направить корабль в неведомое море, где на каждом шагу встречаются подводные камни, нужна искусная и опытная рука; но где тот искушенный мореплаватель, который стоит у кормила? А если кормчий, незнакомый с своим делом, возьмется вести корабль среди мелей и камней без карт и компаса, то не будет ли это верхом легкомыслия? И если направленный неопытною рукою корабль разобьется и драгоценный груз погибнет, то на ком будет лежать вина?
И точно ли испробованы уже все другие меры? Что мы видели до сих пор в народном просвещении, в этой важнейшей и наиболее чувствительной отрасли общественной жизни? Постоянные переходы из одной крайности в другую, от слепой суровости к робкому слабодушию и обратно. Как будто нарочно обходится именно та разумная середина, которая составляет единственный истинный путь. И когда среди общего хаоса случайно образуется ядро, около которого могли бы собраться разумные силы, то со всех сторон на него сыплются удары, от которых оно разлетается в прах. Быть выданным сверху и оплеванным снизу – вот судьба, которая слишком часто постигает у нас всякую твердую мысль и всякое разумное слово.
Но разумная середина – не значит система сделок или колебание между противоположными взглядами. Для действия на молодые умы нет ничего хуже колебаний, сделок и полумер. Нравственный авторитет над ними может получить только тот, кто ясно сознает, чего он хочет, и твердо идет своею дорогою, не уклоняясь ни на шаг. Надобно прежде всего приобрести уважение молодых сердец, всегда чутких к нравственным качествам, а робостью и полумерами уважения никогда не приобретешь. Твердость в началах и мягкость в исполнении – такова должна быть программа руководителей молодежи. Полумеры же в некотором отношении даже хуже крайностей, ибо они ставят людей в ложное положение и вселяют смуту и недоверие в умах.
Истинная задача народного просвещения в России состоит не в том, чтобы производить новые опыты или входить в сделки с современным легкомыслием и с возбужденными страстями, а в том, чтобы после всех бесконечных колебаний, которым оно подверглось в течение многих лет, после перемежающихся периодов гнета и распущенности, прийти наконец к твердому пути и направить молодые силы на серьезную умственную работу, необходимую для отечества. На это нужно время, терпение и труд, нужна тщательная подготовка персонала, на котором лежит все здание народного просвещения. А для того, чтобы совершить такое дело, необходима прежде всего сознательная и постоянная поддержка сверху, без которой руководитель на этом поприще не может сделать ни единого полезного шага».
Написавши эту записку[136]136
Записку Б. Н. Чичерина об университетском вопросе Победоносцев отослал наследнику при письме от 22 ноября 1880 г. (Письма Победоносцева к Александру III, т I, стр. 305). От себя Победоносцев добавляет о деятельности Сабурова: «Можно судить о впечатлении, когда от Чичерина, бывшего всегда ожесточенным врагом гр. Толстого, я слышал такие слова: «Придется, пожалуй, пожалеть о гр. Толстом».
[Закрыть], я немедленно вернулся в Москву. Там, на моей квартире, ожидали уже Щербатов и Капнист. Я рассказал им все свои разговоры с Сабуровым. Щербатов был очень огорчен этим исходом дела. Ему казалось, что можно было найти какой-нибудь компромисс. Капнист, с своей стороны, только и ждал моего возвращения, чтобы принять место, от которого я отказался. Для него это была находка. Пользовавшись полным доверием графа Палена, он с новым министром юстиции Набоковым был в таких натянутых отношениях, что оставаться долее в министерстве становилось для него невозможным. Между тем, служба была ему необходима. Легкомысленно растратив свое состояние и имея семью, он жил одним жалованьем. Предложение Сабурова падало ему, как дар с неба. Убеждения не служили препятствием, ибо их в этом отношении вовсе не было. Капнист служил и при либеральном Сабурове, и при умеренном бароне Николаи, и при лакее Каткова Делянове. Со всеми он умел ладить, являясь ловким и дельным исполнителем; а с другой стороны, он, особенно на первых порах, располагал к себе подчиненных своею обходительностью. Руководителем в деле народного просвещения он, конечно, быть не мог, но при данных условиях и при полном отсутствии у нас образованных людей, едва ли можно было найти лучшего попечителя.
Вскоре подъехал Дмитриев, которого Сабуров тоже вызывал для переговоров. Ему министр хотел предложить Петербургский округ. При проезде его через Москву Щербатов уговорил нас собраться втроем, чтобы обсудить этот вопрос. Признаюсь, на этот раз мой старый друг несколько меня раздосадовал, упорно настаивая на компромиссе. В практических делах компромиссы часто бывают необходимы, но не тогда, когда дело идет о самом направлении и духе, в котором надобно действовать. Менее всего они уместны в отношениях к молодым людям, которые требуют прежде всего ясной мысли и твердой воли. Каково было бы положение попечителя, который, стоя посредине между требованиями молодежи и ищущим популярности министерством, должен был был служить тормозом для обоих? Мне даже непонятно было, как Щербатов, с своим практическим смыслом, мог остановиться на подобной мысли. Между тем Дмитриев жадно за нее хватался. Ему надоела мелочная деятельность в провинциальной среде, да и здоровье не позволяло ему во все время года разъезжать по уезду. Он стремился занять видное положение в Петербурге, а потому предложение Сабурова приходилось ему как нельзя более кстати. На этот раз, однако, дело не сладилось. После разговора со мною Сабуров понял, что он в Дмитриеве найдет скорее тайного врага, нежели ревностного пособника. Он сделал ему предложение нехотя и при таких условиях, что Дмитриев не мог принять. Попечителем он сделался уже при бароне Николаи. К счастью для университетов, программа Сабурова никогда не была приведена в исполнение, но последствия легкомысленной болтовни министра не замедлили обнаружиться. Едва я вернулся в Москву, как уже начались студенческие волнения. Целую массу студентов окружили войском и отвели в острог. Но этим дело не кончилось. Молодежь, возбужденная либеральными речами министра и данными им обещаниями, предъявляла требования, подавала адресы. После 1 марта волнение усилилось; сходка следовала за сходкою. Наконец, произошло новое побоище на Страстном бульваре, перед квартирою Каткова, где студенты хотели устроить враждебную ему демонстрацию. В Петербурге дела шли еще хуже. Студенты, не видя исполнения данных им обещаний, озлобились на министра, который как будто их обманывал. На университетском акте, б февраля, он получил даже от студента тумака. Он перенес это с невозмутимым хладнокровием; но положение его становилось все более и более шатким. Самые его патроны, Лорис-Меликов и Абаза, от него отступились, видя, что он их компрометирует. По поводу студенческого вопроса устроено было министерское совещание, на котором Сабуров оказался крайне слабым. Его программа была отвергнута, а его самого решено было спустить при первом удобном случае. Этому значительно способствовал Дмитриев, который старался разъяснить Абазе истинную сущность дела. Однако окончательное падение последовало уже в новое царствование. Победоносцев, который на первых порах пользовался полным доверием нового государя, постоянно и настойчиво твердил ему, что Сабурова нельзя оставить министром народного просвещения. Наконец он был уволен; на место его был назначен барон Николаи, чистый чиновник, узкий и формалист, но умеренный, не глупый и честный. Дмитриев сделался попечителем Петербургского учебного округа.
Между тем как Сабуров волновал студентов своими либеральными речами и перспективою новых прав, Лорис-Меликов и Абаза, с своей стороны, принялись за реформы всякого рода. Прежде всего необходимо было ввести в границы тот необузданный произвол, который господствовал при административных ссылках. Для разбора этих дел была учреждена комиссия, в которую вошел и Победоносцев. Он рассказывал мне, что они приходили в ужас от тех вопиющих беззаконий, которые тут раскрылись. Относительно многих молодых людей, сосланных в отдаленные губернии или в Сибирь, не могли даже добиться сведений, за что они были подвергнуты такому жестокому наказанию. В большинстве других случаев поводы были самые ничтожные и подозрение вовсе не доказанное. Жандармское управление, которое было тут главным деятелем, по-видимому, поступало совершенно наобум. Многие невинные были возвращены, что, без сомнения, должно быть отмечено, как большая заслуга Лорис-Меликова.









































