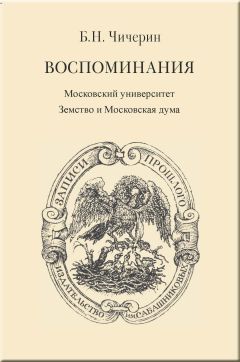
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)
Но правительство смотрело на голову именно, как на думского чиновника, и считало для него непозволительным то, что разрешалось каждому гражданину. Журналисту дозволялось самым бессовестным образом нападать на существующий закон, а старому профессору, если он занимал должность головы, не дозволялось защищать этот закон. Через несколько времени после этого обеда я встретился с князем Долгоруким на похоронах двух дочерей Дмитрия Алексеевича Милютина, которые скончались в Оренбурге и хоронились в Москве, в Девичьем монастыре.[168]168
Гр. Мария Дмитриевна Милютина (род. 1854) и Елена Дмитриевна Гершельман, рожд. гр. Милютина (род. 1857) скончались в 1882 г.
[Закрыть] Мы вместе с князем поднимались по лестнице, которая вела в церковь. «А я должен вам сообщить очень неприятную весть, – сказал он, – мне поручено сообщить вам, что государь очень недоволен вашей речью и нашел ее неуместною». – «Я очень об этом жалею, – отвечал я спокойно. – Я действовал по совести и думаю, что исполнил долг гражданина». Князь посмотрел на меня с изумлением: «Вы так это принимаете?» – сказал он. – «А как же?» «Я думал, что это вас совсем сразит». «Напрасно вы думали; моя совесть чиста, и мне не о чем сокрушаться». Мы вошли в церковь и стали рядом. Он подозвал своего лакея и велел снять с меня шубу. Во время службы он все поглядывал на меня с недоумением и все повторял: «Однако, вы удивительный человек!» После похорон я отправился к нему, и он прочел мне конфиденциально министерскую бумагу, весьма лаконическую и не содержавшую никаких объяснений. «Но что же мне отвечать?» – спросил он. «Скажите, что я очень жалею о том, что навлек на себя неудовольствие государя; но я поступил по совести и не воображал, что выхожу из пределов своих прав, защищая существующий закон, на который другим дозволено нападать самым бессовестным образом».
Он опять посмотрел на меня с удивлением. «Однако вы молодец!» – воскликнул он. «Это происходит оттого, князь, что я для себя ничего не ищу и ничего не боюсь». Но он, видимо, был озадачен и, провожая меня до дверей, против обыкновения, все повторял ту же фразу: «однако вы удивительный человек!» Вечером я встретил его на празднике, который давало немецкое общество в Москве по случаю дня рождения императора Вильгельма, и он опять выразил мне свое изумление. Возможность спокойно принимать выражение царской немилости никак не входила ему в голову. Он считал меня или сумасшедшим или человеком на все готовым, опасным для государства.[169]169
Роль кн. В. А. Долгорукого в истории с речью Б. II. Чичерина выясняется из «Копии с конфиденциального письма г. московского генерал-губернатора к г. министру внутренних дел от 20 января 1883 г.», напечатанной в Трудах Госуд. Румянцевского Музея, вып. II (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Том I, Novum Regnum, полутом I, М. 1923, стр. 344–346). Письмо это было доложено Толстым императору, в результате чего последовало распоряжение Долгорукову «пригласить к себе г. Чичерина и объявить ему, что е. в – во находит эту речь совсем неуместной и не соответствующей званию городского головы» (там же, стр. 344).
[Закрыть]
Я думал написать государю письмо с объяснением своих действий и вместе воспользоваться случаем, чтобы высказать ему всю правду на счет общего положения дел. И жена и друзья отсоветовали мне это делать, и я разорвал проект письма. Хорошо ли я поступил, не знаю. Без сомнения, я был бы отставлен несколько ранее. Но какая была бы от этого беда? Я очень хорошо понимал, что от подобного шага нельзя ожидать прямых результатов; но для стоящих наверху бывает полезно хоть однажды в своей жизни услышать правду из независимых уст. Воздержавшись от объяснений, приняв молча сделанный мне выговор, я поступил осторожнее; но исполнил ли я долг гражданина, об этом пусть судят другие.
Вскоре после этих происшествий нужно было ехать в Петербург приглашать государя на праздник, который город должен был дать по случаю коронации. В январе манифестом было возвещено, что коронация совершится 15 мая. От думы была выбрана комиссия, в которую вошли Щербатов, Самарин, Аксенов, Найденов, Алексеев и художник Шервуд. По предложению Щербатова решено было в Сокольниках устроить праздник с угощением войск. Переговорив с моим старым приятелем Бобринским, который был губернским предводителем, я отправился к генерал-губернатору с официальным письменным прошением, не благоугодно ли будет государю принять праздник от города, но при этом заявил, что поеду сам, чтобы лично пригласить его величество. «Зачем вам ехать? – с неудовольствием воскликнул Долгорукий, который любил, чтобы все делалось не иначе как через него. – На днях, я сам еду в Петербург и все вам устрою». Я отвечал, что, когда город дает праздник в честь государя, он не может довольствоваться официальною бумагой; голова должен лично просить государя. «Да ведь никогда нельзя знать, в какую минуту попадешь, – возразил Долгорукий, – ну если вас не примут?» «Это будет афронт городу, и я выйду в отставку». «Вы это так принимаете?» «Точно так». Он знал уже, как я отношусь к царской немилости и не настаивал. С тем я и уехал.
По приезде в Петербург я немедленно отправился к Рихтеру и просил его сообщить государю о цели моего приезда и при этом внушить, что если меня не примут, то это будет оскорбление Москве, чего желательно избегнуть. Если меня не хотят, то пускай мне скажут, и я тотчас выйду в отставку, не желая быть помехой в таком торжестве. Я поехал представляться к министру внутренних дел, но он не принимал, и я расписался. Вслед за мною приехал и Долгорукий. Он сообщил мне с некоторым неудовольствием, что поданную мною официальную просьбу он должен представить через министра внутренних дел. Я, с своей стороны, сообщил ему, к великому его изумлению, что я получил уже приглашение явиться к обедне в Аничков дворец в день рождения государя.
Я поехал. Народу было множество. Тут был и Бобринский. Я стал на пути государя и императрицы при выходе из церкви. Они остановились, я просил их принять городской праздник. Оба весьма любезно изъявили согласие. Меня пригласили к завтраку. Уезжая, я встретил князя Долгорукого. «Ну что же, вы пригласили государя»? – спросил он с любопытством. «Пригласил». «И что же он вам сказал?» «Что он очень рад принять городской праздник». «Я решительно ничего не понимаю». «И я тоже ничего не понимаю». Неделю спустя по возвращении в Москву я получил через генерал-губернатора официальное уведомление от министра внутренних дел, что государю угодно принять праздник. Бюрократическая комедия шла своим чередом.
Приготовления к коронации требовали больших хлопот и поглощали все время. Надобно было в Сокольниках построить павильон для массы гостей, заказать посуду для войска, приготовить яства и некоторое угощение для избранной публики. Город же должен был устроить трехдневную иллюминацию вне пределов Кремля, который находился в ведении Дворцового управления. Наконец, мы должны были поставить подмостки для публики в день въезда и раздавать билеты. К назначенному времени начали съезжаться и русские сановники и иностранные гости. Все считали долгом сделать визит городскому голове и всем надобно было отдавать визиты. Кроме нескончаемых хлопот и приемов в Думе, приходилось рыскать по городу с утра до вечера, представляться целому сонму иностранных принцев и всех звать на Сокольничий праздник. Голова шла кругом.
Еще до праздника предстояло на другой день после коронации торжественною депутациею подносить государю хлеб-соль. Я полагал, что от имени Москвы придется сказать несколько слов, и желал, чтобы эти слова имели некоторое значение. Набросив проект краткой речи, я показал его Щербатову и Самарину. Мы тщательно взвесили все выражения. Однако я не считал возможным сказать что бы то ни было, не заручившись заранее согласием государя. Поэтому в самый день приезда императорской фамилии в Петровский дворец, я поехал к Рихтеру.
Не зная, застану ли я его дома, я в письме к нему изложил побуждения, руководившие мною. Но он меня принял и тут же, прочитав письмо и речь, передал то и другое Воронцову, который в эту минуту шел к государю.
Письмо было следующего содержания:
«Любезнейший Дмитрий Борисович. Обращаюсь к вам, как к старому другу, с которым меня связывают дорогие воспоминания, прошу вас оказать услугу, не лично мне, а русскому обществу, которого я состою одним из представителей.
Думаю, что в таком торжественном случае, как предстоящая коронация, когда царь и народ становятся лицом к лицу, соединяясь в общей молитве о ниспослании божьей благодати на новое царствование, невозможно, чтобы все ограничилось официальными церемониями и празднествами, чтобы не было живого излияния мыслей и чувства народа перед царем. В этих видах, как представитель столицы, составляющей нравственное средоточие русской жизни, я счел бы уместным сказать несколько слов при поднесении их величествам хлеба-соли. Понятно, однако, что в такую минуту нельзя сказать ни единого слова, которое бы не было одобрено государем. Но если бы для получения этого одобрения я пошел обыкновенным официальным путем, то мысль и чувство по дороге скоро бы испарились. Тут встретились бы препятствия и со стороны этикета и со стороны мнимых преданий; всякому изъявлению старались бы придать возможно казенный и бесцветный оттенок, и живое слово обратилось бы в обычный мертвый формализм. Поэтому-то я и обращаюсь к вам. Не сочтете ли вы возможным представить на благоусмотрение государя приложенную при сем речь. Если она будет одобрена, если в ответ на наши искренние излияния мы услышим одно лишь слово: «надейтесь на меня», то мы будем вполне удовлетворены и сохраним от коронации не одни лишь воспоминания пышности и церемоний, но нечто более глубокое и плодотворное. Постарайтесь это сделать».
Проект речи был следующий:
«От имени Москвы, по старому русскому обычаю, имею счастие, в этот торжественный день, поднести вашим императорским величествам хлеб-соль.
На этом блюде, государь, изображено знаменательное событие русской истории – венчание на царство прародителя дома Романовых, Михаила Федоровича, излюбленного всею землею. Цари этого дома оправдали безграничное доверие к ним русского народа: они сделали Россию великою, могущественною и славною, они насадили в ней гражданственность и просвещение. Ваш незабвенный родитель довершил деяние своих предков, сделав Россию страною свободной. Ныне снова русские люди стеклись в Москву на всенародное торжество. Мы, ваши верные подданные, повергаем к стопам Вашего величества наши чувства и упования. Мы надеемся, что с помощью божьею, великие дела предков будут увенчаны новыми, славными делами; мы надеемся, что под вашею державою семя, насажденное вашим августейшим родителем, будет крепнуть и развиваться; мы твердо верим, что в дарованных им дорогих нам учреждениях положено начало новой, великой эпохи русской истории. Ваше величество! Укажите путь, и вся Россия, собранная вокруг вас, пойдет за вами, как искони он шла за своим царем.
Государь! Москва приветствует вас и царицу с радостью и любовью! Провидение да хранит ваши дни на счастие и славу отечества!»
Вскоре по возвращении домой я получил официальное уведомление, что государю не угодно, чтобы при поднесении хлеба-соли произносились какие бы то ни было речи. Приказ, по-видимому, был отдан уже накануне, ибо бумага была помечена предшествующим числом. Граф Толстой догадывался, что могут что-нибудь сказать и хотел это предупредить. Мне это было все равно, ибо до сведения государя было уже доведено то, что я хотел высказать, а это было все, что требовалось. На следующий день я встретил князя Долгорукого на вечере у Гирса. «А вы опять обратились к государю помимо меня!», – воскликнул он с неудовольствием. «Я, князь, не хотел ставить вас в ложное положение, – отвечал я. – Если бы я мог прямо через вас испросить волю государя, я был бы очень рад; но вы знаете, что просьба опять пойдет через министра внутренних дел, а это не может быть приятно ни для меня, ни для вас. Поэтому я и избрал другой путь».
В виду столь недавних злодеяний, все опасались за въезд. И точно, немудрено было из несметной толпы, наполнявшей подмостки, окна и крыши, бросить маленькую бомбу. Об этом ходили тревожные слухи. Однако все обошлось благополучно. Въезд был торжественный и великолепный: раззолоченные кареты, запряженные цугом, придворные и сановники в великолепных мундирах, пышно одетые дамы, разнообразные войска в полной парадной форме, азиатские инородцы в своих пестрых и оригинальных костюмах, и при этом звон колоколов и массы ликующего народа, все это представляло зрелище, какое редко удается видеть. И как напоминание о всех великих эпохах русской истории, по всему пути, между убранными зеленью арками, расставлены были по мысли и рисункам Шервуда красивые, украшенные флагами хоругви, с портретами замечательнейших русских государей, св. Владимира, Александра Невского, Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III, Михаила Федоровича, Петра Великого, Екатерины, Александра I и Александра II, с надписями приличными каждому и могущими иметь значение для настоящего дня. Под изображением св. Владимира была надпись: «Гряди с миром! Вера святая да будет силою твоею и спасением народа твоего». Под Невским: «Да укрепит господь десницу твою на врагов твоих». Под Калитой: «Да преисполнится сокровищница твоя и да изольются щедроты твои на подданных твоих». Под Донским: «Да защитишь праведных от врагов креста господня и да исполнишь святой завет предков твоих». Под Иваном III: «Да возвеличит господь державу твою и да прославится она от края и до края земли». Под Михаилом Федоровичем: «Да услышишь глас народа твоего: глас народа – глас божий, избравший предков твоих». Под Петром: «Да исчезнет тьма и плоды просвещения да возрастут обильно в царстве твоем». Под Екатериною: «Да возвеличат царство твое мужи чести и совета, призванные тобою, и да утвердится ими строй земли твоей». Под Александром Первым: «Да не усомнишься в народе твоем среди восставшей из пепла столицы твоей». Под Александром Вторым: «Да святится свобода верою и правдою и да явит она силу свою под державою твоею».
Некоторые гласные настаивали на том, чтобы в числе других поставить и потрет Николая; но я решительно объявил, что ни за что на это не соглашусь. По мысли составителей эти надписи должны были служить выражением самых высоких пожеланий русского народа; для николаевского гнета тут не было места. Увы! Этим пожеланиям не суждено было сбыться. Царственное шествие совершилось иными путями.
Для Думы устроен был особый павильон, где я во главе городских представителей должен был встретить царя. Толстый и неуклюжий, он ехал впереди свиты, мало от нее отделяясь. Раскланявшись, я поспешил на Красную площадь, где на громадной эстраде собраны были ученики городских школ. При проезде государя они все хором должны были петь: боже, царя храни! К сожалению, я не поспел к этой минуте, которая, говорят, была удивительно торжественна.
15 мая была коронация. С утра нас собрали во дворец и разместили по группам для церемониального шествия. Городские головы собрались со всей России и даже из дальней Сибири. Столичные шли во главе и одни имели доступ в Успенский собор. При входе в храм меня остановил новый государственный секретарь Половцев с вопросом: «Avez vous lu les rescrits de ce matin?» «Pas encore». «Lisez! ily a pourtant quelque chose la dedans!»[170]170
«Читали ли вы сегодняшний рескрипт?» «Нет еще». «Прочтите. Здесь все-таки что-то есть».
[Закрыть] – сказал он, ударяя себя по лбу. Я потом прочел: кроме обычных официальных пошлостей там ничего не оказалось.
Я стоял в группе, помещавшейся сзади эстрады, и видел только спины государя и императрицы. При таких условиях коронация не произвела на меня особенного впечатления. Самый Успенский собор с поновленною позолотою потерял тот почтенный вид древности, который придает ему величие и красоту. По окончании службы из церкви двинулось длинное шествие по соборам и оттуда во дворец. День был великолепный; Кремль был полон народа; церкви сияли, колокола гудели. Новый царь в порфире и короне шел прикладываться к мощам и затем поднялся по ступеням Красного крыльца. В массе господствовало одно чувство беспредельной любви и восторга. Для тех, кто умели думать и останавливались не на мимолетном настроении минуты, а на том будущем, которое возвещалось нынешним торжеством, оно представлялось покрытое мраком.
Надежда своим светлым ликом не осеняла всенародного ликования. Вслед за царем мы вошли во дворец. Государь вышел на балкон, чтобы показаться народу. При обратном шествии я стоял на пути. Он прошел мимо меня, с своим спокойным и светлым взором, который произвел на меня хорошее впечатление. Мне показалось, что он лучше того, что его окружает.
После того во дворце был парадный обед. Цари церемониально кушали в Грановитой палате, возобновленной к этому дню в чисто лубочном стиле какими-то нарочно выписанными для того провинциальными мазилками, которые расписали ее невероятно безобразными сценами из св. писания. Это был настоящий позор. На следующий день был коронационный бал. Тут зрелище действительно было волшебное. Великолепные залы Кремлевского дворца сияли бесчисленными огнями. Их наполняла густая толпа разодетых дам в русских нарядах, осыпанных жемчугами и драгоценными каменьями, и мужчин в вышитых золотом мундирах. Все с напряженным вниманием ожидали царского шествия, которое потянулось длинною вереницею, с императором во главе, и за ним вся царская фамилия, съехавшиеся отовсюду иностранные принцы и послы и высшие сановники государства. Внутренней пышности соответствовало и наружное великолепие. С террасы Кремлевского дворца, на которую двери были отворены настежь, открывался совершенно фантастический вид: кругом пылающие огнями Кремлевские башни, а внизу отражающая блески река и за нею бесконечная даль Замоскворечья, с улицами, домами и колокольнями, освещенными миллионами плошек. Иллюминация возобновлялась три дня; целую ночь несметная толпа двигалась по улицам, и пешая и в экипажах.
Городские головы решили ознаменовать это единственное для них собрание совокупным обедом. Как хозяин Москвы, я был приглашен на него гостем и посажен на председательское место. Если мне казалось неуместным, чтобы царь и народ соединялись в общем торжестве чисто церемониальным образом, не сказавши друг другу ни слова, то еще более я считал неприличным, чтобы собравшиеся один раз в жизни городские головы ограничились обычным в России поглощением яств и нитей и выкрикиванием официальных тостов, не обменявшись мыслями, не сказавши разумного слова. И кому же было сказать это слово, как не представителю Москвы, умственного и нравственного центра России, принимавшего гостей у себя. Я решил, что мне необходимо сказать речь. А об чем было говорить, как не об отечестве, о его настоящем положении и о его будущем? Недавно произошла страшная катастрофа, торжество разрушительных сил; и теперь еще мы трепетали каждую минуту, чтобы чего-нибудь не случилось. Царь не смел показаться народу без явной и тайной охраны. Неужели при этих условиях мы могли молчать? Тема была дана: единение всех для отпора разрушительным элементам. В ответ на тост, провозглашенный за мое здоровье, я сказал следующую речь:
«М. м. г. г. Прежде всего считаю долгом поблагодарить вас от души за ту высокую честь, которую вы мне оказали, пригласивши меня сюда своим гостем. Я этим обязан, конечно, не себе, а тому, что я состою представителем Москвы. Вы хотели почтить древнюю столицу, в которой все мы, русские люди, видим нравственное средоточие русской жизни. Как представитель Москвы, приношу вам глубокую благодарность и смею уверить, что если русские города чувствуют свою живую связь с Москвою, то и Москва не менее живо чувствует свою связь со всеми частями русского государства. Москва перестала быть местопребыванием высшего управления, но она осталась главою русских городов. Москва даже более, чем город; Москва – это все истинно русское, принимая это слово не в смысле узкой и исключительной национальности, как иногда его понимают, а как начало широкое, всеобъемлющее, способное все в себя воспринять.
Я счастлив тем, что мне довелось быть представителем Москвы в эти торжественные дни, когда со всех сторон стеклись в нее русские люди для всенародного празднества. Не могу выразить того глубокого и отрадного чувства, которое возбуждает во мне нынешнее наше собрание. В нем есть что-то ободряющее и возвышающее душу. Я вижу перед собою представителей русских городов, пришедших сюда с противоположных концов Русской земли: из Перми, из Тавриды, из Риги, из Астрахани, из дальних городов Сибири. Что же знаменует это собрание? Вынесем ли мы отсюда только воспоминание тех торжеств, в которых нам довелось быть участниками, или среди нас, как искра, зародится живая мысль, которая послужит на общую пользу, или мы вынесем отсюда теплое чувство, которое останется для нас связью и будет поддерживать нас в нашей общественной деятельности?
Желательно, м. м. г. г., чтобы нынешнее наше собрание не прошло бесследно, чтобы оно было началом объединения земских людей на пользу отечества. Это единение составляет насущную нашу потребность. Мы принуждены оберегать, как зеницу ока, то, что нам всего дороже, самую святыню русского народа. Мы радуемся, когда день прошел благополучно, между тем как все должно быть исполнено доверия и любви. России в настоящее время приходится вести борьбу уже не с внешними врагами, а с собственными своими сынами, посягающими на мирное и правильное ее развитие. Все мы алчем и жаждем законного порядка, а есть ли возможность утвердиться законному порядку среди тех ужасных преступлений, которые заставили содрогнуться всю Русскую землю? Туг приходится усиливать полицейский надзор, облекать власти чрезвычайными полномочиями, приостанавливать законные гарантии свободы. Все остальное должно быть отложено до более благоприятного времени, когда нам удастся осилить удручающее нас зло. Сумеем ли мы это сделать?
Всем нам, м. м. г. г., известно, что само по себе это зло не так страшно, как оно кажется по своим последствиям. Та партия, которая производит всю эту смуту, весьма немногочисленна. Она вербуется из недоучившейся молодежи, сбитой с толку и развращенной нелепыми учениями. Что же дает ей силу? Единственно то, что она организована, между тем как все остальное в России разрознено и разобщено. Одно правительство, очевидно, не в состоянии справиться с этою задачею: оно может действовать только внешними средствами, а внешние средства бессильны против внутренней болезни: тут необходимо воздействие самого организма; нужно содействие общества. Возможность этого содействия существует; начало ему положено в великих преобразованиях прошедшего царствования. По всей Русской земле созданы самостоятельные центры жизни и деятельности. Эти учреждения нам дороги; мы видим в них будущность России. Но все это разрознено, а потому бессильно. Петр Великий любил уподоблять тогдашнюю Россию рассыпанной храмине, требующей руки зодчего. Нынешняя обновленная Россия тоже подобна рассыпанной храмине; но в отличие от прежней, тут требуется не одна рука зодчего; надобно чтобы сами камни стремились сложиться в стройное здание. Старая Россия была крепостная, и все материалы здания были страдательными орудиями в руках мастера; нынешняя Россия свободная, а от свободных людей требуется собственная инициатива и самодеятельность. Без общественной самодеятельности все преобразования прошедшего царствования не имеют смысла. Мы по собственному почину должны сомкнуть свои ряды протии врагов общественного порядка. А для этого необходимо прежде всего, чтобы люди узнали друг друга, чтобы они обменялись мыслями, чтобы они протянули друг другу руку. Вот этому-то и может служить нынешнее наше собрание; в этом смысле я говорю, что оно может сделаться началом единения земских людей. Пройдет немного дней, и все мы снова разойдемся по всем концам нашего обширного отечества: но если мы унесем отсюда сознание общей связи и потребность совокупной деятельности, наше собрание не исчезнет бесследно. Дух, м. м. г. г., не знает границ; он связывает людей, разделенных тысячами верст, в одно живое органическое целое.
Таковы наши стремления, таковы наши мечты. Враги свободных учреждений, те, которые видят единственное спасение России в голом начале власти, могут усмотреть в этом опасность; пожалуй увидят в них даже нечто революционное. Мы можем равнодушно взирать на эти нарекания. Мы знаем, что нас одушевляет одно общее чувство, которое служит нам связью: верность престолу и любовь к отечеству, которому мы готовы жертвовать всем. Мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству; мы не требуем себе прав. Мы спокойно ожидаем, когда сама власть признает наше содействие; но когда этот зов последует, он не должен застигнуть нас врасплох: мы должны быть готовы. И мы можем быть уверены, м. м. г. г., что пора этого зова не слишком отдаленная. Ни внутреннее положение России, ни положение Европы не обещают нам период долгого мира. Могут настать грозные времена, когда потребуется напряжение всех сил Русской земли. Но если эти времена застанут нас соединенными, нам нечего опасаться. Крепкая единодушием своих сынов Россия выдержит все бури, как она всегда выдерживала постигавшие ее испытания. И она явит миру новые силы духа, не только те, которые возбуждаются действием сверху, но и те, которые возбуждаются в народе внутренним, жилым движением свободы.
М. м. г. г., я поднимаю бокал за единение всех земских сил для блага отечества!»
Перечитывая теперь эту речь, я думаю, что я сказал наименьшее, что можно было сказать, менее даже того, что я сказал при вступлении в должность городского головы. В ней нет и тени не только революционных, но даже оппозиционных стремлений, высказывать которые во время коронации я считал бы совершенно неуместным. Вся мысль заключается в том, что при трудных обстоятельствах, в которых находится отечество, верховной власти может потребоваться наше содействие, и этот призыв не должен застигнуть нас врасплох. Многими мои слова были встречены сочувственно. Сидевший возле меня Старывкевич, всеми уважаемый президент Варшавы, сказал мне, что он ожидал от меня такой речи. На дворцовом бале самарский городской голова, простой, но почтенный и дельный человек, благодарил меня за высказанные мысли. Но не так посмотрела на это администрация. Я ничего не подозревал, как вдруг на следующее утро я получаю записку от Аксакова, с извещением, что ночью по всем редакциям разъезжал чиновник с циркулярным предписанием министра внутренних дел, воспрещающим печатать речь московского городского головы, в которой он требовал конституции.
Это была чистая гадость, клевета, пущенная в ход от правительства с целью меня компрометировать. Я тотчас поехал к Долгорукому и отвез ему текст речи, которая никому не была сообщена и вовсе не предназначалась для печати. Он притворился, что ничего не знал, что распоряжение было сделано без его ведома, и что только поутру, когда он поехал во дворец, его со всех сторон стали расспрашивать о моей речи, чем он поставлен был в самое глупое положение, ибо ничего не мог отвечать. Разумеется, я этому не поверил. Толстой, с своей стороны, уверял, что к нему с обеда приехали некоторые головы, возмущенные моими словами; но и это была такая же ложь. Впоследствии оказалось, что первым виновником всей этой переполохи был известный негодяй, взяточник и подлец, генерал Богданович, староста Исакиевского собора[171]171
«Знаменитый полковник Богданович, староста Исаакиевского собора и издатель елейно-холопских брошюр, которыми впоследствии, вымогая себе субсидии от правительства, он усердно и широко отравлял самосознание русского народа», – так характеризует Богдановича А. Ф. Кони, тоже навлекший на себя доносы и клевету с его стороны за недостаточное почтение. (А. Ф. Кони, Воспоминания о деле В. Засулич. М.-Л., 1933, стр. 327–328).
[Закрыть]. За обедом все городские головы нашли у своих приборов заранее литографированные им лубочные листки с изображением царя и царицы в коронационном одеянии, и он присутствовал тут на хорах, в качестве стороннего зрителя, в ожидании, что ему окажут какую-нибудь честь или благодарность; но ничего подобного не последовало. Услыхав мою речь, он тотчас полетел к Толстому с доносом, говоря, что я требовал конституции. Толстой с Долгоруким тут же смастерили штуку: не допросив меня, не потребовав от меня ни текста речи, ни каких-либо объяснений, они разослали по редакциям означенный циркуляр.
Другой экземпляр своей речи я тут же отвез Рихтеру с просьбою представить его государю. Я после у него спрашивал: сердится ли на меня государь за эту речь? Он отвечал, что нет. Ни один здравомыслящий человек не мог, конечно, толковать ее в смысле требования конституции. Прочитав ее, Дмитрий Самарин писал мне: «С благодарностью возвращаю. По прочтении, я еще более убедился, что на тебя, любезный Борис Николаевич, возведена клевета. Этой речи добросовестный человек не может придать значения требования конституции». Так смотрели на это даже некоторые министры, пользовавшиеся доверием и расположением государя. Между прочим, Островский, в то время один из видных деятелей нового царствования, встретив меня на вечере, просил сообщить ему текст. У меня в ту минуту не было экземпляра в руках, а так как он на следующий день уехал в Петербург, то я туда послал ему экземпляр. Он отвечал мне следующим письмом:
«От души благодарю вас за присылку экземпляра вашей речи. Я могу теперь с документом в руках зажать, по крайней мере, рот всякому, кто позволит себе при мне искажать смысл сказанных вами слов. Мне нечего, конечно, прибавлять, что в вашей речи нет, на мой взгляд, ничего такого, что бы могло подать повод к обвинению вас в заявлении каких-либо, с видами правительства несогласных требований. А между тем, как вы это лучше меня знаете, именно эти обвинения к вам предъявляются. Мы живем в странное время, живем среди таких, не скажу веяний (это слово опошлено), а таких течений, направление которых не поддается точному определению, и которые, помимо вашей воли, могут сказанное или сделанное вами прибить к такому берегу, с которого вы сами себя не узнаете в собственных своих словах или поступках. В такое время, во всяком обществе, которое не имеет совершенно интимного характера, надо как можно менее говорить обо всем том, что не подсказывается вам вашими прямыми обязанностями, что я и делаю».
Самарин настаивал на том, чтобы я для оправдания себя и для чести города, которого я состою представителем, требовал напечатания речи; но об этом нечего было и думать. Я довольствовался распространением ее в копиях. Несколько времени спустя, когда об ней проникли толки в печать, краткое изложение ее содержания было помещено в газете Аксакова.
Я должен сказать, что после всей этой истории, особенно когда я принужден был подать в отставку, и друзья и недруги нападали на меня за произнесение этой речи. У нас в России всегда оказывается виноватым тот, с кем делают гадость. Но я и поныне убежден, что на моем месте молчать было неприлично, а ограничиться пошлостями позорно. Для провозглашения тостов и для хозяйственных распоряжений можно было в московские городские головы выбрать другое лицо; я же считал себя обязанным поддержать нравственное значение и достоинство Москвы, и эту обязанность я исполнил.
Между тем, предстоял Сокольничий праздник. Он удался как нельзя лучше. Погода была благоприятная, зрелище восхитительное Красивый павильон, весь убранный флагами и хоругвями, среди свежей зелени Сокольничьей рощи, представлял нечто необыкновенно оригинальное и живописное. Толпа народа была громадная и внутри и вне павильона. Для царской фамилии и свиты была построена особая эстрада с угощением. Для войск снаружи были расположены столы, на которых были расставлены яства и питье. Все вышло вполне удачно за исключением приготовленного для офицеров завтрака, который был съеден публикой, проголодавшейся в ожидании государя. Он в это утро был у обедни в Измайловской богадельне[172]172
Дворцовое село Измайлово служило в XVII в. летней резиденцией царской семьи. При Алексее Михайловиче здесь был выстроен укрепленный дворец с садами, искусственными озерами, зверинцем и проч, и заведено обширное сельское хозяйство. От усадьбы сохранились двое въездных ворот и церковка «Иоасафа, царевича иудейского» и Покрова (1679). При Николае I, в 1837 г. в Измайлове была устроена «богадельня» для военных инвалидов.
[Закрыть] и там принял завтрак, вследствие чего он прибыл в Сокольники двумя часами позднее, нежели было назначено. Я повел его на видное место, приготовленное для приветствия войскам, стоявшим у своих столов. Тут стояла водка. Государь спросил, что он должен сказать? Я отвечал, что он это лучше меня знает. Он поднял чарку за здравие войск, которые отвечали оглушительным ура. Я повел его по всем столам; затем, побыв немного времени, он уехал с императрицею. Мало-помалу разъехались и остальные гости. Войска, довольные угощением, потребовали меня и стали меня качать. Пришлось не в первый раз вытерпеть это не совсем приятное изъявление благодарности.









































