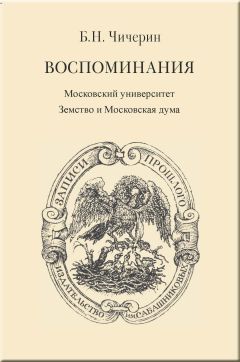
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 45 страниц)
Выходя, Черкасский говорил, что теперь настало время выбрать купца. Место его заступил Лямин, один из московских миллионеров, человек неглупый, осторожный, хорошо заправлявший своими частными делами, но без всякого образования и как голова совершенно незначащий. На общественном поприще он прославился лишь тем, что отлично говорил наизусть речи, которые писал ему Аксаков. Но и он оставался недолго. В 1873 году всесословное устройство заменилось бессословным. Избиратели были разделены на три разряда, по количеству платимых ими податей. Вся сумма городских сборов делилась на три части. Самые крупные плательщики, которые уплачивали первую треть, составляли первый разряд, средние второй, а мелкие третий. Каждый разряд избирал равное с другими количество гласных; но так как крупных плательщиков было меньше, то они естественно получали перевес.
Эта система, заимствованная у Пруссии, отдала городское управление в руки купечества, которое своим богатством значительно возвышалось над остальными сословиями. Юридическая бессословность фактически повела к преобладанию одного сословия. Иного исхода трудно было ожидать, ибо подкладка все-таки оставалась сословною. Купцы, мещане, ремесленники образовали отдельные корпорации с своими старшинами и выборными. Дворяне, с своей стороны, составляли самостоятельную корпорацию, стоящую вне городского общества, хотя многие из его членов, владея домами в городе, входили в состав последнего. Но с развитием Москвы, как промышленного центра, особенно после освобождения крестьян, дворянство, в отношении к материальному благосостоянию, не могло соперничать с купечеством. Последнее имело значительное большинство в первых двух разрядах, и только в третьем оно находило оппозицию в низших сословиях, которые имели тут перевес. Может быть, шаг к бессословности сделан был слишком рано, прежде нежели была подготовлена для него почва. Он фактически был как бы возвращением к старому порядку, однако при расширенных условиях и со включением сторонних элементов.
Имущественный перевес естественно вызвал в купечестве стремление к преобладанию. Это сказалось уже в выборе первого головы. Помня заслуги Щербатова, многие из влиятельных лиц в городе предложили ему кандидатуру, и он принял ее, желая воспользоваться своею опытностью и авторитетом для утверждения нового порядка на правильных основаниях. По запискам он получил наибольшее число голосов, так что выбор его считался обеспеченным. За ним шел Лямин. Но при баллотировке оказалось не то: Лямин получил перевес и был утвержден головой. Только проявились, впрочем, не одни купеческие стремления. Это была маленькая гадость, главным виновником которой был сделавшийся городским секретарем Митрофан Павлович Щепкин, человек умный, с обширными экономическими сведениями, работящий, но не брезгавший косвенными путями для достижения своих целей. Он понимал, что при Щербатове он будет играть совершенно второстепенную роль, тогда как Ляминым он вертел, как хотел. Нужно было только переместить несколько голосов, чтобы дать перевес последнему, и все средства были пущены в ход для достижения этого результата.
Однако на этот раз торжество купечества имело весьма плачевный или, лучше сказать, комический исход. Новый голова надел присвоенный ему новым Городовым положением мундир и поехал представляться генерал-губернатору. Затем надобно было явиться к губернатору, Петру Павловичу Дурново. Лямин спросил у Долгорукого, следует ли ему также ехать в мундире. Долгорукий, который любил, чтобы ему почет оказывался гораздо больший, нежели другим, и который притом с Дурново был в дурных отношениях, сказал, что это будет лишнее. Лямин поехал представляться во фраке. Но Дурново, который не любил шутить и не стеснялся в выражениях своего неудовольствия, так его распек, что растерянный миллионер, не привыкший к такому обращению, тотчас подал в отставку и с тех пор уже в головы не совался.
На место его был выбран не купец, а чиновник Данило Данилович Шумахер, человек отличный, дельный, работящий, давно состоявший гласным и принимавший горячо к сердцу городские интересы. Однако и ему не посчастливилось. Последовало крушение Коммерческого банка вследствие биржевых спекуляций, в которые, под влиянием известного Струсберга, пустился председатель правления Полянский. Шумахер, который до Полянского занимал эту должность, держал в банке не только свои капиталы, но и капиталы опекаемых им племянников. В минуту малодушия он вынул все эти деньги, когда банк уже прекратил платежи. Это произвело очень неблагоприятное впечатление, и хотя он, одумавшись, внес их обратно, однако свирепый прокурор Манассеин, ныне министр юстиции, привлек его к следствию и суду. Шумахер подал в отставку, как от казенной, так и от общественной службы, и его отставка была принята. Он сел на скамью подсудимых, и хотя был оправдан, однако его карьера навсегда была кончена.[153]153
Коммерческий ссудный банк возник в период банковской горячки, наступившей после 1870 г. и сделался жертвою, как и ряд других банков того времени, недобросовестной биржевой спекуляции его заправил. Первое время председателем правления банка состоял Д. Д. Шумахер, а председателем совета – Вас. Мих. Бостанджогло, а затем Никан. Мартин. Борисовский; избранный в городские головы, Шумахер уступил место своей креатуре П. М. Полянскому, но продолжал принимать участие в деятельности банка в качестве члена правления. 5 октября 1875 г., вследствие неудачных операций, в которые правление дало себя втянуть известному аферисту Струсбергу, банк внезапно прекратил платежи, причем выяснилось, что накануне краха Шумахер вынул из банка свои вклады. Последнее обстоятельство дало повод для следствия и возбуждения уголовного преследования против членов правления и совета. Дело было назначено к слушанию уже 29 мая 1876 г. 21 октября состоялся приговор, по которому Струсберг, как иностранный подданный, был выслан за границу, члены правления Ландау и Полянский были приговорены к ссылке, Ландау удалось скрыться до приведения в исполнение приговора.
[Закрыть]
Последовало довольно продолжительное междуцарствие, после которого опять был выбран купец, Сергей Михайлович Третьяков, человек мягкий, добрый, пользовавшийся общим расположением, но без характера. При нем главными заправилами были товарищ головы Сумбул и член Управы Петунников, оба люди в высшей степени честные, независимые, трудолюбивые, но упрямые и кривотолки. Петунников в особенности приводил меня в изумление: он имел разнообразные и основательные сведения, был работник неутомимый; изучал всякое дело в подробностях, притом весьма неглупый, но всякий раз он бил вовсе не туда, куда следовало. После выхода из Управы он писал статьи по самым крупным вопросам городского хозяйства, и меня всегда поражало, что он без всякого лукавого умысла постоянно оставлял в стороне самое существенное и упорно выезжал на второстепенных пунктах, что естественно придавало делу совершенно ложное освещение. Вдобавок все это приправлялось язвительными выходками и самоуверенным тоном, которые делали его писания крайне непривлекательными. И он, и Сумбул питали к Думе полнейшее презрение и считали себя вправе все делать собственною властью. Не мудрено, что они гласных поставили на дыбы. Дело кончилось скандалом по поводу введения нового хозяйства в Сокольничьей роще, о котором Дума не была спрошена. После бурного заседания Третьяков подал в отставку и уехал за границу. Вместе с ними просили об увольнении Сумубл, Петунников и член Управы Холмский. В таком положении застал я городское управление. После всех этих тревог, при таком возбуждении страстей первая задача состояла, разумеется, в том, чтобы поладить с Думою. Она была главным хозяином города, собранием его представителей. С нею прежде всего надобно было считаться.
Большинство в ней, как сказано, принадлежало купцам. Из старого дворянства влиятельными гласными оставались Щербатов и Дмитрий Самарин. С ними всегда совещались по всем важным делам; но непосредственно в прениях Думы они принимали мало участия. Щербатов всю первую половину 82-го года был за границею, а по возвращении редко посещал заседания. На Самарина частью перешел тот почет, которым некогда пользовался старший брат его Юрий Федорович, который был одним из самых деятельных и авторитетных членов Думы, но и сам он вполне мог поддержать свое значение. Это был человек в высшей степени благородный и добросовестный, притом работящий, способный изучить и написать целые фолианты, вникающий во все подробности дела, за которое он принимался, вдобавок обладающий даром слова. Он был председателем Совета попечителей и попечительниц городских училищ; но в Думе он говорил редко и неохотно, только по особенно важным вопросам. Еще молчаливее был Александр Иванович Кошелев, который к тому же был глух; но он был полезным членом финансовой комиссии. Я всегда находил в нем дельную поддержку в правильном ведении городского хозяйства.
Из других лиц, не принадлежавших к купеческому сословию, выделялись медики и профессора: добросовестный и основательный, хотя далеко не всегда практический Герье[154]154
В начале 80-х годов в правительственных сферах Петербурга В. И. Герье представляли как «известного московского агитатор а и оратора». (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 319).
[Закрыть] и вовсе неосновательный Муромцев, доктора Черинов, Маклаков, Гагман. Медики имели существенное значение по санитарной и больничной части, которые составляли важную отрасль городского управления. В юридической комиссии, рассматривавшей разные жалобы, председательствовал дельный, хотя довольно радикальный адвокат Пржевальский, брат знаменитого путешественника[155]155
Николая Михайловича Пржевальского.
[Закрыть]. Другой, еще более известный, адвокат Плевако был председателем Комиссии о пользах и нуждах, место, которое с таким блеском занимал некогда Юрий Федорович Самарин. Но несмотря на свой талант, Плевако стоял неизмеримо ниже своего предшественника: к городским делам он вообще относился весьма легко, а когда представлял доклад, то выезжал больше на фразах. В Комиссии об обязательных постановлениях работал председатель Мирового съезда Петр Николаевич Греков, о котором я уже говорил выше. Но главным деятелем был тут Николай Сергеевич Четвериков, добросовестный канцелярский чиновник, для которого буква закона был важнее всего. В специальных комиссиях, избираемых временно по тем или другим вопросам, нередко председательствовал упомянутый выше член Судебной палаты Охлябинин, который пользовался в Думе общим уважением, хотя практическое дело было не совсем по нем. Нельзя не упомянуть наконец и о девяностолетием старце Грудеве, который заседал и поныне заседает в Думе более в качестве мощей.
Купеческое большинство было вообще невысокого уровня. Образования было очень мало, а участия к общественному делу, пожалуй, еще меньше. Работать умели весьма немногие; большая часть сидела молча и только подавала голос за своими вожаками. Добродетельною вывескою сословия был почтенный Василий Дмитриевич Аксенов, а главным заправилой Николай Александрович Найденов, председатель Биржевого комитета, представитель фирмы, существующей в Москве более ста лет и имеющий свой дом с обширным поместьем на Яузе, чем он очень гордился. Найденов был человек очень умный и деловой, но хитрый, преследующий свои личные цели и на которого никак нельзя было положиться. Для него интерес купеческого сословия был несравненно выше городского, а свое личное значение выше всего. Это выражалось иногда довольно бесцеремонно. Так, например, при обсуждении санитарных мер насчет скота мне потребовались некоторые сведения о скотопригонном рынке, который находился в ведении купеческого общества, хотя было сомнение, не должен ли он по праву принадлежать городу Я обратился к недавно выбранному купеческому старшине Кольчугину, который обещал их составить. Когда я упомянул об этом в разговоре с Найденовым, он с некоторым азартом воскликнул. «Это он еще тут без году неделя; посмотрим, какие он даст сведения!». Действительно, я их не получил. В заседания Думы Найденов являлся не часто и говорил только по крупным финансовым вопросам; но как истинный московский патриот, готов был поддерживать все, что могло вести к возвеличению столицы.
За Найденовым следовали представители богатых торговых и фабричных московских фирм: Гучков, Ганешин, Ширяев, Залогин, всеми любимый и уважаемый Иван Кузьмич Бакланов, бывший с нами членом Барановской комиссии, Горбов, имевший несколько высшее образование и интересовавшийся школьным делом, братья Бахрушины, из которых Василий Алексеевич, человек удивительной доброты и чистоты, был главным двигателем сделанного ими основания названной их именем больницы. Это не мешало ему в то же время настойчиво добиваться грошевой уступки, вопреки установленным правилам, за помещение, нанимаемое ими на городском общественном дворе. Это было как раз вслед за пожертвованием; Герье, который случайно был свидетелем этого странного торга, пришел в изумление от этой черты русских купеческих нравов. К той же партии принадлежал и средней руки купец Осипов, в то время один из самых деятельных членов Думы, человек умный и толковый, но совершенно лишенный образования, с грубыми приемами и без всякой нравственной подкладки. Он был председателем Комиссии о мостовых, которая сама стремилась заведывать этим делом и от которой Управе часто приходилось защищаться. По этому поводу у меня было с ним довольно характеристическое столкновение, окончившееся благополучно. В заседании Думы в ответ на мое возражение по вопросу о мостовых, он сказал: «Городской голова заявил то-то; это – неправда». Я не успел еще сказать слова, как в собрании поднялся неописанный шум; все встали с места и закричали на Осипова: «вон! вон!» Тот в сердцах объявил, что не хочет более заседать в собрании и слагает с себя звание гласного; с тем он и вышел. Я благодарил Думу за поддержку. Однако, одумавшись, он понял, что был кругом виноват. Через день явились ко мне от него депутаты, В. А. Бахрушин и, кажется, Кольчугин, с извинением, прося как-нибудь уладить дело. Я сказал, что всегда был уверен, что необдуманное слово вырвалось у него в запальчивости, без всякого умысла, и как скоро он извиняется, так я считаю свое личное дело поконченным; но он оскорбил Думу, перед которой он должен извиниться письменно. Набросан был проект письма. Меня просили дать Осипову возможность оставаться гласным. Я отвечал, что Думе неприлично его о том просить, но полагал, что после принесенного им извинения, я могу обратиться к Думе с просьбою разрешить мне сделать это от своего имени. О своем намерении я сообщил гласным, которые приехали ко мне с изъявлением сожаления по поводу происшедшей неприятности. Дума сочла нужным сделать большую манифестацию. Целою вереницею явились ко мне гласные на дом, признак порядочности чувств, одушевлявших собрание. В следующем заседании прочтено было редактированное мною извинительное письмо Осипова. Я просил Думу считать это дело поконченным и в знак примирения, чтобы не осталось от него и следа, позволить мне лично от себя просить Осипова взять назад свое заявление о выходе из гласных. Так и было сделано. Враги Осипова, которых было не мало, ибо он был одним из главных деятелей в походе, поведшем к отставке Третьякова, были этим недовольны и на меня за это пеняли; но я приобрел расположение, как самого виновника этих приключений, так и всех благоразумных и миролюбивых членов Думы. Не долго, впрочем, Осипов продолжал принимать деятельное участие в делах Московского городского управления. Вскоре он был выбран председателем Нижегородского биржевого комитета, и это отвлекло его в другую сторону.
Если старые купцы были вообще приверженцами Найденова, то молодые, напротив, стояли в резкой к нему оппозиции. Из них более всех выделялся Алексеев, которого тогда уже прочили мне в преемники, и который впоследствии сделался почти полновластным городским головой. Он был представителем одной из старейших и богатейших фирм в Москве. Мать его была гречанка, рожденная Бостанжогло[156]156
Елизавета Михайловна, жена Александра Владимировича Алексеева (1821–1882), была дочь Мих. Ив. Бостанджогло (1826–1891) и сестра видных московских негоциантов, членов московского отделения совета торговли и мануфактур, Бостанджогло Василия Михайловича (1826–1876), занимавшего с 1867 г. должность старшины московского купеческого сословия, председателя совета Московской практической академии, и Николая Михайловича (1826–1891).
[Закрыть], и сам он соединил в себе хитрость и уклончивость грека с широкой разнузданностью русской натуры. Очень умный, необыкновенно живой, даровитый, энергический, неутомимый в работе, с большим практическим смыслом, обладающий даром слова, он как будто создан был для того, чтобы командовать и распоряжаться. Всякому делу, за которое он принимался, он отдавался весь; оно у него кипело, и он упорно и настойчиво доводил его до конца. Но образование он получил весьма скудное; воспитание не приучило его сдерживать необузданность в сущности несколько грубой натуры. Умом понимая благородные потребности и побуждения, умея подчас идти с ними в полном согласии, он нередко своими резкими приемами оскорблял не только утонченные понятия изящного, но и простое чувство приличия. Этим он многих отталкивал от себя; зато многих привлекал своею даровитостью, а на других действовал своим сильным характером. В то время он не успел еще выказаться вполне и имел, можно сказать, более врагов, нежели друзей. Старые купцы его не любили; с Найденовым он был на ножах. Но я и тогда и впоследствии был с ним в наилучших отношениях. Меня пленяли блестящие и благородные стороны этой необыкновенно богатой натуры, а вместе подкупало то неизменное расположение, которое он всегда мне оказывал. Даже после моей отставки, когда я был в опале, открывая городское училище, учрежденное им в память своего отца, он в деревню прислал мне приглашение с письмом, которое меня тронуло, а затем и приветственную телеграмму. Сделавшись головой, он настаивал на том, чтобы я остался гласным в Думе, хотя я не жил более в Москве. С удовольствием отмечаю эти черты, которые показывают, что этот сын нашего русского купеческого сословия не раболепствовал перед властью, а умел держать себя независимо. Трагическая его смерть, застигшая его, по собственному его выражению, как солдата на посту, загладила все его темные стороны. Как блестящий метеор, он пронесся над Москвою, которая его не забудет.[157]157
Один современник Б. Н. Чичерина по Московской городской думе в своих неизданных записках так характеризует Н. А. Алексеева: «Молодой Алексеев, как по фамильной традиции, так и по властолюбивому темпераменту свыкся с призванием руководить людьми. Образованием он не стоял высоко, в обращении был резок, а иногда даже дерзок, но он был умен и способен войти в круг идей, которые ему были чужды».
[Закрыть]
С Алексеевым рука об руку шли Шилов и Рукавишников. Одно время у них собирались поочередно, чтобы потолковать о думских делах и сговориться насчет тех или других вопросов. Шилов был купец среднего состояния, без образования, но весьма неглупый, сдержанный, практический. Он принимал живое участие в городских делах, изучал все доклады, говорил часто и нередко дельно, председательствовал в комиссиях, где вел дело основательно. Рукавишников, напротив, вследствие природной робости самолюбия, никогда не пускался в прения и редко участвовал в комиссиях. В собрании я не слыхал его голоса, но в личных отношениях находил его очень приятным. Студент Московского университета, с хорошими внешними формами, обладатель большого состояния, неглупый и деловитый, он весь был предан основанному его умершим братом приюту для малолетних преступников[158]158
Николай Васильевич Рукавишников с 1870 г. но 1875 г. был директором основанного в 1864 г. в Москве «Общества распространения полезных книг». После его смерти братья Николая Васильевича, Константин и Илья Васильевичи, внесли в кассу городской управы специальный капитал на содержание приюта.
[Закрыть]. Под его руководством это заведение шло отлично, и он приносил для него большие жертвы. Однажды он приехал ко мне в Управу: «Вы знаете, – сказал он, – я человек боязливый; мне все как-то совестно перед Думой, что я ввожу ее в слишком большие расходы. Так вот я привез вам 50000 рублей для покрытия процентами лишних издержек». И он тут же передал мне эту сумму из рук в руки. После смерти Алексеева, он почти против воли, уступая настойчивым просьбам и видя безвыходное положение, стал городским головой. Думаю, что лучшего выбора нельзя было сделать.
Из молодых купцов полезным членом Думы был Епанешников, тихий, скромный, добросовестный работник, умевший хорошо излагать свои мысли по финансовым вопросам, которые были его специальностью. Симпатическое впечатление производил и богатый, молодой Лепешкин, основатель общежития для студентов, которое отлично и совершенно втихомолку шло под руководством известного земского статистика В. И. Орлова. Особенную преданность ко мне выказывал Дунаев, который не раз даже приезжал совещаться со мною о своих личных делах и впоследствии сохранил ко мне неизменно хорошее расположение. Зато вовсе невыгодное впечатление производил принадлежавший также к поколению молодых купцов Иван Николаевич Мамонтов[159]159
По несколько ехидному замечанию современника, И. Н. Мамонтов «был предприимчив и не умел сообразоваться со своими силами и средствами».
[Закрыть]. Заика и кривотолк, он говорил обо всем, придумывал и представлял самые обширные проекты, которые он отстаивал с величайшим упорством, но без малейшего практического смысла. Это была такая же язва собрания, как инженер Попов, который по всем техническим вопросам говорил бестолковые речи. В мое время несколько присмирела третья язва, выезжавший на громких либеральных фразах купец Ланин; он изредка продолжал еще разглагольствовать в собраниях, но большею частью довольствовался издаваемым им «Русским курьером». Из этих говорунов Мамонтов был самый неугомонный. Своею назойливостью он получил, однако, такой авторитет, что состоял председателем финансовой комиссии, одной из важнейших, и пользовался порядочною популярностью в третьем разряде гласных. Впоследствии они даже выставляли его своим кандидатом в городские головы.
Этот третий разряд, носивший прозвание текинцев[160]160
Текинцы (теке) – воинственное туркменское племя, населявшее Ахал-Те-кинский оазис на север от гор Копет-Даг, в Средней Азии; текинцы промышляли разбоем и своими набегами постоянно тревожили соседние области Персии. С 1879 г. началось военное наступление на Ахал-Текинский оазис русских войск, завершившееся взятием крепости Геок-Тепе 12 января 1883 г. В устах думской интеллигенции прозвище «текинцы» означало то же самое, что «разбойники».
[Закрыть], состоял из мещан и ремесленников. В числе их было несколько совершенно нестерпимых болтунов: Жадаев[161]161
Жадаев – «человек невысокого роста, в чуйке, говоривший очень бегло, но малограмотный, чрезвычайно рьяно, хотя и не всегда кстати, врывавшийся в прения», – как характеризует его автор неизданных записок.
[Закрыть], Киселев, Серебряков, Смирнов. Иные из них были невежественно добродушны, другие себе на уме. Совались они всюду, говорили ежеминутно, обо всем и без всякого толку. Но зато это была единственная партия, крепко сплоченная и принимавшая живо к сердцу все городские дела. Они являлись почти всегда в полном составе, знали, чего хотели, и подавали голос, как один человек. Вследствие этого, при малейшем колебании или при недостаточном числе гласных из других разрядов, они получали перевес. Я говорил иногда, что наша Дума представляет отсутствующее дворянство, равнодушное купечество и наглую демократию.
При таких элементах надобно было держать ухо востро и подробно изучить каждое дело, чтобы всегда быть готовым отвечать на малейшее возражение. Это было тем необходимее, что председатель собрания был вместе с тем ответственным лицом за управление, следовательно предметом критики. Многие находили и находят такую двойственность положения неудобною и стоят за разделение этих двух должностей. Я не держусь этого мнения. Значение городского головы, непосредственно подчиненного правительственной власти, и без того достаточно стеснено; с разделением должностей оно еще более умалится. Голова потеряет всякую самостоятельность; он перестанет быть представителем города, а превратится в подчиненное орудие городского общества, останется предметом критики без соответствующего авторитета. С своей стороны, председатель собрания не приобретет значения, потерянного исполнительным органом. Не заведуя управлением, не будучи ответственным за дела, он не может иметь и того веса, который дается ведением дела, и не в состоянии отстаивать, как следует, городские интересы. И хорошо еще, если эти два лица будут действовать согласно; в случае розни, которая, при столкновении человеческих самолюбий, составляет явление заурядное, будут одинаково страдать и значение лиц, и интересы города. Такого исхода могут желать только те, которые стремятся к ослаблению и принижению городского управления, а не те, которые стоят за большую или меньшую его самостоятельность. Конечно, соединение председательства с исполнительною властью имеет свои невыгодные стороны; но они налагают только на председателя обязанность быть осторожным и не подавать повода к нареканиям деспотическим стеснением критики. Я постоянно держался этого правила. Меня даже упрекали в том, что я предоставляю слишком много простора пустой болтовне. Но я всегда думал и думаю, что председатель общественного собрания обязан давать высказаться всем, не допуская только уклонений в сторону от вопроса и направляя прения к надлежащей цели, что всего легче сделать председателю, который есть вместе исполнитель, ибо он во всякую минуту может дать надлежащие объяснения и указать важнейшие пункты. Алексеев вел дело иначе; он резко прекращал всякую болтовню, но зато собрание лишилось самостоятельности и превратилось в послушное орудие головы, что в общественном самоуправлении вовсе не желательно.
Меня упрекали в том, что я лично слишком часто вмешиваюсь в прения, вместо того, чтобы предоставить объяснения по делам членам Управы, заведующим отдельными частями городского хозяйства. Но в этом отношении я был поставлен в особенное положение. Я в членах Управы находил хороших помощников в практическом ведении дела, но ни один из них не был в состоянии толково объясняться в собрании. Управа, при моем вступлении, подверглась значительным изменениям. Вместе с Третьяковым вышли все речистые члены: Сумбул, Петунников и Холмский. Место товарища городского головы занял старейший член Управы, Михаил Федорович Ушаков. Я решил его предложить после многих размышлений. Для меня, приступающего к совершенно новому для меня делу, было существенно важно иметь хорошего товарища. Но люди были мне столь же мало знакомы, как и дела. Я должен был полагаться на чужие рекомендации. Некоторые лица, которые были желательны, отказывались; другие, которых мне навязывали, были, напротив, вовсе не желательны. Генерал-губернатор рекомендовал мне своего родственника, земского кривотолка Оленина. Я отвечал, что будучи совершенно новым человеком, я не могу от себя проводить никого, а должен наперед осведомиться, какие есть шансы для выбора. Собравши справки, я сказал князю Долгорукову, что у Оленина шансов нет никаких, и я не могу взять на себя подвергнуть его родственника опасности быть забаллотированным. Сумбул советовал мне временно взять Ушакова, а там я увижу, ибо через год наступал законный срок для выбора товарища. Я так и сделал; но когда срок наступил, и мне предлагали разных кандидатов, я сказал, что я Михаила Федоровича обойти не могу. Так он и остался доселе товарищем городского головы.
Во многих отношениях это был полезный помощник. Он хорошо знал формальную часть дела; в этом на него можно было вполне положиться. Притом он был человек добрый, мягкий, любимый подчиненными. Председательствовать в Управе для текущих дел и заведовать личным составом было настоящим его призванием, которое он исполнял самым добросовестным образом. Но держать людей в руках и направлять их он был не в состоянии. Для него сделать человеку замечание было подвигом, на который он решался с трудом. Однажды Управа заседала под его председательством, а я сидел сбоку и слушал. Оказался крупный недосмотр одного из городских архитекторов, который пользовался некоторым почетом. Я настаивал на том, чтобы ему сделать выговор, в назидание остальным; но Михаил Федорович смотрел на это даже с каким-то испугом. Наконец, он обратился ко мне: «Ну, если вы так на этом настаиваете, так подпишите сами». «Эго я сделаю с величайшим удовольствием», – отвечал я и тут же подписал, а за мною и остальные. В другой раз я просил его сказать экзекутору, чтобы он подал в отставку. Несколько дней спустя, я спросил его, сделано ли это. «Представьте, ведь он не хочет уходить», – отвечал он с выражением полного недоумения. Я принужден был сам призвать экзекутора и объявить ему, что если он сам не подаст в отставку, то он будет уволен. При такой осторожности и нерешительности трудно было поручить ему какое-нибудь крупное дело, особенно требовавшее некоторой инициативы. Я возложил на него, между прочим, доклад по полицейской типографии, поступившей в ведение города. Он действительно написал довольно обширный доклад; но я был им не совсем доволен и указал ему на необходимость некоторых изменений. Эти изменения никогда не последовали; не знаю даже, был ли доклад когда-либо представлен в Думу.
В собрании же Ушаков совершенно терялся. Скромный, тихий, боязливый, он не только не имел достаточной уверенности в себе, но не мог даже ясно высказать свою мысль. Случалось, что поутру он мне рассказывал дело совершенно отчетливо и толково, а когда я просил его вечером представить эти объяснения собранию, выходило совсем не то. Волею или неволею приходилось самому вмешиваться в прения.
Вместе с товарищем головы обновилась и вся Управа. На место выбывших членов выбраны были Трунин, Попов и Созонович. Вскоре вышел и Башкиров, которого заменил Бабаев. Из старых членов оставался один Кознов, человек не глупый, но далеко не деятельный; он вел свое скромное отделение и мало вступался в остальные дела. Трунин и Попов были инженеры. Первый, бывший управляющий Московско-Брестской железной дороги, был отличный человек, с литературным образованием, переводчик Фауста, знающий свое дело, но довольно неповоротливый и несколько ленивый. Попов, служивший прежде в земстве и вместе преподаватель в Петровской академии, был, напротив, деятелен и распорядителен; он подробно изучал всякое поручаемое ему дело; но насколько на него можно было положиться, не могу сказать. Лично я не имел повода на него жаловаться, а вскоре после меня он оставил Управу. Присутствие в Управе двух инженеров было для меня большим пособием. По всякому техническому вопросу, а их было не мало, можно было устроить совещание и рассмотреть дело с разных сторон. Созонович, которому вверено было строительное отделение, был человек отличных свойств, но мягкий, как воск, и еще молчаливее и боязливее Ушакова. Держать в руках городских архитекторов он был решительно не в состоянии, вследствие чего в его отделение легко могли вкрадываться разные злоупотребления. Вполне отличный человек был и Бабаев, которому поручена была воинская часть. Впоследствии он сделался городским секретарем, заступив место внезапно умершего Строльмана, который еще до меня и при мне занимал эту должность. О нем ничего не могу сказать ни хорошего, ни дурного. Говорили про него, что он и нашим и вашим; но со мною он был всегда в очень хороших отношениях, добросовестно исполнял свою весьма немногосложную обязанность, влияния же не имел никакого и, надобно сказать к его чести, не добивался ничего.
Был еще член Управы, в ведении которого находились многочисленные городские училища. Занимавший эту должность Басистов умер летом 1882 года; надобно было его заменить. Я был в большом недоумении. Представлялось несколько кандидатов, но ни одного сколько-нибудь выдающегося или заявившего себя педагогическими способностями. В это время кто-то из знакомых барона Корфа, известного педагога, сообщил мне, что он был бы не прочь занять это место. Корф пользовался большою репутацией. Он был одним из главных инициаторов школьного дела в России. Некогда передовое Новгородское земство его чествовало и носило на руках. Юрий Федорович Самарин, занявшись народной педагогией, говорил о нем с большим уважением. Лично я встретился с ним в Петербурге, и он произвел на меня очень хорошее впечатление, как человек живой и вполне преданный своему делу. Я поручил его приятелю разведать обстоятельно о его намерениях, а между тем принялся за чтение его книг, которые мне понравились. К сожалению, не с кем было потолковать основательно об этой кандидатуре. Время было летнее, и купцы были на Нижегородской ярмарке. Дмитрий Самарин, который в школьном деле считался главным авторитетом, находился еще в деревне. Но те гласные, с которыми мне доводилось говорить, сильно стояли за Корфа. Ко мне заехал Сумбул, который, узнавши о возможности иметь такого корифея народной школы, сказал, что о другом нечего и думать. На беду в это самое время Корф напечатал статью против затевавшихся тогда церковно-приходских училищ, за что «Московские ведомости» обрушились на него с обычною своей бесстыдною бранью. Прочитав статью Корфа, я нашел ее совершенно разумною и умеренною. Нападки московской газеты отличались всегдашнею ее бессовестностью; но на часть публики они произвели впечатление.









































