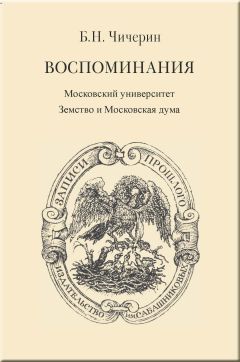
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
Таким образом, в Совете Московского университета произошел целый ряд незаконных действий, поводом к которым послужило незаконное решение бывшего г. министра народного просвещения. Действия эти имели целью устранить голос меньшинства и уничтожить свободу мнений в Совете. Когда меньшинство решилось протестовать, протест его хотели заглушить скандалом. Когда же оно обратилось к начальству, то нашло сперва заступника в лице г. попечителя Московского учебного округа, но Совет упорно отказывался принимать предложение г. попечителя, и дело дошло, наконец, до вашего сиятельства. Теперь же, вместо того, чтобы получить защиту и законное удовлетворение, меньшинство Совета осуждается за то, что исполнило свои законные обязанности. При таком порядке вещей для нас нет возможности оставаться долее в университете. Действовать в каком бы то ни было учреждении с сохранением своего нравственного достоинства можно только при двояком условии: чтобы соблюдались закон и приличие. Тогда все разногласия становятся безвредными. Но когда то и другое нарушается явно и безнаказанно, когда подчиненные не находят защиты против злоупотреблений, тогда им остается один исход: удалиться. Не личные воззрения, а долг и совесть требуют, чтобы мы оставили учреждение, с которым мы связаны воспоминаниями своей молодости и которому мы посвятили лучшие годы своей жизни. Ваше сиятельство делаете воззвание к единомыслию, которое должно господствовать в университете; но желательно только единомыслие во имя нравственных начал. Оно одно в состоянии поднять достоинство университета и принадлежащих к нему профессоров».
Это письмо было писано мною и подписано всеми подавшими в отставку профессорами, за исключением Дмитриева, который в это время получил по болезни заграничный отпуск, и, подавши прошение об увольнении, уехал сперва в Петербург, где он следил за ходом дела, а потом в чужие края.
Вместе с нами просил увольнения и попечитель. С ним была сыграна еще более удивительная штука. Очевидно, бумагою министра авторитет его подрывался в самом корне, и он выдавался всецело своим подчиненным. Рьяный защитник начала власти, граф Толстой не колебался топтать ее в грязь, когда это требовалось личными его интересами. Но этим дело не ограничилось. После прочтения бумаги в Совете, Леонтьев стал рассказывать, что это еще не все: попечитель должен получить выговор за сделанное им Совету замечание. Встретив Левшина, я спросил его: правда ли это. Он отвечал, что никакой другой бумаги не получал. Но несколько дней спустя я встретил его вновь. «Представьте, – воскликнул он, – ведь я выговор получил. Леонтьев знал это заранее».
Бумага министра к попечителю была следующего содержания: «Конфиденциально.
Милостивый государь, Дмитрий Сергеевич, по поводу сделанного вашему превосходительству Советом Московского университета представления на предложение по делу профессора Чичерина, вы, милостивый государь, признали нужным объявить Совету университета замечание.
Нисколько не желая ограничивать власть попечителя в тех чрезвычайных случаях, в которых попечитель, на основании 26-й ст. университетского Устава, уполномочен действовать всеми способами, хотя бы они и превышали его власть, я считаю однако необходимым покорнейше просить Вас, милостивый государь, на будущее время в случаях, подобных настоящему, сообщать мне предварительно о ваших предположениях. К сему я побуждаюсь тем соображением, что при скорости почтовых сообщений между столицами от некоторого, впрочем, весьма непродолжительного промедления едва ли могут произойти весьма существенные неудобства и упущения времени в тех случаях, когда событие не принадлежит к числу тех, для предупреждения или для прекращения которых необходимо принять неотлагательно чрезвычайные меры. Примите и пр. Гр. Д. Толстой».
Таким образом, попечитель получил замечание за бумагу, которая была одобрена самим министром. Впоследствии, князь Владимир Андреевич Долгорукий рассказывал мне, что он спрашивал у графа Толстого: правду ли говорит Левшин, будто он читал ему ту бумагу, за которую он получил замечание. «Может быть, – отвечал Толстой, – я пропустил ее мимо ушей».
Очевидно, Левшину невозможно было далее оставаться на своем месте. Он просил меня, по его указаниям, написать ему два письма, одно к графу Толстому в ответ на бумагу, другое к военному министру с просьбою о переводе в Комитет раненых. Вот эти два документа, которые и были посланы по принадлежности.
«Милостивый государь, граф Дмитрий Андреевич. На письмо вашего сиятельства от 2 февраля 1867 года за № 26, честь имею объяснить следующее:
Замечание, которое я поставлен был в необходимость сделать Совету Московского университета, было вызвано вовсе не представлением Совета на мое предложение по делу профессора Чичерина, а нарушением в Совете законного порядка и превышением данной ему власти. Это и было выражено мною следующими словами: «что по-прежнему я остаюсь при убеждении, что Совет в отношении к одному из своих членов действовал неправильно и в решении своем по его делу вышел из границ предоставленной ему власти, и что вследствие этого я не считаю себя в праве оставить без внимания какое-либо отступление от порядка в подведомственных мне учреждениях, и к крайнему моему неудовольствию, вижу себя вынужденным сделать по указанному обстоятельству замечание университетскому Совету».
Указавши на истинную причину, послужившую поводом к сделанному мною замечанию, я должен предположить, что вашему сиятельству были неправильно доложены бумаги.
Далее, в письме своем вы изволите говорить, что не желаете стеснять власти попечителей в тех чрезвычайных случаях, когда они, на основании 26-й ст. университетского Устава, уполномочиваются действовать всеми способами, даже превышая свою власть; но что в случаях, подобных настоящему, я должен предварительно сноситься с вашим сиятельством. Из этих слов я усматриваю, что в настоящем случае вы считаете мою власть превышенною. На это считаю долгом объяснить, вашему сиятельству, что на этот раз я не имел даже нужды прибегать к присвоенному мне упомянутой 26-й статьею праву действовать с превышением власти, а поступил на основании той же 26-й ст., которая вменяет попечителю в обязанность принимать все нужные, по его усмотрению, меры, чтобы принадлежащие к университету места и лица исполняли свои обязанности. Замечание, сделанное за отступление от законного порядка, есть самая легкая степень взыскания, которое может быть наложено начальником на подчиненных. Ст. 216-я II тома Свода законов, где излагаются различные виды дисциплинарных взысканий, присваивает право делать замечания прямо непосредственному начальнику. Без этого власть попечителя обращается в ничто, и он лишается возможности наблюдать за порядком в подведомственных ему заведениях, как требует от него закон. На основании 3 п. 262 ст. того же II тома Свода законов, я имею право сделать Совету даже выговор. А так как эти права присвоены мне законом, и, ваше сиятельство, вероятно, не желаете стеснять власти попечителей и в обыкновенном ходе дел, то я опять должен предположить, что все дело было предоставлено вам в превратном виде.
Письмо вашего сиятельства, вместе с присланным вами решением по поводу возникших в университете недоразумений, тем более меня удивили, что в течение всего дела, в неоднократных разговорах, ваше сиятельство изъясняли мне свое желание, чтобы я покончил эту историю сам, в силу предоставленной мне власти, давши законное удовлетворение, кому следует. Считаю долгом напомнить вашему сиятельству, что, в недавнюю бытность мою в Петербурге, предложения мои Совету были читаны вам и получили полное ваше одобрение. Замечание же, сделанное мною Совету, было ничто иное, как последствие тех самых предложений, которые Совет отказывался принять к исполнению. Достоинство вверенной мне власти не позволяло мне останавливаться на этом. Как начальник, я должен был настаивать на своем решении и имел, несомненно, право надеяться, что получу от вашего сиятельства полнейшую поддержку. Имея в виду и достоинство власти попечителя, и требование законного порядка, и наконец пользу вверенного мне учреждения, я не могу не считать этого нового, совершенно неожиданного для меня поворота дел в высшей степени прискорбным.
В заключение, не могу не выразить сожаления о том, что содержание конфиденциальных писем вашего сиятельства становится известным в Москве, прежде нежели я их получаю».
Письмо к военному министру[66]66
Милютин Дмитрий Алексеевич.
[Закрыть] было следующее:
«Милостивый государь, Дмитрий Алексеевич! Обращаюсь к вашему высокопревосходительству с покорнейшею просьбою, как к ближайшему начальнику по военному ведомству, к которому я имею честь принадлежать.
В прошлое лето расстроенное мое здоровье заставило меня думать об оставлении настоящей моей должности и о приискании более спокойного места для окончания моего служебного поприща. Я тогда же хотел обратиться с этим к вашему высокопревосходительству. Но неожиданно возвратившиеся силы побудили меня отложить это намерение. Я не хотел, без крайней нужды, оставить место, на которое я был призван не по собственному моему желанию, а волею государя императора. Сорокасемилетняя моя служба может свидетельствовать о том, что я никогда не отказывался исполнять возлагаемые на меня обязанности. Но ныне нравственные причины первостепенной важности заставляют меня выйти из Министерства народного просвещения. Позвольте мне объяснить вам вкратце, в чем состоит дело.
Еще весною прошедшего года в Совете Московского университета произошли между членами и ректором взаимные пререкания, которые сопровождались отступлением от законного хода дел и даже некоторыми беспорядками. Профессор Чичерин, который входил в Совет с представлением о том, что он считает незаконными действия ректора, обратился ко мне с просьбой рассудить дело. Его поддерживали некоторые из достойнейших профессоров университета. Я нашел, что ректор и Совет в данном случае поступили неправильно, и решился дать законное удовлетворение обиженному, основываясь в своих действиях на университетском уставе, который уполномочивает попечителя принимать все нужные по его усмотрению меры, чтобы подведомственные ему места и лица исполняли свои обязанности. В это время г. министр народного просвещения приехал в Москву. Я неоднократно с ним беседовал об этом деле; главные документы были ему известны; он сам говорил с обеими сторонами. Познакомившись с делом, г. министр выразил мне желание, чтобы я, во всяком случае, покончил его собственною властью, и именно в том смысле, в каком я предполагал. При этом он прибавил, что следует дорожить людьми, которые составляют цвет университета. Уверенный в поддержке начальника, я в сентябре месяце прошедшего года послал в Совет предложение, в котором изъяснял, что считаю действия его относительно профессора Чичерина неправильными. Совет отвечал мне отказом принять мое предложение к исполнению. Это побудило меня написать более настойчивую бумагу, и на этот раз я мог надеяться, что все дело будет покончено. Я сам в эту пору, по случаю бракосочетания государя наследника, ездил в Петербург, читал министру и свои бумаги и ответ Совета и получил от него полное одобрение моих действий. В то же время в Петербурге находился и ректор Московского университета. Я сказал министру, что одного его слова ректору будет достаточно, чтобы прекратить неуместные пререкания между подчиненными и начальником, и г. министр обещал, что это слово будет сказано. По возвращении ректора из Петербурга, Совет отвечал мне новым отказом. Достоинство вверенной мне власти не позволяло мне останавливаться на этом. Я сделал Совету замечание о неправильности его действий, сказал, что считаю неуместным вступать с ним в полемику и объявил все дело поконченным. Немедленно я донес об этом министру, причем препроводил и самое дело. Каково же было мое удивление, когда г. министр, с своей стороны, объявил новое решение, совершенно противоположное моему, им самим прежде одобренному, решение, вследствие которого шесть из лучших профессоров Московского университета немедленно подали в отставку. Самое замечание, сделанное мною Совету за отступление от законного порядка, было сочтено г. министром народного просвещения превышением власти! Что же такое после этого власть попечителя и какими способами может он исполнять возложенные на него законом обязанности? И если бы это решение было вызвано новыми, дотоле упущенными из виду обстоятельствами, оно было бы еще понятно, но ничего подобного нет. Тут очевидно действовали посторонние влияния и интриги, о которых я не хочу распространяться.
Из всего этого, ваше высокопревосходительство, можете усмотреть, что я просто был обманут и предан своим непосредственным начальником. Не могу скрыть от вас, что я глубоко оскорблен таким способом действия, подобного которому я не видел в течение своей многолетней жизни. Я думал, что моя почти пятидесятилетняя честная и усердная служба государю и отечеству дает мне право на большее уважение. Но еще больнее мне не за себя, а за участь вверенного мне учреждения, которое расстраивается удалением лучших его сил, и в котором водворяется торжество интриги и беззакония, как пример для воспитывающихся в нем молодых людей!
Собственное мое нравственное достоинство и унижение в моем лице попечительской власти не позволяют мне оставаться при должности, на которую я был призван доверием государя. Усердно прошу вас довести до сведения его величества об истинных причинах, почему я должен просить увольнения. Извините, что я решаюсь вас этим утруждать. Знаю, что это дело щекотливое. Но вы – мой ближайший начальник, и других путей у меня нет. Зная вас, я надеюсь, что вы не откажете честному человеку, поседевшему на службе, который дорожит доверием своего государя и не желает, чтобы конец его жизни был омрачен представлением его действий в превратном виде.
В заключение, позвольте мне присоединить к этому еще одну просьбу. Я имел честь изъяснить вашему высокопревосходительству, что желаю кончить свое поприще на покойном месте. Если моя долголетняя служба и тяжелая рана, полученная в Турецкую кампанию, дают мне на это некоторое право, то я просил бы о назначении меня в Комитет раненых».
Последняя просьба была исполнена несколько времени спустя.
Между тем, наша отставка произвела шум. В жизни университета это было событие. Студенты волновались. Мы получали письма и адресы, покрытые многочисленными подписями, с заявлениями сочувствия и с просьбою не оставлять университета. Пошли толки и в обществе, как в Москве, так и в Петербурге. Но в высших сферах дело принимало неблагоприятный для нас оборот. Нас выдал единственный человек, который мог нас поддержать и спасти любимый им университет от разгромления – граф Сергей Григорьевич Строганов.
Душою преданный общественному делу, граф Строганов никогда не входил в положение лиц. Едва ли в течение всей своей жизни он двинул пальцем, чтобы кому-либо оказать помощь или защиту. Для него люди были пешки, призванные служить общей пользе. К этому присоединялись податливость на лесть, непомерное самолюбие и упорство. Ловкому человеку не трудно было, подольстившись, опутать старика, и граф Толстой сделал это с обычною своею вкрадчивостью и бессовестностью, представив дело в совершенно превратном виде. Я уже прежде посылал графу Строганову внесенные мною в Совет бумаги и получил от него одобрение. Теперь я послал ему изложение всех обстоятельств, резко выражаясь насчет министерских действий. Соловьев писал ему, с своей стороны. Но он был уже задобрен министром, а входить в разбор юридических тонкостей он был не в состоянии. Все это казалось ему ничтожными пререканиями, которыми надобно жертвовать для пользы университета. Я получил от него письмо, в котором он писал, что, рассылая поднятые мною вопросы для обсуждения по всем университетам, министр тем самым оправдывал нас в принципе, и что этим удовлетворением мы могли бы довольствоваться, так как в интересах университета надобно было отложить в сторону всякие личности. «Покидая профессуру (sic!), Вы и Ваши товарищи наносите смертельный удар цивилизации нашей общей родины, Вы приносите в жертву целое поколение студентов и принимаете на себя громадную моральную ответственность; перед такой перспективой – нет места сомнению; если я требую от Вас нового доказательства гражданской доблести, то это потому, что я верю в будущее и в Ваши таланты, для выполнения великого и дорогого для нас всех дела возрождения»[67]67
Текст письма приведен в подлиннике по-французски.
[Закрыть].
Меня это письмо возмутило. Если он действительно так дорожил приносимою нами пользою, то надобно было нас оградить от оскорблений и сделать пребывание в университете возможным для порядочных людей. Одного слова графа Строганова было достаточно, чтобы правое дело было решено, как следует. Но вместо того, чтобы сказать это слово, он выдавал нас связанными по рукам и по ногам шайке негодяев, властвовавших в университете, и гнусному министру, который из личных видов оказывал им покровительство, и после этого он требовал от нас, чтобы мы пожертвовали и честью и нравственным достоинством для общественной пользы. Удар русскому просвещению, по его словам, наносили мы, уходя от невозможного положения, а не министр, который нас к этому принуждал. От нас требовалась добродетель, а от министра ничего. В этом смысле я написал ему ответ, прибавляя, что не иначе, как с сердечной болью приходится с ним расставаться, но другого исхода нет, после того как он вслед за министром отказывает нам в защите. Но когда я набросок этого письма прочел Соловьеву, он сказал мне: «Бросьте это! Старика совсем опутали; надобно ему простить за прежние его заслуги». Я разорвал письмо; но прежние сердечные отношения никогда не возобновлялись. Он считал меня беспокойным человеком, с которым ничего не поделаешь, а я увидел, что он под старость замкнулся для всех человеческих отношений и остался открытым только для потаенных путей. На графе Сергее Григорьевиче Строганове в значительной степени лежит вина в печальном исходе всей этой истории и в последовавшем затем падении Московского университета.
Дмитриев, остановившись в Петербурге, описывал мне подробно все тамошние толки и различные обороты нашего дела. Он был близок и ко двору Елены Павловны и к графу Строганову, по товарищеским отношениям к сыну, и к Исакову, и к Абазе, а потому хорошо был осведомлен обо всем, что говорилось и делалось. От 12 февраля он писал:
«Толков много самых разнородных. Наша отставка производит сильное впечатление. Это едва ли не единственный предмет разговоров. Все говорят, что Московский университет распадается, и в высших сферах об этом скорбят. Граф Толстой встревожен и не скрывает своего затруднения, но уверяет, что не мог поступить иначе. Он, кажется, поступил довольно ловко с своею бумагою, т. е. заручился заранее одобрением многих лиц. Едва ли даже она не была заранее читана государю. Несомненно, что он или говорил о ней наперед графу Строганову, или читал вчерне; но должно быть не всю, ибо мне показалось, что старик видел в ней вежливый выговор большинству. Строганов в большом недоумении. Твое письмо произвело на него сначала впечатление одного личного раздражения, и он отнесся к нему неблагосклонно. Потом я видел его с глаза на глаз и старался объяснить ему наше положение. Он понял лучше, но, думаю, что ему надо писать еще и хладнокровнее. Ты не поскупился на выражения.
В публике толки разные. Многие, очень многие нас обвиняют, особенно потому, что дело известно только в общих чертах. Многие воображают, что мы требовали смены профессора, неправильно утвержденного Головниным, и сердимся на непослушание министра. Как Толстой рассказывает дело, можешь заключить из того, что он неоднократно беседовал о нем с Мухановым, который все-таки ничего верного не знал. Мне все толкуют, что мы забываем интерес университета. Я отвечаю, что положение между деспотическим большинством и выдающим министром невозможное, и что честному меньшинству остается только выйти, когда закон перестает его ограждать.
Нет сомнения, что нашей отставке будут стараться дать вид демонстрации. Этот характер, во что бы то ни стало, надо с нее снять. Коллективное письмо министру – мысль хорошая, особенно если его распространять в копиях. Но письма к государю не одобряю[68]68
Это предположение было нами оставлено. – Прим. Б. Н. Чичерина.
[Закрыть]. Это примется за жалобу и заставит сильнее клеветать на нас. Впрочем, если вы пошлете такое письмо, то располагай моей подписью, ибо в этом деле нельзя отделяться.
Толстой, кажется, ищет выхода. Глупый армянин Делянов уже говорил об этом с Победоносцевым и со мною; а Толстой, кажется, поручил Исакову разведать от меня. Я советовал послать путного и независимого человека разведать дело и решить его или ждать письма к министру (это я сказал конфиденциально). Исаков поразил меня и привлек своим огорчением. Он истинно привязан к университету. Думаю, что он может быть нам полезен. С ним будут очень советоваться.
Все это я говорю потому только, что люблю университет, и сердце как-то сжимается при разлуке с ним. Не хотелось бы предавать его в такие руки. Но сам за себя чувствую совсем другое. Не могу представить, как я ворочусь в среду дорогих товарищей. Так они мне омерзели, что, кажется, не буду смотреть на них равнодушно. Этот год, тяжелый для меня и в других отношениях, совсем испортил мои нервы… Ты не поверишь, в каком я грустном настроении духа. Даже путешествие нисколько меня не утешает. Мне и своего горя было вдоволь, а тут еще эта университетская история, которая и сердит меня и огорчает. В одном мы точно виноваты. Надо было знать заранее, что нас выдадут. На святой Руси нет союза прочнее личных интересов. Заметил ли ты нахлобучку Толстому от «Московских Ведомостей», пока он медлил с отсылкой бумаги – статью о духовных училищах с похвалой Головнину и вчерашний их гимн справедливости и чувству законности нынешнего управления? Вот на чем держится Министерство народного просвещения!»
От 19 февраля Дмитриев писал:
«Ты, верно, уже знаешь, что министр народного просвещения точно так же понимает слова навыворот, как и ректор Московского университета. Это общая болезнь всего ведомства. Выражение: в частном письме навело Толстого на мысль внести ваше коллективное письмо в Совет министра. О логика тупоумия, усиленного бесстыдством! Разумеется, Совет министра остался неравнодушным к собственному осуждению. Он объявил, что за такое письмо стоит уволить без прошения. Толстой об этом рассказывал, чтоб удивлялись его великодушию.
Придать нашей отставке вид демонстрации не совсем, однако, удается. Императрица, говорят, сказала Толстому: «Ce sont pourtant des hommes de gouvernement. Ils ont soutenu l’autorité a l’époque des troubles de l’université»[69]69
«Это, однако, люди государственного ума. Они поддерживали власть во время университетских беспорядков».
[Закрыть]. Граф Строганов, уговаривая меня, в обществе держит нашу сторону (?) и говорит, что нельзя выпускать таких людей. Исаков также стоит за нас усердно. Его письмо к Соловьеву я читал и сказал ему, что успеха не будет. Чего же ты хотел, кроме общих мотивов? Честные все против того, чтобы остаться в университете. Это письмо делает честь Исакову. У него к университету теплое чувство. В обществе толки самые разные. Я заметил, что особенно огорчаются отцы и матери. Одна дама, княгиня Гагарина, урожденная Дашкова, сказала на бале у графини Протасовой очень милую вещь: «Je suis toujours pour les minorités, parce que Intelligence n’est jamais en majorité»[70]70
«Я всегда стою за меньшинство потому, что ум никогда не имеет большинства».
[Закрыть]. В бюрократии наша отставка понимается плохо. Академия – старая – нас бранит.
У великой княгини почти не было отношений к Толстому. Она видит его редко. Но она резко высказалась в нашу пользу и, может быть, это его смущает. С ним прямо она, кажется, не говорила.
Существует проект, приписываемый Толстому и, кажется, одобренный графом Строгановым, перевести всех нас в Петербургский университет. Толстой говорит, что надеется на вступление многих в другие университеты и радуется, что у него и там будут хорошие профессора. Отвечать на письмо он хочет по пунктам. Уведомь о его ответе.
Еще здешний слух. Говорят, на кафедру русской истории Толстой хочет пригласить Погодина. А редакция «Московских Ведомостей» телеграфировала В. П. Безобразову, не хочет ли он на кафедру политической экономии. Кажется, он принимает.
Теперешняя версия нашей истории бьет уже не на демонстрацию, а на раздражительность ученых. Примирительная наружность Толстого и его благочестивая репутация дают вероятность его уверениям, что он действовал в видах соглашения. Но двух результатов мы положительно достигли: 1) многие заметили верноподданнические чувства Толстого к Каткову; 2) репутация глупости Баршева сильно распространилась. Этого не отвергает даже недогадливый армянин Делянов. Сей последний, с чужого голоса, все взывает к нашему патриотизму. Это, вообще, точка зрения, в которой нас осуждают. От нас требуют самоотвержения во имя высших начал. Любопытно, что никто не взывает к патриотизму министра. Видно, там он необязателен.
Знаешь ли, кто нам сильно повредил? – Щуровский. Он был здесь передо мною и прикидывался нейтральным. Едва ли он помог опутать графа Строганова.
Вашим письмом я не совсем доволен. C’est trop diffus, cela a trop l’air d’une recrimination[71]71
Слишком расплывчато, слишком похоже на встречное обвинение.
[Закрыть]. Лучше бы посжатее, а конец сильнее. Но оно хорошо как краткая история.
А история все-таки кончится против нас».
Последнее письмо Дмитриева было от б марта, накануне его отъезда за границу.
«Самое главное, что я могу тебе сообщить, следующее: Толстой усердно рассказывает здесь, что он получил от профессоров очень дерзкое письмо, и указывает на тебя, как на автора. Это заставило меня внять совету великой княгини и написать ей по-русски письмо о нашей истории, более короткое, чем твое, и упирающее на главные пункты. Это письмо она передала императрице, которая показала его государю. Государь возвратил его со словами: «Письмо в сущности очень умеренное; мне приходило было на ум переслать его к Толстому, но потом я подумал, что это их личный взгляд, они смотрят на дело с своей точки зрения»[72]72
Слова государя приведены в подлиннике по-французски.
[Закрыть]. Логика, как ты видишь, престранная. Я подумал сначала, что письмо не имело никакого успеха. Но великая княгиня уверяет, что именно эти слова свидетельствуют об успехе, или, по крайней мере, о хорошем впечатлении. По ее мнению, если бы письмо было отослано к Толстому, это доказывало бы, что дело предоставляется ему бесконтрольно. Письмо осталось у императрицы.
Но императрица не за нас, несмотря на ее разговор с тобою в декабре. После моего письма она перестала говорить, que nous exagerons[73]73
Что мы преувеличиваем…
[Закрыть], но повторяет, que Tolstoy est tres modere[74]74
…что Толстой очень умеренный человек.
[Закрыть]. Великая княгиня сказала ей на это: «Если он такой умеренный, пусть назначит комиссию с участием Исакова для расследования дела»[75]75
В подлинике по-французски.
[Закрыть]. Та промолчала. Она, кажется, устраняется, чтобы не действовать против Толстого, который у нее в милости, но не совсем убеждена в его правосудии.
Другой интересный факт. Князь Василий Андреевич Долгорукий получил от брата письмо, в котором говорится, что студенты волнуются нашей отставкой. Это произвело опасения. Кажется, с этого времени поблек шуваловский проект – удержать всех, кроме нас с тобой, ибо де, мы рьяные. Впрочем, мои умеренные речи здесь поколебали и без того нескольких союзников Толстого: Муханова, Вяземского и т. д. Теперешний проект, по-видимому, состоит в отправлении весною в Москву графа Строганова. Об этом сильно говорят; но Строганов со мною секретничает, и я не нахожу политичным очень у него расспрашивать. Сегодня вечером я его увижу.
Надо тебе сказать, что в письме к великой княгине, выставив очень резко незаконность распоряжений Толстого, я особенно упирал на невозможность оставаться в университете без ограждения свободы мнений, и на то, что ее нельзя оградить иначе, как признав неправильность советского постановления. Упомянул вскользь и о сценах в Совете, сказав, что не смею утруждать рассказом об этих возмутительных происшествиях. Пусть Толстого спросят, что было.
Толстого все более и более тревожит мое пребывание здесь, особенно с тех пор, как в ответ на его уверения, что мы с тобой поджигаем других, ему говорят о моем умеренном тоне. Я думаю ехать завтра. Полагаю, что здесь нечего более делать».
Дмитриев несколько, впрочем, обманывал себя насчет впечатления, произведенного его умеренностью. Победоносцев говорил мне, что императрица отзывалась о нем: «C’est un vil intrigant!»[76]76
Это гнусный интриган!
[Закрыть]. Граф Толстой представлялся ангелом чистоты, а Дмитриев, который стоял за самые элементарные требования справедливости, обзывался гнусным интриганом. Таков непроходимый туман, господствующий в высших сферах, что все в нем чудится навыворот. Всех нас представляли красными революционерами, и этому верили. На этот счет я имел сведения от баронессы Раден. Она писала мне от 2 апреля.
«У меня перед глазами Ваши оба письма, и я не могу удержаться от чувства грусти. Итак, судьба университета решена по всем правилам, и его разрушение с точки зрения науки подписано и запротоколено. Подумал ли хоть один из тех, кто способствовал этому плачевному результату, о том моральном зле, какое он делал. Но что значит совесть для некоторых характеров. Разве она не подчиняется неизбежному ослеплению, по мере того, как личное самолюбие все сильнее овладевает человеком. Граф Толстой даже похудел, но добился-таки того, что все вы, выдающиеся консерваторы, люди, что там ни говори, государственного ума, каждый из которых мог бы сыграть убежденно роль Руэ, вы все запятнаны мятежным либерализмом; на вас глядят, как на жирондинцев в зародыше (Girondins en herbe), как на красных, бедные мои друзья. Мне это было бы совершенно безразлично, и я принимала бы с одинаковым хладнокровием медовосладкие и уклончивые суждения князя Урусова и умеренную брань (invectives moderees) графа Толстого (императрица восхищается его умеренностью) и краткие и, с Вашего позволения, холопские сентенции графа Строганова, если бы такой образ мыслей в высших сферах не доказывал вавилонского смешения понятий. Я не могу не волноваться. Ведь это не просто опыты вивисекции; оперируют над живым человеческим мясом, режут нервы, от которых зависит будущность России»[77]77
В подлиннике письмо приведено на французском языке.
[Закрыть].
Враги правительства, разумеется, потирали себе руки, видя как консерваторы попались впросак и на своих боках почувствовали всю прелесть той власти, которую они защищали. Казалось бы, при скудости наших умственных сил, при расшатанности общества, при том хаосе понятий, который в нем водворился, – надобно было, как зеницей ока, дорожить тем маленьким ядром мыслящих и крепких в своих охранительных убеждениях людей, которое случайно образовалось в Московском университете; а, между тем, правительство само, без зазрения совести, разбивало это ядро и рассеивало его по ветру, отдавая бренные плоды русского просвещения на жертву грязной сделке между министром и журналистом. Результат был тот, что всякий разумный консерватизм исчез, нигде не находя опоры. На место его выдвигалась наглая реакция, журнальная в лице Каткова и чисто бюрократическая в лице графа Толстого. Оба на развалинах Московского университета заключили между собою союз.









































