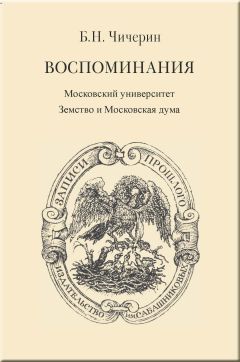
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 45 страниц)
Оно покрыто непроницаемым мраком. Не только Россия, но и вся Европа стоит перед какими-то зловещими призраками, которые грозят разрушением всему существующему строю человеческих обществ. Настоящее положение невыносимо. Страшное напряжение военных сил, истощение средств, повсюду внутренняя разладица, впереди ожидание нескончаемых потрясений и кровавой борьбы, невежественные массы, которые дружными фалангами сплочаются под знаменем демагогов и грозным натиском идут на завоевание государственной власти, с тем, чтобы сделать ее орудием для ограбления зажиточных и образованных классов, вот что мы имеем перед глазами. Последний великий государственный человек, который ныне гложет свою узду в вынужденном бездействии, Лизандр нового времени,[192]192
Б. Н. Чичерин имеет здесь в виду Бисмарка, государственного канцлера Германской империи с 1871 по 1890 г. В другом месте Чичерин характеризует его как «деятеля, который, идя по стопам Фридриха II и сочетая коварство с железною волею, умел перевернуть всю Европу и сделать Пруссию могущественнейшею державою в мире, не возбуждая, впрочем, сочувствия в тех, которые не поклоняются силе, а ищут удовлетворения высших потребностей человека».
[Закрыть] как я назвал его в другом месте, сделал голую силу высшим решителем судеб человечества. И право, и нравственность, все было попрано ногами без малейшего зазрения совести. Мы были свидетелями того, как в одно прекрасное утро несколько тысяч невинных польских семейств, издавна поселенных в северных провинциях Пруссии, без малейшего повода были выброшены за границу, и вся Европа безмолвствовала перед этими «проделками милой Фанни», как выражался об этом событии «Таймс». Эго было нечто вроде изгнания у нас евреев. Чего же мы могли ожидать в своем отечестве, когда среди самых просвещенных народов Европы правительства действовали с таким возмутительным произволом? В Англии другой государственный человек, в течение многолетней жизни стяжавший и славу и уважение современников, вдруг, на старости лет, из личного честолюбия отрекся от всех прежних своих убеждений, оттолкнул от себя лучших своих сподвижников и протянул руку тем, которых накануне еще и совершенно справедливо обзывал грабителями, разбойниками и убийцами, отдавая им на жертву полтора миллиона своих соотечественников и повергая свое отечество в такую бездну зол, из которых не предвидится исхода.[193]193
Надо полагать, что автор имеет в виду Гладстона, который в августе 1892 г., после победы либералов на выборах, образовал свой четвертый кабинет с весьма радикальной по тому времени программой. Уже в феврале 1823 г. Гладстон внес билль о гомруле (автономии) для Ирландии, намечавший учреждение специального ирландского парламента. Борьбе ирландцев за автономию Чичерин, очевидно, не сочувствовал, его пугали террористические акты, которыми она сопровождалась и против которых в свое время (в начале 1880-х годов) тот же Гладстон прибегал к самым суровым мерам, вплоть до смертных казней.
[Закрыть] Италия, которой возрождение мы приветствовали в молодости, ныне напрягает все силы в безумных и бесполезных военных тратах; разоренная, недовольная, потерявшая всякие нравственные устои, она управляется ловким фигляром, меняющим, как перчатки, свои цели и убеждения, и считающимся между тем необходимым человеком.[194]194
Криспи, итальянский премьер с 1887 до 1890 г.; при помощи самых циничных приемов на выборах 1890 г. он добился незначительного большинства в новой палате, но не удержался у власти ив 1891 г. уступил свой пост Джиолитти; в ноябре 1893 г. ему удалось снова занять место премьера. Типичный ренегат, начавший свою политическую деятельность как революционер, член революционного сицилийского правительства в 1848 г. и сподвижник Гарибальди, он в качестве премьера усмирял военной силой восстания в Сицилии и в Ломбардии, проводил исключительные законы.
[Закрыть] Во Франции демократия, оставшись одна на развалинах постыдно павших монархий, представляет только зрелище полной внутренней неустойчивости и беспрерывных денежных скандалов. В обществе, развращенном до самых глубоких слоев и потерявшем всякую веру в высшие идеалы, нет ни зрелой мысли, ни выдающихся деятелей. Монархические партии покрыли себя позором низкими интригами и союзом с проходимцем[195]195
Намек на генерала Буланже, кумира французской армии, пользовавшегося громадной популярностью во Франции, кандидата в диктаторы, человека совершенно беспринципного, который одновременно пытался в своих целях опираться и на радикалов, и на монархистов и, запутавшись в двойной игре, в решительную минуту бежал 1 апреля 1889 г. из Парижа в Бельгию.
[Закрыть], которого они, жертвуя всеми интересами отечества, выдвигали на первый пост в государстве; а умеренные республиканцы, принужденные для сохранения правительственного большинства делать постоянные уступки легкомысленному и наглому радикализму, шатаются из стороны в сторону, не зная, за что ухватиться. Всюду, во всех европейских странах, как возрастающая, неотразимая сила, выдвигается социализм, бессмысленный в своих основах, но грозящий разрушить весь сложившийся трудами человечества общественный порядок и в самом корне подавить человеческую свободу, подчинив ее всецело всеохватывающему деспотизму масс. Невольно вспоминаешь слова старика Пасси, приведенные в одной из предыдущих глав: «Европе придется пройти через страшные потрясения, прежде нежели она путем горького опыта придет к более или менее нормальному порядку вещей».
Некогда я воображал, что если демократия и не принесет того, что ожидают ее поклонники, то все же, приобщая к политическому праву самые глубокие слои общества, она вызовет из глубины народного духа новые, непочатые силы и внесет в дряхлеющую европейскую жизнь свежие элементы. В действительности, она не принесла ничего, кроме разве усиления разрушительных стихий.
При таком состоянии общества, иногда невольно спрашиваешь себя: точно ли сохранение мира составляет благо для современного поколения? Не требуется ли всеобщая война для того, чтобы выйти наконец из напряженного состояния, очистить наполненный миазмами воздух, поднять человеческие силы и вывести Европу на правильный путь. Но когда сообразишь с другой стороны те страшные бедствия, которыми сопровождается война при современных орудиях разрушения, когда подумаешь, что нет в современном мире той силы, которой можно было бы пожелать успеха, что на чьей бы стороне ни осталась победа, она, пожалуй, может породить еще большее Зло, тогда невольно преклоняешь голову в покорном ожидании того, что пошлет нам высшая воля, невидимо руководящая судьбами народов. Кто из людей дерзнет взять на себя такой почин? Разве ни в чем не сомневающийся германский император.[196]196
Вильгельм II.
[Закрыть]
Тяжело при таких условиях доживать свой век. Еще тяжелее, когда от удручающей общественной жизни нельзя уйти в счастливую семейную жизнь, когда и тут есть рана, которая точит сердце, не давая ему успокоиться в конце своего земного поприща. В таком положении человеку остается одна отрада: переноситься мыслью в прошлое, воскрешать в себе милые, дорогие сердцу образы, память прожитых дней, все радости и страдания жизни. В этом он находит утешение, которого не дает настоящее.
Стариков обыкновенно обвиняют в том, что они восхваляют прошедшее в ущерб настоящему. Я не думаю, чтобы это было вообще справедливо. Я хорошо знал предшествовавшее мне поколение; я был к нему, может быть, даже ближе, нежели к своему. Но я от людей того времени не слыхал восхваления прошлого. Напротив, они видели в молодежи зачинателей того, что им было недоступно; они от полноты сердца поддерживали ее на новых путях; они с радостью приветствовали открывающуюся перед их взорами зарю новой жизни и сошли в могилу в ожидании лучшего будущего.
А между тем, за исключением немногих избранных натур, которых высшие требования не находили удовлетворения, они собственною жизнью не тяготились; они бодро наслаждались всеми радостями, которые дает человеку земное существование, и желали своим детям прожить свой век также счастливо, как жили они. Таково нормальное отношение поколений. Нам оно не дано, ибо условия жизни иные. Нас в пору зрелости, после пылких надежд, постигло разочарование, а на склоне дней, вместо теплых лучей заходящего солнца, обещающего на завтра ясный восход, перед нами воздвигается темная завеса, скрывающая от нас будущее. Стоя на пороге могилы, обращаешь взор кругом и на всем умственном горизонте не замечаешь ни одного явления, на котором можно бы остановиться с надеждой и любовью.
В таком настроении я в 1887 году решил помянуть старину, отпраздновав пятидесятилетний юбилей приобретения Караула. В первой главе [197]197
Впервые публикуется в 1-м томе настоящего издания. Глава «Мои родители и их общество», также как и вторая глава «Мое детство», не вошли в выпуски серии «Записи Прошлого» Издания М. и С. Сабашниковых.
[Закрыть] я описал, как отец мой праздновал это семейное событие: сперва съездом друзей и родных на именины матери, а затем осенью угощением крестьян. Для нас семейных праздников уже не было. Все домашние радости были похоронены в могилах детей. Но с крестьянами я хотел соединиться в общем чувстве и помянуть прежних владельцев. По окончании полевых работ я задал им пир. К этому дню случайно подъехал мой старый друг Щербатов; приехал зять его Соловой с своею женой. Из братьев был только Андрей. Двое в это время уже сошли в могилу[198]198
Василий Николаевич Чичерин, умерший в 1882 г., и Аркадий Николаевич Чичерин, умерший в 1875 г.
[Закрыть]; Владимир был болен; Сергей где-то странствовал за границей, а Петр, кажется по рассеянности, забыл число, сестра была далеко.
После обедни, на которую сошелся весь мир, мы отслужили торжественную панихиду на могиле моих родителей. Затем все собрались у дома к парадному крыльцу, и я держал им следующую речь:
«Я собрал вас сегодня, чтобы вместе с вами помянуть пятидесятилетие перехода Караула во владение нашей семьи и нашего постоянного жительства здесь. В 1837 году мой отец купил Караул и основался в нем. Тогда было угощение крестьянам. Я был еще маленьким мальчиком, но живо это помню. Вероятно ваши старики также хорошо это помнят. Сегодня мы вместе с вами отслужили панихиду по моим родителям. Их следовало помянуть с благодарностью. Старики могут сказать, как отец мой, при крепостном праве, управлял Караулом: справедливо и разумно, не требуя лишнего, прилагая строгость, где нужно, заботясь о благосостоянии всех. При нем Караул процветал. Даже те, которые нищенствовали прежде, зажили в довольстве.
После него управлял мой брат, Владимир Николаевич, которого также нельзя не помянуть добрым словом. Жалею, что нездоровье не позволило ему присутствовать здесь сегодня. При нем вы получили от царя свободу; он устроил ваш новый быт и устроил безобидно, соблюдая выгоды не только помещика, но и крестьян. Всякий из вас скажет, что он, так же, как отец, управлял справедливо и разумно. Оттого и отношения не изменились. Крепостное право было упразднено, власть помещика исчезла; но связь с крестьянами осталась прежняя, дружеская, семейная.
Затем мы разделились. Желание матери было, чтобы я, как старший, остался хозяином в Карауле. Я не забуду той минуты, когда я в первый раз приехал сюда с молодою женой. Слепая мать встретила нас с иконою на этом самом крыльце. Вся деревня была тут, и мать представила нас миру, как новых хозяев Караула. С тех пор прошло шестнадцать лет, и мы всегда жили с вами в мире и согласии. Вы делили мои радости; вы делили и мое горе. Когда богу угодно было послать нам величайшее несчастие, какое может постигнуть человека на земле, когда мы хоронили своих детей, вы также были тут. Сторонние люди были тронуты тем участием, которое выражалось во всех. И это я не забуду.
Теперь я стар и удручен горем. Детей у меня не осталось. Вероятно не долго уже мне придется с вами пожить. Но кто бы ни были мои наследники, я желаю одного: чтобы они жили с вами в мире и любви, как жил мой отец, как жил мой брат, как жил и я. И если через пятьдесят лет, бог даст, хозяином в Карауле будет кто-нибудь из нашего рода, я заказываю тем из молодых, которые здесь присутствуют и которые будут тогда живы, чтобы они пришли к нему и сказали, что в 37-м году отец мой купил Караул и задал угощение крестьянам, что в 87-м году я устроил также угощение в память истекшего пятидесятилетия, в память отца и матери и в ознаменование постоянных дружеских отношений между караульскими помещиками и караульскими крестьянами, и при этом заказал, чтобы через пятьдесят лет было опять такое же угощение, в память всего прошлого и всех прежних владельцев Караула.
Теперь я выпью с вами чарку водки. За процветание Караула и за сохранение добрых, сердечных, семейных отношений между караульскими помещиками и караульскими крестьянами из рода в род!»
Все мои гости выпили вслед за мною. Крестьяне были, видимо, тронуты моею речью. Каждый из них по очереди подходил к приготовленной тут бочке вина и выпивал чарку, затем получал кусок мяса и пирог; детям раздавались булки и пряники. Вдоль широкой въездной аллеи были расставлены столы и скамейки. Каждая семья садилась за свой стол и обедала. Мы ходили между рядами. Многие старики подходили к нам со слезами и говорили, что видно бог нас наставил, чтобы устроить такое угощение. После обеда все опять получили по чарке, а охотникам давали и больше. Крестьяне разгулялись. День был чудесный, воздух мягкий; солнце сияло в полном блеске. Песни и пляски продолжались до самой ночи. Многих развезли по домам.
Но редко в человеческой жизни к радости не примешивается горе. И тут общее веселье омрачилось печальным происшествием. Один из крестьян, который уже прежде был болен и которого доктор предостерегал от вина, напился допьяна и на следующий день умер, не пришедши в себя.
Погружаясь душою в прошлое, я решился писать свои воспоминания. В течение шести лет, от 88-го года до нынешного 94-го, я почти каждую осень, в деревенском уединении, принимался за эту работу. Она доставила мне много хороших часов. С особенною любовью писал я первые главы, которые воскрешали передо мною давно минувшее время, золотые сны детства, пылкие надежды и все обаяние молодости, все, что похоронено в душе и как бы заплыло житейскими наносами, но что на закате дней восстает из заветной ее глубины и является воображению в виде поэтической картины, отошедшей в туманную даль, но полной и гармонической жизни. Как живые возникают передо мною дорогие лики: отец с его серьезным, но мягким характером, с его разумным и просвещенным взглядом на жизнь, любящая и заботливая мать, все старые друзья нашей семьи, величавая фигура Кривцова, неиссякаемый блеск Баратынского, Жемчужникова с его тонким умом и вечною нерешительностью, веселый и сердечный Петр Андреевич[199]199
Петр Андреевич Хвощинский, двоюродный брат матери автора.
[Закрыть], все, что окружало мои ранние годы, кроткий и ясный образ Катерины Петровны[200]200
Екатерина Петровна Кривцова, жена Н. И. Кривцова.
[Закрыть], чудак-гувернер, которому я стольким обязан [201]201
Голландец Тенкат.
[Закрыть], чистый и восторженный учитель истории Сумароков, Василий Григорьевич[202]202
Василий Григорьевич Вязовой.
[Закрыть], в течение многих лет неизменный член нашей семьи, который в детстве был нам и товарищем и учителем, а затем Московское литературное и университетское общество, умный, живой и участливый Павлов, который ввел нас в эту сферу, возвышенный образ Грановского, который, как светлый идеал, озарял мою молодость и оставил неизгладимые следы на всей моей жизни, увлекательная борьба славянофилов и западников, то умственное упоение, которое носилось в тогдашней атмосфере и зажигало огонь в молодых сердцах. Люблю повторять эти имена; они будят во мне целый рой воспоминаний; они примиряют меня со всеми невзгодами и разочарованиями, которые составляют удел человека. Памятуя их, я верю, что на земле есть место для счастья, для поэзии и для увлечений.
Ныне, когда мы с женою, на старости лет, одинокие, живем в Карауле, посещая дорогие могилы и взаимною любовью поддерживая свое земное существование, мне сдается иногда, при этих воспоминаниях, что здесь опять когда-нибудь возродится полная и счастливая жизнь, что эта пышная местность снова сделается приютом цветущей семьи, что в обширном доме будут раздаваться детские голоса и новое поколение, наслаждаясь настоящим, вспомнит о тех радостях и горе, которые пали на долю их предшественников. Поэзия прошлого проливает свой тихий свет на будущее.
И теперь еще, когда в нем царит неисцелимая скорбь, Караул не перестал быть центром, куда порою стекаются родные и друзья. Живой и общительный характер моей жены, ее сердечное участие ко всем, не только близким, но и посторонним, ее возвышенный нравственный строй, воспитанное горем глубокое, но чуждое всякой исключительности религиозное чувство, ее образованный ум и неизменная деликатность привлекают к ней и старых и молодых. У нас подолгу гостят и ее и мои родные. Так мы проводим большую половину года, летом в небольшом дружеском обществе, осенью большей частью одни. А на зиму мы обыкновенно отправляемся в Крым.
В первый раз мы посетили Южный берег после смерти дочки, мыкая свое горе. Очарование южной природы, безбрежное морс, впечатления живописной местности Ялты благотворно подействовали на жену. Мы решили туда возвращаться. Несколько зим сряду мы занимали господствующую над Ялтою дачу Дондукова, с громадным парком, где на каждом шагу открываются прелестные виды. Любил я в зимнее ясное утро выходить в галерею и, открывши окно, впитывать в себя благоухание южного воздуха, видеть кругом густую зелень лавров, миртов, кипарисов, а вдали бесконечный горизонт сизого моря, сверкающего под солнечными лучами. Но еще очаровательнее Крым весною, когда горы покроются зеленью, луга усеются весенним первоцветом, а в садах и лесах зацветут деревья, белые миндали, розовые персики, густо облепленное красно-лиловыми цветами иудейское дерево, ниспадающий золотым дождем гибкий ракитник, наконец в начале мая миллион роз, украшающих и цветники и дома. В первые годы нашего пребывания в Ялте мы с женою совершали большие прогулки пешкой: ходили на развалины Генуэзской крепости Heap, в живописнейшей местности, где грозные скалы и вековые сосны напоминают ландшафт Швейцарии и Тироля; спускались по каменистым тропинкам в красивое ущелье Ай-Василя и оттуда поднимались на дорогу в Массандру. С годами эти пешие прогулки прекратились; стариковские ноги не носят так далеко. Остались поездки в очаровательные и разнообразные окрестности, какими изобилует Ялта: в величественную Массандру с громадными кипарисовыми рощами и пиннами, переносящими воображение в волшебные края Италии; в живописную Ореанду, где по скалам и ущельям среди моря зелени вьются игривые тропинки, в Алупку, украшенную всем, что могла изобрести человеческая роскошь, на водопад Учан-Су, низвергающийся с высокой скалы среди громадного соснового бора, на вздымающийся над ним Пендикюль, откуда восхитительнейший вид простирается на всю лежащую у подножия долину, покрытую густою зеленью сосновых и буковых лесов, на скалистое ущелье с низвергающимся водопадом, на панораму гор, на извилистый берег с окаймляющим его городом, наконец на безбрежное Черное море.
В Ялте собралось небольшое дружеское общество, которое видалось почти ежедневно. Наше пребывание там привлекло сестру моей жены, замужем за Василием Аркадьевичем Кочубеем; они купили участок в парке Дондукова и построили себе дачу. Над ними построился старый мой приятель Петр Федорович Самарин. Брат Владимир стал ежегодно ездить в Ялту для поддержания здоровья; постоянно приезжал и брат Петр, который селился у нас, вполне наслаждаясь тамошнею привольною жизнью. Первые годы жила там и наша деревенская соседка и добрая приятельница, старушка Наталья Андреевна Соловая. Жила также княгиня Черкасская, вдова князя Владимира Александровича; с нею мы перечитывали переписку ее мужа с Милютиным по польским делам и вспоминали прежние годы.
В Крыму я видаюсь и с старым своим приятелем, Дмитрием Алексеевичем Милютиным, который после жизни, посвященной славе отечества, кончает дни свои в деревенском уединении Симеиза. В прошлом 1893 году мы праздновали золотую свадьбу этого достойного и почтенного человека, оказавшего России незабвенные услуги. Его ялтинские друзья поднесли ему медный щит, символ защиты отечества, и в нем пятьдесят роз, в знак юбилейного торжества. При этом я написал ему письмо, вылившееся из души, которое, по-видимому, его тронуло. Он напоминает мне не только хорошие дни моей молодости, но и лучшее время для русской земли, эпоху пробуждения и преобразований, которых он был одним из крупных участников. И после всех почестей он остался все тем же, каким я знал его сорок лет тому назад, скромный, мягкий, сердечный, с живыми интересами, с искренней любовью к просвещению, чуждый всего мелочного, что так часто прилепляется к человеку, призванному действовать в высших правительственных сферах.
Среди этого маленького общества господствовала полная простота отношений. Все жили в мире и дружбе. Жена говорила, что в Ялте все друг друга любят. Приятно приезжать туда на пароходе, и на дебаркадере найти дружеские лица, которые собрались встретить вас, как членов семьи, возвращающихся из дальних стран. И у нас там основался постоянный приют: старший брат моей жены, Дмитрий Алексеевич, построил великолепную дачу для себя и для нас. Совместное наше жительство продолжалось недолго. Ему, отставному дипломату, неожиданно было предложено место директора Азиатского департамента, которое он и принял; мы же помещаемся в просторном и уютном доме, где живется удобно и спокойно. Когда меня спрашивают, что меня притягивает в Ялту, я говорю, что это лучшая в России богадельня для стариков.
И несмотря на все эти услаждения старости, которой русская зима становится уже не в мочь, несмотря на всю прелесть южной природы, на величавые впечатления моря, я все-таки с сердечным умилением возвращаюсь к своей родной русской равнине, к низким холмам, к далеким горизонтам, к прозрачным водам едва струящихся рек, к полям, покрытым обильною жатвой. Те впечатления, которые лелеяли рассвет жизни, остаются до конца дней самым дорогим достоянием души. Когда мы, в нынешнем 1894 году, решились не ехать на зиму в Крым, а вернуться в деревню и встретить там весну, может быть в последний раз, я испытал такое глубокое наслаждение, какого не дают самые великолепные картины юга. Все, что пленяло меня с детства, все окрыляющее душу обаяние весны, ее постепенные переходы и пышный расцвет, все опять было передо мной: сначала мягкий мартовский воздух, с тающим снегом, с катанием на санках по реке, первые проталины с пробивающейся на них травкой, затем появление желтых и синих цветков, которыми устилается отходящая земля, первый полет бабочек, шум ручьев, сбегающих по холмам, веселое пенье жаворонка в небесной лазури, широкое половодье, леса, одевающиеся зеленою дымкой, гул лягушек, звонкое, неумолкающее пение птиц под развернувшейся листвой, наконец роскошное цветение вишен, яблонь и упояющей воздух сирени, а в лесной тени белых ландышей и душистых фиалок. Все это переносило меня в мои ранние годы, все будило сердечные воспоминания; настоящее и давно минувшее сливалось в одно поэтическое впечатление. Покорная вечным законам природа и молодым и старым дарует те же утешения; за глубоким сном зимы следует пробуждение к новой жизни, которое могучим дыханием уносит человека в горный мир и вселяет в него смутное чаяние чего-то светлого и радостного, ожидающего его возрождения. Не в городском шуме, а в деревенской тиши, и главным образом среди северных снегов, сменяющихся быстрым обновлением природы, это отрадное чувство ниспадает в душу и дает ей крепость для довершения своего жизненного пути.
Особенно сильно действуют эти впечатления в весенний праздник светлого христова воскресенья. В этом году он приходился на половину апреля. Ночь была тихая и теплая. Мы с женой пошли в церковь, вокруг которой народ стоял уже в безмолвном ожидании торжественного благовеста. При первом ударе колокола все благоговейно перекрестились; подняли хоругви и иконы; зажглись свечи и вокруг храма двинулось символическое шествие. Когда оно остановилось перед закрытыми дверями и хор запел: «Христос воскресе из мертвых», душу охватил глубокий и таинственный трепет, возносивший ее в невидимый мир. Среди сельской тишины ночное богослужение приобретало какое-то особенное, простое величие. Красивая караульская церковь, с высоким куполом, сияла огнями; наполнявший ее деревенский люд смиренно сливался в общей молитве; незатейливые хоры поочередно пели радостные пасхальные напевы.
Когда по окончании заутрени священник вышел с крестом и снова торжественно возгласил: «Христос воскресе!»; когда за ним весь народ с верою повторил: «Воистину воскресе!» и это слово запечатлелось братским лобзанием, чувствовалось, что это слово есть истина, возвещающая спасение человечеству. Мы вышли из церкви, и нас охватило обаяние прелестного весеннего утра; птицы радостно щебетали; первые лучи восходящего солнца играли на едва распускающихся листах. Мы пошли в контору, где приготовлено было розговенье для служащих и рабочих. Все были тут собраны, и мы со всеми братски похристосовались и отведали пасхи. Оттуда мы пошли в школу, где было такое же розговенье для учеников; и там, после молитвы, мы облобызались со всеми. После этого мы долго еще сидели в саду на скамейке, любуясь чудным видом, рекою, освобожденною от зимних оков и текущею широким потоком, вдыхая все упоение ранней весны. Потом пришла вся деревня похристосоваться со старым помещиком. Все приносили красные яйца; лобзаниям не было конца. Целую неделю звонили в колокола, празднуя великий день возрождения. А в небе пели жаворонки; солнце сияло полным блеском; в воздухе носилось весеннее благоухание. Это было одно из самых поэтических впечатлений моей старости.
Много светлых воспоминаний сохранила для меня и Москва, где я прожил столько лет. Обыкновенно мы между Ялтой и деревней проводили там месяц, другой. И там у меня осталось уже немного, но близких сердцу людей. Остался Щербатов, неизменный товарищ со студенческой скамьи; ныне он овдовел, но среди постигшего его горя сохранил всю живость впечатлений и интересов, всю свежесть чувств, весь сердечный пыл, отличавшие его в молодости. Остались Станкевичи, которых дружба составляет одно из драгоценнейших благ, дарованных мне провидением. Давно уже дом их перестал быть центром литературного кружка. Один за другим ушли старые друзья и собеседники. Громкий голос Кетчера не раздается уже в изящной гостиной. Только совсем побелевший Забелин, как обломок старины, приходит иногда разделить гостеприимную трапезу. Но для меня уютное, окруженное красивым садиком жилище в Чернышевском переулке составляет святыню, где и все там похороненное и то, что поныне осталось, одинаково согревает сердце и возвышает душу. Задушевный привет хозяев, их горячее участие ко всему, что касается их друзей, свидетельствуют, что там горит еще сердечный огонь, около которого и старику становится тепло и отрадно. Туда всегда тянет меня внутреннее влечение; там я нахожу удовлетворение и умственным своим потребностям. Станкевич один из немногих оставшихся в живых людей старого поколения, с которым можно говорить и о философских, и об общественных, и о литературных вопросах, встречая глубокое понимание и живое сочувствие. Это поколение почти все вымерло, и мы с ним остались одинокие, и часто, когда приходится свидеться, ведем грустную беседу о настоящем и прошлом. Одинаково мы смотрим на вещи, все еще негодуем на то, что совершается у нас перед глазами, и с тем большею любовью возвращаемся к светлым образам давно минувшего времени, к высокой личности Грановского, который обоим нам близок и дорог, вспоминаем огненную и благородную натуру Герцена, всю блестящую плеяду славянофилов и западников. Станкевич многих из них ближе меня видел и знал, живя с ранней молодости в кружке своего брата. Мы вспоминаем горячие, неумолкающие споры, живую журнальную полемику, затем пробудившиеся с новым царствованием надежды, великие преобразования, которых мы были свидетелями, и последовавшее затем умственное и нравственное отупение общества. Состарившись, мы о многом горюем; но связывающая нас дружба остается нам великим утешением в конце предназначенного нам земного пути. Я благодарю провидение за то, что оно даровало мне такое сокровище. На склоне лет, еще более нежели в молодости, я глубоко чувствую, каким существенным и высоким элементом является дружба. Она составляет необходимое дополнение, а для иных и замену семьи. Счастлив тот, кто на своем веку обрел искренних, верных, горячих друзей.
Но не одни воспоминания прошлого и остатки дорогих старых связей наполняли мои последние годы. Я и в старости продолжал заниматься наукою, которая всегда была моим главным призванием в жизни. Правда, от многолетней своей деятельности я не видал осязательных плодов. Писать ученые сочинения составляет в России самое неблагодарное ремесло, особенно когда не отдаешься современному течению, а стараешься сохранить требуемое наукою беспристрастие. Книга выходила за книгою, не встречая ни отзыва, ни признательности. Я не замечал, чтобы высказанные мною, частью совершенно новые мысли были кем-нибудь усвоены или развиты. Я говорил себе, что если так мало действия, несмотря на многолетний, добросовестный труд, значит талант не велик, а потому нечего обольщать себя надеждой на будущие плоды. Тем не менее я продолжал работать усердно. Меня лично сильно занимали умственные, в особенности философские вопросы, и я старался их себе выяснить. Были целые области знания, мне почти неизвестные. Из естественных наук, которые в современном мире имеют преобладающее значение, я изучал отчасти зоологию, и тут я пришел к некоторым общим выводам. Но физика, химия, высшая математика оставались для меня закрытою книгой. Теперь я за них принялся.
Поводом послужила небольшая книжка Вюрца об атомистическом учении, которое занимало меня с философской точки зрения. Из нее я узнал теорию Менделеева о химических периодах и рядах. Размышляя об этом предмете и сопоставляя числовые отношения, я пришел к убеждению, что тут должен быть общий математический закон, который только нужно раскрыть и формулировать. Видя, что в каждом ряде объем каждой единицы материи, входящей в состав атома, уменьшается по мере увеличения массы, я спросил себя: не будет ли это уменьшение пропорционально количеству соединяющихся атомов? Преследуя эту мысль в приложении к первому ряду, заключающему в себе щелочные металлы, я действительно нашел искомую пропорциональность. Это открытие чрезвычайно меня обрадовало. Оно послужило исходною точкой для дальнейших изысканий. Более года я все занимался разными математическими выкладками, с помощью которых у меня выработалась цельная, последовательная система химических отношений. Однако, я видел, что этого далеко не достаточно. Я стал в тупик перед уравнением третьей степени, которое элементарною алгеброй не решается. Я решился изучить высшую математику. Один, без руководителя, живя в деревне или в Ялте, где не у кого было даже спросить объяснения встречающихся трудностей, я сперва возобновил в своей памяти тригонометрию, которую порядочно знал при вступлении в университет, затем прошел аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления, высшую алгебру, наконец механику и физику. Для разработки системы химических элементов пришлось, разумеется, подробнее познакомиться с химией.
Усвоить себе целую обширную область новых наук, приближаясь к седьмому десятку, дело нелегкое. Но для меня оно было в высшей степени увлекательно. Передо мной открывался целый новый мир; каждый шаг был приобретением нового знания. Математика в особенности приводила меня в восторг. Для ума, стремящегося к точной истине, иметь опору в науке, в которой все совершенно рационально и безусловно достоверно, было необыкновенно важно. Перед этим все колебания, все недомыслие, все неверные выводы, все фантастические построения, которыми изобилуют другие отрасли знания, казались мне жалкими и ничтожными. Это изучение утвердило, вместе с тем, непоколебимую мою веру в силу человеческого разума, ибо не может быть, чтобы в одной только области ему доступна вполне достоверная истина, а в остальных она для него покрыта непроницаемою тайной.
Результатом моей пятилетней работы была выработанная мною система химических элементов, которую я изложил письменно. Но так как это было дело для меня совершенно новое, то я предварительно хотел иметь совет человека, сведущего в математических науках. С этою целью, будучи в Москве, я обратился к профессору Слудскому, с которым давно был в хороших отношениях. Он познакомился с первыми главами моего сочинения, оценил мой труд, сделал некоторые замечания, но, не будучи химиком, советовал обратиться к Менделееву. С последним я был слегка знаком еще с Гейдельберга, а затем опять встретился в Москве на Техническом съезде, когда я был головою. Я послал ему первую главу моего исследования, с письмом, в котором говорил, что он вероятно очень удивится, увидев, что юрист берется за химические исследования, но что на старости лет, имея досуг, я занялся этими вопросами и пришел к некоторым выводам, которые и подвергаю его суду. Несколько дней спустя, я пошел к обедне в домовую церковь дома князя Голицына, где мы квартировали. При выходе смотрю: стоит Менделеев. «Я к вам приехал прямо с железной дороги, – сказал он. – Я получил ваше письмо перед самым отъездом из Петербурга на юг и в тот же вечер сделал о нем сообщение в заседании Русского физико-химического общества. Все этим заинтересовались, и теперь ваше открытие занесено в протокол. Но я успел пробежать только первые страницы, и вот я приехал к вам, даже не переодевшись, чтобы просить у вас дальнейших разъяснений. Возьмите карандаш и покажите мне все, что вы вывели». Я объяснил ему весь ход своей мысли. Он слушал с величайшим интересом, расспрашивал толково и подробно обо всем и настаивал на том, чтобы я непременно напечатал свою статью в журнале Русского физико-химического общества. Сам он тут же написал редактору записку, в которой вместе с тем предлагал меня в члены общества. Позавтракав у нас, он отправился к Столетову, которому с восторгом говорил о моем исследовании.









































