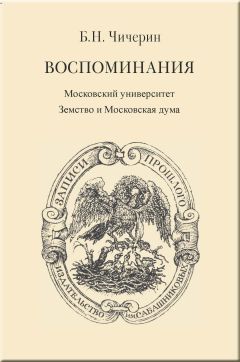
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
Мы воспользовались пребыванием в Крыму, чтобы туристами объехать южный берег. Обозревши Георгиевский монастырь, с дивными скалами, отвесно вздымающимися над морем, мы ночевали в Байдарах и к восхождению солнца поднялись к Байдарским воротам, откуда внезапно открывается волшебный вид на морскую даль и на лежащую у подножья долину. После Италии я не видал ничего более восхитительного. Здесь нет той яркой и глубокой лазури, которая так привлекает в Средиземном море, зато, рядом с живописными скалами и с безбрежною водною равниною, тянется роскошная растительность, неизвестная в Италии. На протяжении сорока верст мы ехали непрерывным садом, с постоянно меняющимися видами. Осмотрев великолепную Алупку с ее чудным парком и английско-мавританским дворцом, мы к вечеру прибыли в Ялту, где впоследствии мне привелось проводить много зим. Через прелестный Гурзуф, в то время еще приютное жилище богатого барина[123]123
Воспетый Пушкиным Гурзуф в то время принадлежал Ив. Ив. Фундуклею, впоследствии он был приобретен И. И. Губониным, который превратил его в роскошный, но безвкусный и пошлый курорт.
[Закрыть], мы вернулись в Симферополь. Перед тем мы осматривали и Бахчисарай, живописный восточный город, раскинутый в ущелье, с старинным дворцом ханов, полным воспоминаниями о Пушкине. Съездили и в Чуфут-Кале, где среди развалин опустевшего города нас встретил единственный оставшийся там жилец, старый караим, который доканчивал свой век хранителем священных преданий своего племени.
На север Щербатов не поехал. Он предоставил мне осмотр Ярославской дороги. И тут довелось видеть местности, дотоле мне совершенно незнакомые: древний Ростов с его старинными церквами, красивый Ярославль, живописно расположенный на берегу Волги. В Ростове, на воротах одного из соборов, меня поразила надпись: старинные массивные ворота были разбиты на квадраты толстыми брусьями, и в каждом квадрате была картинка с подписью. В одном из квадратов был изображен повешенный лев, и подпись гласила: «Да знает правительствовать». Можно было подумать, что это какой-нибудь революционный символ. Не знаю, сохранилось ли доселе это изображение.[124]124
Б. Н. Чичерин говорит о железных воротах под церковью Воскресенья, ведущих в ростовский Кремль. На них сохранилась роспись середины XVIII в. на аллегорические сюжеты.
[Закрыть] Путь из Ярославля в далекую Вологду произвел на меня грустное впечатление. Он лежит по лесистым местам, а между тем, на всем протяжении не видать ни одного порядочного дерева: все вырублено, осталось одно мелколесье. Недоумеваешь, куда все это пошло? Естественные богатства исчезли, но не видать, чтобы они заменились богатствами человека. Мне казалось, что во многих отношениях это прилагается ко всей нашей унылой и бедной русской земле. Я вспоминал Англию, где вся страна носит на себе печать обилия и просвещения, а между тем деревья, бережно хранимые человеком, стоят в вековой красе. Но самая железная дорога от Москвы до Вологды произвела на меня очень выгодное впечатление: построена дешево, без малейшей роскоши, управляется отлично, эксплуатация бережливая и разумная; это был тип дороги, какие нужно было строить в России.
Плодом всех наших объездов была целая масса докладов. Я взял на себя два: о жалобах и заявлениях и о выборных учреждениях при железных дорогах. На последние граф Баранов особенно напирал и выделял этот вопрос из всех других, с целью представить его на законодательное решение ранее прочих, как первый результат работы комиссии. Мы проектировали целый ряд учреждений местных и центральных, с элементами, частью правительственными, частью выборными от отправителей, в видах контроля и урегулирования товарного движения. Этим работам посвящена была вся зима с 79-го на 80-й год. Весною мы повезли свои доклады в Петербург. Другие подкомиссии сделали тоже. Но увы! все эти объезды и работы были истрачены даром. Конкуренция авгуров, на которую я надеялся, не привела ни к чему. Комиссия графа Баранова, со всеми исписанными ею кипами бумаг, канула в воду, не оставив по себе и следа. С таким треском возвещенное исследование обратилось в мыльный пузырь, и министерство путей сообщения, с своею бюрократическою рутиною, осталось торжествующим на развалинах. Тщета правительственных комиссий и бесплодность посвященной им работы выяснились для меня вполне.
Щербатов вышел ранее меня. Поводом послужила постройка Екатерининской дороги. Я сказал, что, собравши сведения на месте, мы все пришли к убеждению, что эта дорога не может приносить выгоды и что строить ее не следует. Но екатеринославские дельцы подъехали к княгине Юрьевской,[125]125
Кн. Ек. Мих. Долгорукова, получившая в 1880 г. после брака с Александром II титул светлейшей княгини Юрьевской, еще до смерти имп. Марии Александровны в течение ряда лет была приближена к царю и с необыкновенным цинизмом пользовалась своим положением для обогащения, торгуя концессиями и т. п.
[Закрыть] которая в этом деле пользовалась большим влиянием, а Лорис-Меликов, который тогда был в силе, хотел угодить фаворитке. Решено было построить дорогу, под предлогом, что на юге в то время был неурожай, и жителям местности надобно было дать заработки; между тем, зимою, когда именно нужна была помощь, земляные работы не производятся, а на лето для них выписываются землекопы из северных губерний, так как местные крестьяне заняты полевыми работами, а земляными вовсе не занимаются. Постройка была поручена сопровождавшему нас инженеру Титову, который с своей стороны подавал записку о бесполезности этого пути. При обсуждении вопроса о нашем докладе не было и помину; граф Баранов, в виду высших влияний, не заикнулся о нем ни словом. Тогда Щербатов к нему отправился и объяснил, что хотя он не думает требовать, чтобы выраженному им мнению непременно следовали, но когда людей независимых призывают к работе, они вправе ожидать, что она будет принята в соображение, а не положена просто под сукно. Он заявил, что выходит из Комиссии. Впоследствии я слышал, что дорога все-таки окупается не сближением каменного угля с железом, а тем, что она доставляет самый прямой сбыт донецкого угля в юго-западный край, и тем дает ему возможность конкурировать с польским.
Я не хотел усугублять демонстрацию и еще раз поехал в Петербург на съезд. Мне все-таки любопытно было следить за ходом дела. Я увидал, что оно вовсе не двигается. На следующий год и я вышел из Комиссии, когда был выбран московским городским головой. Несколько лет спустя, Щербатов где-то на железной дороге встретил представителя крупной иностранной компании в Донецком бассейне, инженера Авдакова. Тот подошел к нему, возобновил знакомство и сказал: «А знаете ли, что мы о вас вспоминаем с благодарностью». Но в эту самую минуту прозвонил звонок, они разошлись, и так мы никогда не узнали, какую мы по себе оставили благодарность и чем мы могли кому-либо принести хотя малую пользу.
Неспособность правительства, проявившаяся в этом частном деле, обнаруживалась еще ярче в общем управлении. В то время, как мы были заняты своею работою, в России росло движение, которое должно было иметь роковое влияние на ее судьбу. Нигилизм от пропаганды перешел в действие.
Ревнители произвола приписывают его развитие преобразованиям Александра II и связанному с ними ослаблению правительственной власти. Предыдущее изложение показывает, что еще до преобразований в 1861 году нигилизм был в полном разгаре. Гнет николаевского царствования накопил горючие материалы; брожение, вызванное Крымскою войною, дало им новую силу. Внезапное облегчение тяжести, последовавшее в новое царствование, обнаружило только то, что таилось внутри. Долго сдавленное общество, выпущенное на свежий воздух, шаталось, как человек, вышедший из многолетней тюрьмы и впервые увидевший свет божий. Бродячие элементы всплывали наверх и увлекали умы, в особенности молодежи. В то время уже издавались прокламации, взывавшие к истреблению всех высших слоев общества. Чернышевский держал в своих руках все нити этого движения, организуя и поджигая своих единомышленников. Последовавшие затем великие реформы могли удовлетворить и привязать к правительству разумных людей; но социал-демократам, мечтавшим о разрушении всего общественного строя, они казались ничтожеством. Ссылка Чернышевского и Михайлова произвела только временную остановку; затеянное ими дело продолжалось. В Швейцарии образовался притон русских революционеров, которые, при удобстве сообщений, могли посылать своих эмиссаров, куда хотели. В самой России сложилась подпольная организация, которая везде имела свои разветвления. Выстрел Каракозова обличил их замыслы.
Наступила реакция, но реакция не руководимая государственным смыслом, не опирающаяся на разумные элементы общества, а чисто полицейская, и притом бестолковая. Начались произвольные аресты массами, одиночное тюремное заключение без суда, административные ссылки, которые еще более озлобляли свои жертвы и разносили пропаганду по самым отдаленным краям России. Нигилисты представлялись мучениками своих убеждений. Судебное следствие, распространенное на все государство, вверено было лицу, пользовавшемуся самою незавидною репутацией, человеку, не стеснявшемуся ничем и без всяких правил, прокурору Жихареву, который впоследствии, когда был сделан сенатором, не смел даже заседать среди своих товарищей. Оно было ведено возмутительным образом, с нарушением самых элементарных понятий о законности и человеколюбии. Ни в чем неповинные свидетели, оторванные от семейств, по целым годам сидели в тюрьмах, многие из обвиняемых в отчаянии налагали на себя руки. Самый суд оказался несостоятельным. Из недоверия к независимой магистратуре суждение политических преступлений было отнято у судебных палат и перенесено в Сенат. Но Сенат, в который помещалось все отжившее свой век и негодное к действительной службе, обнаружил всю свою неспособность. Громадный процесс, которым завершилось следствие, так называемый процесс 193-х, был настоящим скандалом.
В 1875 году главный руководитель всей этой полицейской реакции, граф Петр Андреевич Шувалов, внезапно пал вследствие одного из тех поворотов, которые довольно обычны в самодержавном правлении. Княжна Долгорукая, впоследствии княгиня Юрьевская, бывшая уже тогда в фаворе, сообщила государю все толки, ходившие тогда в обществе, о всемогуществе Шувалова, о том, что его зовут Петром IV. Государь, как истинный самодержец, был очень щекотлив на счет своей власти и своего авторитета. Он не терпел, чтобы кто-нибудь его затмевал. Однажды вечером, мирно играя в карты, он вдруг сказал Шувалову: «А ты давно желал быть послом в Лондоне; я тебя назначил». Для Шувалова это был громовой удар. Он действительно когда-то говорил о приятности положения посла в Лондоне, но никогда не думал об этом серьезно. Он принужден был удалиться, но клевреты его остались: Тимашев, граф Пален, Толстой. Остался и петербургский градоначальник, генерал Трепов, человек умный, деятельный и энергический, но в своем произволе не стеснявшийся ничем. Однажды узнали, что он в тюрьме высек политического преступника за то, что тот не снял перед ним шапки. Даже друзья Трепова рассказывали об этом с негодованием. В отмщение за это гнусное дело последовал выстрел Веры Засулич.
Мне случилось быть в Петербурге во время этого процесса и я присутствовал на суде. Трудно было сочинить больше несообразностей, нежели те, которые наделало тут министерство юстиции. Главным руководителем следствия был прокурор судебной палаты Лопухин, который приобрел себе репутацию в должности председателя Окружного суда отличным ведением дела Овсянникова[126]126
2 февраля 1875 г. сгорела работавшая на военное ведомство паровая мельница Ст. Тар. Овсянникова на Измайловском проспекте. Владелец был привлечен к суду по обвинению в поджоге и присяжными заседателями признан виновным и приговорен к ссылке в Сибирь.
[Закрыть], но как прокурор был совершенно негоден. Они придумали с графом Паленом, что так как Сенат оказался несостоятельным в ведении судебного дела, то лучше вовсе не придавать процессу политического характера, а судить его как обыкновенное покушение на убийство судом присяжных. Ничего более нелепого нельзя было изобрести. Присяжные, по самому своему характеру, гораздо более податливы к увлечениям, нежели коронные судьи. Петербургские присяжные в особенности не раз уже выказывали свою наклонность к оправданию даже явных преступников. А тут был акт возмутительного полицейского произвола, отомстить за который, при молчании власти и закона, самоотверженно взялась молодая девушка. Какая тема для воззвании к чувствам! Мало того: прокурора намеренно назначили из слабых, и когда это было замечено Лопухину, он отвечал, что они сделали это именно для того, чтобы не придавать процессу слишком большого значения. Глупость была сугубая. Впоследствии представители министерства юстиции хотели свалить вину с больной головы на здоровую. Обвиняли председателя окружного суда, Кони, в том, что он допустил на суде показание свидетелей о том, что происходило в тюрьме. Выходило, что судилась не Вера Засулич, а Трепов, который притом отсутствовал и не мог защищаться. Но устранить выяснение мотивов преступления не было возможности без вопиющего нарушения правосудия. Уважающий себя председатель не мог на это идти. Самый закон дозволял подсудимым на свой счет вызывать каких угодно свидетелей; нельзя было лишить их этого права, составляющего одну из важнейших гарантий правильного суда. Если Трепов отсутствовал, то это было добровольно. Он не был вызван свидетелем, благодаря своему высокому положению, и благо ему было, ибо его исполнители, которые явились на суд, разыграли плачевную роль. И когда, выясняя побуждения, которые заставили обвиняемую совершить свое дело, защитник в своей речи выставил всю возмутительность совершенного истязания, когда он показал, как после всех произведенных реформ, после отмены телесного наказания, человек вышел из-под розги, поруганный и опозоренный, когда после этого прокурор отказался отвечать, Вера Засулич была оправдана в глазах многих. К сожалению, я не дождался приговора. Мы с Дмитриевым, который был тут же, должны были обедать в гостях; совещание присяжных затянулось, и мы уже после узнали, что происходило в суде. Прокуратура покрыла себя вящим позором, когда после оправдательного вердикта, в силу которого подсудимая тотчас была выпущена на свободу, она вздумала арестовать ее снова, руководясь тайным предписанием, но распорядилась так плохо, что выпустила ее из рук. Она тут же скрылась, делая тщетными все поиски полиции, и была выпровожена за границу, где благополучно проживает доселе.
Я был поражен не столько самым ходом процесса и его содержанием, сколько вопиющим противоречием между торжественною обстановкою гласного и публичного суда, установленного новейшими преобразованиями, и теми действиями, которые на нем раскрывались. С этой точки зрения я написал небольшую статью, которую прочел Абазе. Он пришел от нее в восторг и рассказывал даже своим приятелям, что это было для него радостное событие. Я в рукописи распространил ее между знакомыми. Здесь ограничусь выдержками.
«Настоящий процесс, – писал я, – раскрыл существенное зло, заключающееся в нашем общественном строе, именно то коренное, несовместимое противоречие, которое лежит между преобразованиями нынешнего царствования и системою произвола, внесенною в полицейскую деятельность после прискорбного события 4 апреля 1866 года».
Отметив главные черты этого противоречия, указав в особенности на яркое проявление его в суде, я старался возвести вопрос к высшим началам государственного управления.
«Полицейская система, водворившаяся в 1866 году, – продолжал я, – была вызвана революционным своеволием, распространившимся в русском обществе. Желание противодействовать этим стремлениям было вполне законно; но способ исполнения, вместо того, чтобы уменьшить зло, еще более его усилил. Если своеволие вызывает произвол, то произвол, в свою очередь, вызывает своеволие. Это две крайности, которые всегда следуют друг за другом. Победить их может только законное начало высшего порядка. Эта мысль и была положена в основание преобразований нынешнего царствования. Но русское общество не успело еще свыкнуться с новым жизненным строем, как оно было совершенно сбито с толку возрождением полицейской деятельности в прежней его форме. Преобразования остались, но рядом с ними установилась система, не имеющая с ними ничего общего, система полицейских преследований, произвольных арестов, административных ссылок. Мудрено ли, что общество пришло в недоумение, что все мысли перепутались, что в самой политике правительства обнаружилась неисцелимая двойственность? Результаты этого противоречия у нас на глазах: они проявились в усилении пропаганды, в скандальных политических процессах, наконец, в деле Засулич. Общество, к которому в лице присяжных взывало правительство, не дало ему поддержки, ибо оно в своей совести осуждало систему, вызвавшую преступление, и боялось закрепить его своим приговором».
Я говорил далее о необходимости выйти из этого положения, для чего единственным верным путем представляется честное и откровенное вступление на почву законного порядка. «Но, решаясь на такой шаг, – замечал я – необходимо дать себе ясный отчет, что значит вступить на почву законного порядка. Если бы все дело ограничивалось исполнением предписанных законом форм, то для этого не требовалось бы ни особой мудрости, ни особенного умения. Но правительство, стоящее во главе общества и призванное им руководить, не может ограничиться мертвым формализмом. Оно должно поддержать силу власти, иметь нравственный авторитет. Оно должно идти твердым шагом среди бесчисленных задержек, созданных им самим установленным порядком вещей. Нет ничего легче, как действовать путем произвола. Тут все просто и препятствий нет никаких. Но когда приходится иметь дело с самостоятельными силами, считаться с разнообразными интересами, улаживать постоянно возникающие столкновения, и при этом сохранить всю свою твердость и все свое обаяние, то задача становится гораздо сложнее. Первобытная простота произвола может довольствоваться и первобытными средствами; совершеннейший способ действий требует и усовершенствованных орудий».
Я настаивал на том, что в виду глубоко укоренившегося зла нужны не новые меры, а именно новые орудия. Мера – ничто иное, как клочок бумаги, который и остается бумагой. Дело не в мерах, а в людях, не в предписании, а в исполнении…
Благие намерения государя не подлежат ни малейшему сомнению; они яркими чертами написаны на каждой странице настоящего царствования. Но исполнение так далеко отстоит от намерений, что сердце каждого русского человека не может не быть поражено глубокою скорбью при том зрелище, которое ныне представляет наше отечество. Все расшаталось; нигде нет ни ясной мысли, ни твердой точки опоры. Умы опошлились, характеры исчезли, уровень образования понизился… Не новых преобразований мы просим, – восклицал я в заключении, – а людей, людей, ради бога, людей!»[127]127
Записка Б. Н. Чичерина о деле Веры Засулич напечатана целиком в издании «Academia»: А. Ф. Кони. Воспоминания о деле В. Засулич. М. – Л., 1933.
[Закрыть]
Разумеется, подобные воззвания были гласом вопиющего в пустыне. Правительство продолжало ведение неуклюжей полицейской реакции до тех пор, пока сами события не убедили в необходимости вступить на новый путь. Нигилисты, подстрекаемые успехом, принялись за свое разрушительное дело с большею энергией и еще большею беззастенчивостью, нежели когда-либо. Выстрел Веры Засулич послужил сигналом к целому ряду политических преступлений. Сначала пошли убийства в провинции, затем сам шеф жандармов Мезенцев был убит среди белого дня на улицах Петербурга, и убийца успел ускользнуть от всех преследований и поисков неумелой полиции. Наконец, последовал ряд покушений на жизнь государя: взрыв железнодорожного пути, учиненный Гартманом, взрыв Зимнего дворца, обнаруживший невероятное неряшество дворцового управления. Благодушного монарха, совершившего величайшие дела, заслужившего беспредельную благодарность всех русских людей, любящих свое отечество, травили как дикого зверя. В таком положении нельзя было оставаться. Очевидно требовалась некоторого рода диктатура, но не чисто полицейская, а опирающаяся на общественное мнение. С этою целью призван был Лорис-Меликов.
Мысль была совершенно верная, но, к сожалению, исполнителю недоставало государственного смысла. Лорис-Меликов был хороший генерал, умный, распорядительный, хотя не без значительной доли азиатской хитрости. После войны, где он выказал свои способности, он послан был исследовать ветлянскую чуму [128]128
В 1878 г. в Астраханскую губ. была занесена, по-видимому с азиатского театра военных действий, чума. Главным очагом эпидемии было селение Ветлянка.
[Закрыть] и обнаружил там большую деятельность. Назначенный затем харьковским генерал-губернатором, он своими энергическими мерами и своею обстоятельностью умел снискать общее расположение. Но России он вовсе не знал, о гражданских порядках имел самые смутные понятия, готов был на всякие кривые пути и при этом заражен был непомерным тщеславием, которое побуждало его во что бы то ни стало искать популярности. Один мой деревенский сосед рассказывал мне, что его повели знакомить с Лорис-Меликовым, когда тот жил уже в Ницце на покое. С первых слов бывший государственный муж спросил его: кто популярнее в провинции, он или Скобелев? Сосед мой, не желая кривить душой, сказал, что лубочные изображения Скобелева на белом коне значительно содействовали распространению его славы в народе. Тогда Лорис-Меликов с яростью начал доказывать ему, что репутация Скобелева совершенно незаслуженная. Сам он про себя воображал, что его имя известно во всякой хижине и наивно это высказывал. При таком необузданном стремлении к популярности, главная задача заключалась в том, чтобы бить на эффектные меры. К совету призывались легенькие петербургские публицисты и журналисты; хватались за все и ничего не умели сделать путным образом.
Не много мог помочь ему в этом деле его главный сподвижник, Абаза, который был назначен министром финансов. Абазу я знал давно и был с ним в хороших отношениях. Он был гофмейстером великой княгини Елены Павловны; сестра его[129]129
Мария Аггеевна, рожд. Абаза.
[Закрыть] была замужем за Николаем Алексеевичем Милютиным. Вращаясь постоянно в этом кругу, он набрался кое-каких либеральных идей; но они не могли заменить полного отсутствия образования и серьезной подготовки. Смолоду светский лев и страстный игрок, он женитьбою на дочери откупщика Бенардаки приобрел большое состояние, которое он умножил денежными оборотами и умением пользоваться своим положением и влиянием для коммерческих дел. Он был сведущ в финансовых вопросах, отлично говорил в Государственном совете и умел осторожной уклончивостью пробивать себе дорогу к высшим почестям. Но, проводя всю жизнь в высших петербургских сферах, он мало прикасался к настоящей жизненной почве и легко смотрел на людей и на вещи, имея в виду более личное свое положение, нежели пользу общественную. Самолюбивый, важный и тщеславный, он был вместе с тем ленив и нечестен. Его участие в сдаче Московско-Курской дороги, те вопиющие льготы, которые он успевал выхлопатывать для сахарозаводчиков, показывали, что он личной выгоде мог жертвовать и государственными и народными интересами. Но среди политических деятелей того времени он все-таки выгодно отличался и умом и более просвещенным взглядом на вещи, приобретенным в соприкосновении с выдающимися людьми. Он мог иногда, в минуту досады или даже в благородном порыве, пожертвовать иногда и личным положением для убеждений известного рода, никогда, однако, не отрезая себе пути к новому осторожному восхождению на высшую ступень. При других условиях, в союзе с людьми, одаренными государственным смыслом, Абаза мог быть полезным деятелем в финансовой сфере: как правая рука Лорис-Меликова, он не в состоянии был сделать ничего дельного.
Первая мера, которою ознаменовалось его вступление в министерство, была отмена соляного налога. В это время мне случилось быть в Петербурге. За несколько дней до появления указа я обедал у Абазы. Идя с ним под-руку в столовую, я спросил: «Правда ли, Александр Аггеевич, что вы отменяете соляной налог?» Он несколько замешался. «Может быть», отвечал он. «Меня это очень порадует, – сказал я, – это будет значить, что у вас много денег». Несколько дней спустя появился указ, а через месяц обнародован был бюджет с пятьюдесятью миллионами дефицита. Такое легкомыслие превосходило все мои ожидания. В то же время я виделся с Тернером, который говорил мне, что он предлагал сбавку и упорядочение налога, при котором казна все-таки сохраняла 17 миллионов дохода; но об этом не хотели и слышать. Нужно было эффектною мерою приобрести популярность. Результат был тот, что казна потеряла значительный доход, народ не почувствовал никакого облегчения, а обогатились крупные солепромышленники, которые, вследствие безобразия принятых финансовым управлением мер, получили громадные барыши.
Если я не мог сочувствовать отмене солевого налога, то был другой акт нового министерства, которому я искренне порадовался. Это было падение Толстого. Как после выстрела Каракозова, первым делом Муравьева было низвержение Головнина, который по петербургским понятиям считался представителем либералов, так теперь первым делом Лорис-Меликова было предание Толстого на жертву общественному негодованию. Трудно представить себе, сколько ненависти накопил против себя этот человек. Причина заключалась в бездушном управлении министерством народного просвещения, которое, в связи с реформою гимназий, тяжелым гнетом легло на все молодое поколение. Толстой, также как Лорис-Меликов, хотел ознаменовать свое министерство эффектным делом только не в видах популярности, а совершенно наоборот. Его союзники, редакторы «Московских ведомостей» настаивали на коренной классической реформе. В этом у них были свои личные цели. Они устроили классический лицей, для которого они выхлопотали неслыханные льготы и пособия, и который должен был служить центром и рассадником всего русского просвещения. К удивлению, они успели убедить невинных петербургских государственных людей, не видавших в глаза ни одного классика, что классицизм составляет неисчерпаемый источник консервативного духа, и что в нем заключается все спасение России. О том, что греки и римляне были республиканцы, что почерпнутыми из классиков вольнолюбивыми идеями вдохновлялись деятели французской революции, наши сановники, по-видимому, не имели понятия. Катков твердил, что помощью зубрения латинской и греческой грамматики он истребит в русском юношестве всякие вольные мысли, и Каткову верили на слово. Была, правда, оппозиция в самом Государственном совете, но она обреталась в меньшинстве. В то время, как там происходили горячие споры об этом вопросе, я, будучи в Петербурге, как-то зашел с визитом к князю Горчакову. «Вы классик»? – спросил он меня с первых слов. «Да, я приверженец классического образования», – отвечал я. «Ну, так мы с вами не сойдемся». «А, может быть, и сойдемся. Именно потому, что я приверженец классического образования, я не могу не быть врагом такой реформы, которая не может иметь иного последствия, как возбудить в русском обществе ненависть к классицизму».
Так и вышло; плоды у нас на лицо. Дело в том, что для классической реформы, как для всякого дела, касающегося народного образования, требуется подготовка. Просвещение не дается скачками: оно движется медленным путем, тут нужно осторожное и бдительное руководство. Для классического преподавания необходимы, прежде всего, учителя, а их-то и не было. Но написать устав и назначить в нем какое угодно число часов на известный предмет ничего не стоит, а приготовить хороших учителей дело трудное, требующее многолетнего, заботливого внимания. Недостаточно выписать из-за границы целую ватагу чехов, не знающих русского языка и незнакомых со свойствами, уровнем и направлением русского юношества, как сделал граф Толстой. Подобные меры ведут только к бесчисленным столкновениям и разладу между учащими и учащимися. В сущности в то время коренная классическая реформа вовсе даже не была нужна. Устав гимназий, изданный при Головнине, в этом отношении давал совершенно достаточное удовлетворение всем разумным требованиям. Обнаружившиеся на практике недостатки этого устава можно было исправить частными мерами; для этого не нужно было коренной ломки. Сам граф Толстой, в частных разговорах, которые впоследствии сделались известными в печати, сознавался, что его союзники, или патроны, идут слишком далеко. Но они упорно добивались своей цели, и он уступил. Русское юношество еще раз было отдано им на жертву. Реформа была проведена в самых широких размерах и введена в действие чисто бюрократическим путем. С зубрением латинской и греческой грамматик в гимназиях водворился самый бездушный формализм. Тупоумный Георгиевский, правая рука графа Толстого в этом деле, с услаждением говорил, что в данную минуту во всех русских гимназиях ученики пишут сочинения на одну и ту же тему Бабст, который сам некогда был учителем гимназии, с изумлением и горестно говорил мне о тех чисто формальных отношениях, которые установились между учащими и учащимися, и это подтверждалось со всех сторон. В результате получилось, можно сказать, отупение русского юношества. Все внимание сосредоточивалось на бесплодном зубрении грамматических форм, которое не только не сообщало молодым умам живого духа классических писателей, но не давало даже порядочного знания языка. Профессор классической литературы в Московском университете, Ф. Е. Корш, который в этом деле мог быть лучшим судьею, удивлялся, как, с удвоенным числом часов, вступающие в университет студенты хуже знают по-латыни, нежели прежде с вдвое меньшим. Он с негодованием говорил о введенной графом Толстым классической реформе, считая ее гибельной для юношества, и подавал даже об этом записку. А рядом с этим одуревающим налеганием на грамматику, самые важные предметы гимназического преподавания: история, русский язык и русская литература, оставались в полном пренебрежении. Молодое поколение разучилось даже писать. Не мудрено, что отцы и матери, и без того слишком склонные хныкать над детьми, подняли вопль. Имя графа Толстого сделалось ненавистным во всей России, и весть о его падении была приветствована общим ликованием. Рассказывали, что люди, встречаясь на улице, поздравляли друг друга.
Занимаемые им должности были вновь разделены. Обер-прокурором святейшего синода назначен был Победоносцев, министром народного просвещения Сабуров.
Обоих я знал хорошо. С Победоносцевым я сблизился по возвращении из-за границы, когда я вступил на кафедру. Он был тогда обер-секретарем Сената и читал лекции гражданского права в Московском университете. В это время это был прелестный человек. Тихий, скромный, глубоко благочестивый, всею душою преданный церкви, но еще без фанатизма, с разносторонне образованным и тонким умом, с горячим и любящим сердцем, он на всем существе своем носил печать удивительной задушевности, которая невольно к нему привлекала. Сын довольно плохого профессора русской словесности в Московском университете, происходящего из духовного звания, он сам воспитывался в училище правоведения. Получаемое там скудное образование он восполнил собственною работою и сделался не только дельным, но и ученым юристом по гражданскому праву. Другие отрасли правоведения были ему мало знакомы. Государственного права он никогда не изучал, политического смысла не имел никакого, не ведал ни общественных собраний, ни общественной жизни и не годился не только в государственные люди, но и в администраторы. Это был чисто кабинетный человек, который весь день сидел за своими книгами и бумагами, работая усердно и ведя самую скромную жизнь в своем небольшом деревянном домике в Хлебном переулке. Благо было бы и ему и России, если бы он оттуда никогда не выезжал! Но судьба распорядилась иначе: из средневекового монаха она сделала петербургского чиновника и тем его погубила. Сначала он назначен был сенатором, потом членом Государственного совета, наконец обер-прокурором св. синода. Перед переселением в Петербург он женился. Я был у него шафером. Жену свою[130]130
Екатерина Александровна Победоносцева, рожд. Энгельгардт.
[Закрыть], которая была гораздо его моложе, он знал с детства. Она была племянница его товарища по правоведению; еще будучи в школе, он езжал на лето в деревню к ее родителям, заинтересовался девочкой, давал ей уроки, можно сказать, воспитал ее для себя. Скромная, хорошенькая, с прекрасными сердечными свойствами, она дала ему семейное счастье; но желание доставить удовольствие молодой женщине вовлекло его в светские сферы, которые были ему чужды и совсем ему не приходились, а служба, с своей стороны, втянула его в бюрократическую среду, в которой он совершенно погряз.









































