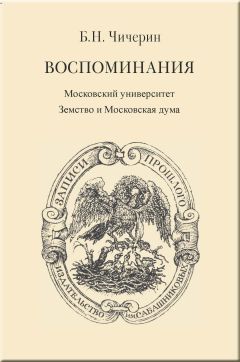
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 45 страниц)
Празднества завершились освящением храма Спасителя. Это было торжество, которое всего более произвело на меня впечатление. Погода была прелестная. И площадь, и берега Москвы-реки, и крыши домов были усыпаны народом. И когда из храма вышла процессия с царем и царицею, с духовенством в полном облачении, с развевающимися хоругвями, и за ними войска с своими покрытыми славою знаменами, среди которых, как величавые памятники славной старины, красовались изодранные знамена двенадцатого года, с шедшими возле них немногими, оставшимися в живых ветеранами, когда вся эта процессия двинулась вокруг собора, при громе пушек, при звоне колоколов, нельзя было не почувствовать в себе какой-то подъем духа, какое-то восторженное состояние. Это было не мимолетное торжество настоящего дня. Россия праздновала свое величие, освящала память знаменательнейшего события в ее истории, того, которое выказало перед лицом мира всю несокрушимую стойкость народного духа. С тех пор прошло семьдесят лет, и она стояла, обновленная, свободная, отрешившись от уз, которые сковывали ее в течение веков, ожидая только державного слова, чтобы с верою и надеждою двинуться на новый, открывшийся перед нею путь.
Но эго слово не было произнесено. Коронация Александра III была официальным обрядом, а не живым действием, соединяющим царя и народ в единой мысли и в едином чувстве. Несмотря на весь блеск и на все великолепие, она оставила во мне тяжелое впечатление. Царь явился, окруженный людьми, которые способны были возбуждать только негодование и презрение. Им он вверял управление обновленной России. Всякая разумная мысль, всякое живое чувство отвергались и подавлялись. К престолу допускалось одно только раболепное, закоснелое в рутине, интригующее в личных видах высшее чиновничество. В будущем представлялась бесконечная тьма, сквозь которую не пробивался ни единый луч света. Внешняя удача коронационных празднеств утверждала только ту бездушную систему управления, которая водворилась в России.
Проводив царских гостей, я почувствовал, что у меня как будто гора свалилась с плеч. Я был страшно утомлен и жаждал только одного: уехать на две-три недели в деревню, чтобы отдохнуть от всех этих треволнений. Но прежде этого мне еще нужно было покончить некоторые городские дела, запущенные во время коронации. Все, казалось, успокоилось: даже толки о моей речи замолкли, как вдруг в «Московских ведомостях» появилась статья, в которой мне приписывались совершенно нелепые мысли, со слов иностранных газет, передавших мою речь в извращенном виде. Поднятие вновь этого вопроса, после того как о нем, по-видимому, забыли, и газетам воспрещено было даже упоминать о моей речи, было неожиданностью. Катков, после моего выбора в городские головы, возобновил со мною знакомство. Мы встретились с ним на обеде, который князь Долгорукий давал по случаю приезда князя Болгарского.[173]173
Александр Баттенбергский приезжал на коронацию.
[Закрыть] Он подошел ко мне, протянул руку и сказал, что очень рад видеть меня городским головой. Я на вежливость отвечал вежливостью. На похоронах митрополита Макария нас в Троицкой Лавре посадили за трапезой рядом, и мы все время разговаривали как хорошие знакомые. Точно также он возобновил знакомство с Дмитриевым, когда тот сделался попечителем петербургского учебного округа. Очевидно, он заискивал. Но как скоро он увидел, что мое положение было непрочно, он тотчас воспользовался случаем и обрушился на меня с самой бессовестной клеветой. Ему очень хорошо было известно, что ничего подобного я не только не говорил, но и не мог говорить. Это было не даром. Я отвечал в «Руси» следующей заметкой.
«В № 187 «Московских ведомостей» приведены из иностранных журналов отрывки из речи, произнесенной мною 16 мая на обеде городских голов. Здесь сказано и подчеркнуто: «власть не там уже, где она была прежде; власть принадлежит нам, представителям народа». Считаю нужным заявить, что ничего подобного я не говорил. Содержание моей речи было передано в № 12 «Руси» на основании подлинного документа, и если редакция «Московских ведомостей», вместо того, чтобы черпать свои сведения из достоверного источника, настойчиво продолжает ссылаться на заведомо искаженный текст и делает выписки из журнала, где рядом с превратным изложением смысла речи говорится, что за такую смелость я был отставлен от должности и сослан в деревню, то это лишь один из тех обычных газетных приемов, которые, к сожалению, слишком часто встречаются в известного рода печати. Будучи приглашен гостем на обед городских голов, о чем же я мог говорить, как не об единении земских людей на помощь правительству против врагов общественного порядка. Зная наши нравы, я прибавил, что враги свободных учреждений, пожалуй, усмотрят в этом опасность. Те свободные учреждения, о которых я говорил, это – учреждения, дарованные императором Александром II, а кто их враги, все мы знаем: это те, которые ежедневно и неустанно изливают свою злобу на все, что вызвано к жизни царем-освободителем, и что дорого русскому человеку, на независимый суд, на земские учреждения, на Городовое положение. Я заметил, что мы можем оставаться совершенно равнодушными к таким нареканиям, ибо мы знаем, что нас одушевляет одно общее чувство: верность престолу и любовь к отечеству, которое служит нам связью. Я и теперь не счел бы нужным обращать внимание на эти пустые газетные толки, если бы я, по своему положению, не должен был иметь в виду тот, к сожалению, слишком еще многочисленный у нас класс читателей, которые, несмотря на ежедневный опыт, добродушно продолжают верить всему печатному».
30 июня 1883 г.
Но Катков продолжал свои инсинуации. «Гражданин» ему вторил в свойственном ему нахально-раболепном тоне. Очевидно, что-то готовилось.
Между тем, я старался подвинуть задержанные городские дела. Последние заседания Думы, в течение июня, были посвящены вопросам о газовом освещении и о водопроводах. Надобно было заключить контракт с новым газовым обществом, к которому дело перешло после крушения старого. Много было предварительной работы и переговоров. Оградить интересы города и потребителей, обеспечить хорошее освещение, предусмотреть все случайности, дело нелегкое. Представленный мною проект был одобрен Думою. Я успел провести и заключенный с Бабиным контракт об артезианском колодце. Когда я в 1885 году опять вернулся в Москву, я мог присутствовать на торжестве открытия источника, который давал городу от 200 до 250 тысяч ведер в сутки, что при недостатке воды было существенным подспорьем. Теперь этот колодезь потерял свое значение. К сожалению, мне не пришлось провести другой, более важный проект по общему водопроводу. Я хотел, не дожидаясь переговоров с компаниями, немедленно приступить к устройству водосборных сооружений в Мытищах. Проект, заказанный Зимину, был готов: для исполнения требовалась ассигновка в 71000 рублей. Но так как в Думе многие Зимину не доверяли, то я предлагал для обсуждения проекта пригласить несколько опытных инженеров, на что требовалась еще небольшая дополнительная сумма. Приступив теперь же к работам, мы могли при переговорах с компаниями знать наверное, сколько воды можно получить в Мытищах, что давало мне твердую точку опоры. Против этого проекта восстал думский инженер кривотолк, Ф. П. Попов, который доказывал, что надобно предоставить дело самим компаниям, а не предрешать его заранее. Речь была длиннейшая, пересыпанная техническими соображениями и совершенно непонятная. По окончании ее оказалось, что гласные не в достаточном числе. Пришлось закрыть заседание. Собрать Думу вновь, когда значительная часть членов уже разъехалась, было мудрено. Большинство составилось бы случайное, что в таком важном деле было нежелательно. Я решил отложить вопрос до осени. Если бы я успел его провести, Москва имела бы воду десятью годами ранее и с меньшими расходами. Теперь, после многих попыток и даром растраченных денег, делают именно то, что я предлагал в последнее заседание Думы, бывшее под моим председательством.
Я уехал в деревню и начинал уже с некоторым ужасом думать о возобновлении занятий после слишком кратковременного отдыха, как вдруг я получил от генерал-губернатора следующее конфиденциальное сообщение:
«Милостивый государь, Борис Николаевич. Письмом от 23 сего июля за № 526 г. министр внутренних дел уведомил меня, что «государь император, находя образ действий доктора прав Чичерина несоответствующим занимаемому им месту, соизволил выразить желание, чтобы он оставил должность московского городского головы».
О таковой высочайшей воле имею честь уведомить вас, м. г., покорнейше прося принять уверение в совершенном моем почтении и преданности. Кн. Вл. Долгорукий.
№ 2588. 27 июля 1883 г.»
Я немедленно поехал в Москву, где всем уже было известно, что мне велено подать в отставку Я написал прошение в следующей форме:
«Исполняя волю вашего императорского величества, покорнейше прошу уволить меня от занимаемой мною должности московского городского головы».
Это прошение я отвез к князю Долгорукову, которого не застал дома. На следующее утро он прислал просить меня к нему заехать. «Вы хотите подпустить мне камуфлет, – сказал он, – в ответе на конфиденциальное сообщение вы пишете: исполняя волю вашего величества». «Что же тут конфиденциального, когда все об этом знают? – отвечал я. – Да, я вовсе не намерен это скрывать. Я даже не имею права этого делать в виду своих избирателей». Он стал убеждать меня, чтобы я написал: «по домашним обстоятельствам», но я согласился только написать просьбу, не выставляя причины. Приводить фиктивные мотивы я не хотел, но не хотел и препираться о фразе, имея в виду написать письмо прямо государю с объяснением своего поведения. При этом князь Долгорукий рассказал мне, что все это дело шло совершенно помимо его, уверяя, что даже и теперь он ничего об нем не знает: он приехал в Петербург к именинам императрицы и не успел даже повидаться с министром внутренних дел, который в тот же день уехал в отпуск, оставив ему присланное ему сообщение. Разумеется, это была такая же ложь, как и все его уверения. После я узнал, что они вместе с Толстым обработали это дело во время приезда Долгорукого в Петербург. Последний заявил даже, что он не ручается за спокойствие столицы, если я останусь головой.
Подав прошение, я написал государю следующее письмо:
«Всемилостивейший государь. Вашему императорскому величеству угодно было признать мой образ действий не соответствующим занимаемому мною месту и приказать мне подать в отставку. Исполняя волю вашего величества, я подал прошение об увольнении меня от должности, но, не сознавая за собою дурного умысла, осмеливаюсь просить позволения объяснить свое поведение.
Два раза я имел несчастие навлечь на себя неудовольствие вашего величества. В первый раз я в неофициальном собрании, не как городской голова, а как старый профессор и старый студент среди старых студентов, говорил в защиту существующего закона, который подвергался и доселе подвергается рьяным и недобросовестным нападкам со стороны некоторых газет. Я сам участвовал в обсуждении этого закона, видел его на практике и глубоко убежден, что предлагаемые перемены принесут гораздо более вреда, нежели пользы. Мог ли я думать, что лицу, занимающему должность городского головы, воспрещено, даже в частном собрании, выступать в защиту закона, когда журналам дозволяется нападать на него самым резким образом, взваливая на него то, в чем он совершенно неповинен? Мне казалось, что, становясь представителем общества, городской голова не перестал быть гражданином своего государства. Если я в этом случае ошибался, то ошибался добросовестно. Вашему величеству угодно было приказать объявить мне за это высочайший выговор.
В другой раз мне довелось во время коронации говорить на обеде, на который я был приглашен гостем собранными в Москве городскими головами. Отвечая на тост, я не мог молчать. Мне казалось, что не за тем собрались на общую трапезу русские люди со всех концов земли, чтобы довольствоваться обычным обедом и провозглашением тостов, не выразив ни единой мысли, не вспомнив об отечестве, об его положении и об его будущем. Коронация, государь, это – символ новой эры, будущность отечества, и я, говоря об этой будущности, высказал то, что, по моему глубокому убеждению, составляет нашу насущную потребность, наше единственное спасение: это – союз всех общественных сил против врагов общественного порядка.
Зная, что эти желания могут быть истолкованы криво, я прямо и буквально заявил, что мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству, не требуем себе прав, а должны только быть готовы на случай призыва к содействию. Правительство само не раз взывало к этому содействию, и я всегда был глубоко убежден, что и способ и время могут быть определены только самою верховною властью, которая одна должна окончательно решить, что нужно для блага России.
Между тем, в самую ночь после произнесения этой речи, не спросивши у меня даже текста, в газеты был разослан циркуляр с воспрещением упоминать о ней, так как я, будто бы, просил конституции. Вследствие этого в обществе возникли преувеличенные толки, которые перешли и в иностранную печать. Моя речь была кем-то сообщена в иностранные газеты в совершенно извращенном виде: меня заставили говорить то, чего я не только как русский, но и как здравомыслящий человек, никогда не мог сказать. Уверяли даже, что все это я произнес перед лицом вашего величества. Затем, несмотря на запрещение, и в русских газетах стали взводить на меня самые гнусные клеветы. Я счел нужным печатно заявить, что я не говорил того, что мне приписывают. Но публиковать истинный текст я не мог; я принужден был в защиту себя и в опровержение нелепых толков ограничиться частным сообщением списков некоторым лицам, которые меня о том просили. Не знаю, было ли и в каком виде все это передано вашему императорскому величеству, но как честный человек, считаю долгом заявить, что мною не было сказано ни единого слова, кроме того, что заключается в сообщенном мною тексте. Если что-либо проникло в заграничную печать, то это сделалось без моего ведома и согласия.
Таков мой образ действий. Вины за собою не знаю. Я мог ошибаться в своих суждениях и поступках, но я поступил, как честный гражданин, воодушевленный одним нераздельным чувством верности престолу и любви к отечеству. Это чувство всегда останется для меня самою заветною святынею моей жизни.
Одно мне горько, Государь. Если бы я был удален от должности немедленно после коронации, все бы знали, что я подвергался опале за ту речь, которую я произнес. Но после того, как в печати были пущены против меня всякого рода клеветы, нынешняя моя отставка служит им как бы официальным подтверждением. Удаляясь в частную жизнь, утешаю себя сознанием, что я, по совести и разумению, исполнил свой долг перед государем и перед отечеством».
Щербатов советовал мне вручить это письмо прямо генерал-губернатору для доставления государю. Я с этим к нему отправился; но он сказал мне, что едет в заграничный отпуск и уже сдал свою должность, а потому не может принимать никаких бумаг. При прощании он облобызал меня три раза, как друга, с которым ему жаль расставаться. Это напомнило мне лобызание П. М. Леонтьева.[174]174
Чичерин намекает на эпизод, описанный им в главе «Вступление на кафедру». Когда Леонтьев в знак примирения поцеловался с Чичериным, то приятель последнего проф. Дмитриев уверял даже, что он видел, что Леонтьев воспользовался этим случаем, чтобы «ужалить… (Чичерина) прямо в щеку».
[Закрыть]
Письмо я послал в Петербург через помощника городского секретаря с поручением лично вручить его Рихтеру. Но и эта попытка вышла неудачною. Рихтер тоже был в отпуску. Пакет был передан баронессе Раден, а она отдала его графу Воронцову, который и доставил его государю. Ответа не последовало. Я просто получил отставку. Исправлявший в то время должность министра внутренних дел Иван Николаевич Дурново рассказывал тогдашнему правителю канцелярии Воейкову, что государь с раздражением отзывался обо мне, говоря, что он имеет против меня документ, причем показал изданную за границею брошюру[175]175
Речь Б. Н. Чичерина, московского городского головы, 16 мая 1885 г. Эпизод из истории коронации в Москве. С предисловием Р. Р., Берлин, 1883.
[Закрыть], где напечатана была моя речь, с предисловием, содержащим в себе резкие нападки на министра внутренних дел. Эта брошюра была мне тут же доставлена. Кем она была напечатана, я до сих пор не знаю, но наверное радикалом, ибо в ней есть маленькое, не лишенное знаменательности искажение. Вместо фразы: «нас одушевляет одно общее чувство, которое служит нам связью: верность престолу и любовь к отечеству», поставлено просто: «нас соединяет одно общее доброе чувство», а какое, неизвестно, так что выходит некоторая бессмыслица. Печатавший брошюру, по-видимому, не хотел допустить в русских людях верности к престолу Эту брошюру Толстой представил государю, приписывая ее мне и указывая на все неприличие такого рода нападков на министра внутренних дел со стороны подчиненного. От меня, конечно, не думали потребовать объяснений, а просто велели подать в отставку. Таким образом, я был удален от общественной должности за действия лица, совершенно мне неизвестного. Таку нас водится. После этого я вправе был говорить, что я всю свою жизнь честно и бескорыстно работал для пользы отечества. И единственная награда, которую я за это получил, состояла в том, что меня на старости лет выгнали из службы, не сказавши даже за что. Прежние государи отвечали, по крайней мере, хоть одним словом на представляемые им оправдания обвиненных; теперь и это считается лишним.
Живя целые века под самодержавною властью, русское общество до такой степени привыкло к этому образу действий, что оно никого не возмущает. Даже те, которые признавали, что со мною сделали гадость, обвиняли графа Толстого и князя Долгорукого, бережно обходя главного виновника. Но я всегда утверждал, что нечего пенять на диких зверей за то, что они терзают свою добычу; на то они и звери. Но можно и должно пенять на хозяина, который своих собственных слуг отдает на жертву зверям. Делая гадости, негодяи исполняют свое назначение, – но монарх, который эти гадости утверждает своим словом и дает им силу, идет наперекор своему высокому призванию, и за это он нравственно ответственен. Извинение есть знак раболепства.
Сам виновник этих приключений, по-видимому, даже и не сознавал, что он делал. Года два или три спустя я жил в Ялте, в то время как царская фамилия была в Ливадии. Случилось однажды, что мы с женою гуляли пешком по Массандрской дороге. Жена пошла в лес рвать цветы, а я остался сидеть на скамейке. В это время проехала коляска. Жена слышит, что сидящий в ней военный самым дружеским голосом воскликнул: «А, Борис Николаевич!» Вышедши из лесу, она спросила: «Какой это генерал так дружелюбно с тобой раскланялся?» «Государь император».
На следующий день нас приглашали к обеду в Ливадию. Жена отказалась вследствие нездоровья, а я поехал. Государь старался быть возможно любезным. Через несколько дней они уехали, но я на проводы не пошел, что многих удивило. Все думали, что царского милостивого слова достаточно, чтобы все загладить. Я объяснил, что я не собачка, которую можно прогнать пинком, а затем подозвать, когда гнев хозяина прошел, и она будет, махая хвостом, лизать у него руку. Когда меня зовут, я считаю долгом явиться и тем оказать уважение царю, но сам от себя ни в каком случае не пойду. После этого я видел его еще раз на свадьбе Петра Капниста, которая происходила
в Петергофском дворце. Жена была посаженою матерью у своего брата, а я, как близкий родственник, был в числе приглашенных. Государь с нами обоими опять старался быть любезным, что от него всегда требует некоторого усилия над собой. Тем наши сношения и покончились. После этого царская фамилия бывала в Ливадии, в то время как мы жили в Ялте; я не являлся на встречах, и нас уже не приглашали.
Но возвращаюсь к своему рассказу.
Я уехал из Москвы в половине августа, не дожидаясь отставки. На действие письма к государю я не питал никакой надежды, и мне вовсе не хотелось торчать в Москве в фальшивом положении. Товарищи по Управе пожелали в последний раз отобедать со мной и проводили меня с выражениями искренних чувств. Также проводили меня и все служащие в Управе, что меня особенно тронуло, ибо я в сущности мало имел с ними дела. Даже на следующий год, когда я из деревни вернулся в Москву, вся канцелярия и служащие просили меня дать им мои фотографические карточки, а они поднесли мне свои, которые и поныне висят у меня, как памятник доброго расположения подчиненных. Я высказал им, что не знаю, чем я мог заслужить такое теплое чувство при столь кратковременном управлении. «Вы с нами обращались по-человечески», – отвечал мне начальник торговой полиции, Юнг.[176]176
И. А. Найденов в своих «Воспоминаниях», вып. II, М., 1905, стр. 31–32, характеризует Юнга, в бытность его гласным, как человека низкопоклонного и всегда присоединявшегося к мнению влиятельных гласных, «чем и достиг выбора его в начальники торговой полиции… а затем членом Управы».
[Закрыть] Это не дало мне высокого понятия об обычном обращении с подчиненными. С Ушаковым я продолжал вести переписку. Осенью 1883 года он писал мне: «В наших обычных занятиях (теперь мы составляем роспись) наши беседы не раз уже прерывались напоминаниями, в которых произносилось и ваше имя: «а помните, Борис Николаевич проводил такую-то мысль; а помните, он то-то говорил». Не скрою, что ваше отсутствие более всего тяжело для меня, брошенного превратностями судьбы в море думских дел, без руля и без ветрил. Одна только память о вашей энергии, взглядах и направлениях, с которыми удалось мне познакомиться в кратковременную службу с вами, придает мне силы!» Эти теплые отношения доставили мне такую же отраду, как некогда сочувственные заявления студентов при выходе из университета.
И между гласными были многие, выражавшие мне сочувствие. Даже Найденов, узнавши о моей отставке, прилетел в Управу и воскликнул: «Если воображают, что это пройдет гладко, то очень ошибаются». Но масса осталась равнодушною, одни из раболепства перед правительством, другие потому, что все-таки не считали меня своим, как не принадлежащего к купеческому сословию. При отъезде весьма немногие из них меня провожали: были Охлябинин, Василий Алексеевич Бахрушин и не помню еще кто. Явился и Митрофан Щепкин, который постоянно оказывал мне большое расположение. Я не удивился малочисленности членов Думы, ибо никому не говорил о своем отъезде и не воображал, что будет какая-нибудь демонстрация. К тому же время было летнее; многие купцы были на Нижегородской ярмарке, другие на дачах. Но Охлябинин говорил мне, что ему было известно, кто мог приехать и не приехал. Он был возмущен и тотчас подал в отставку. Тогда же вышел из гласных и Щербатов в виде протеста против правительственных действий.
Однако, этим дело не кончилось. Надобно было знать, как примет это известие Дума, когда она опять соберется после ваканций. Решено было, что Аксенов произнесет речь и предложит мне благодарность. Обо всем происходившем я был извещен следующим письмом Герье, который в это время как раз вернулся из-за границы.
«С тех пор, как газеты стали приносить в нашу даль такие необычайные и противоречивые известия о вас, не проходило дня, чтобы я о вас не думал, недоумевал и не волновался по поводу вас. Только на возвратном пути в Россию, в Киссингене, я узнал от Александра Владимировича[177]177
Александр Владимирович Станкевич.
[Закрыть], в чем дело, и тут же узнал о печальном исходе его. Наше московское небо представилось мне еще более пасмурным и безотрадным, а сама Москва еще безлюднее и скучнее. На другой день после приезда я получил обычное приглашение на субботу к Рукавишникову. Туда явилось человек 16; не было Алексеева, который находился за границею; зато были Аксенов и Найденов; остальные – обычные посетители. Долго ждали Аксенова, который был у всенощной.
Очевидно, собрание было созвано по его настоянию; порешили просить Аксенова взять на себя заявление. Он отправился в другую комнату составлять его. Я предложил ему через Найденова свои услуги, но он отказался от помощи, и я был приятно изумлен, когда чае спустя он возвратился в зал с своим заявлением. В конце у него шла речь о том, что Дума не разделяет нареканий, высказанных в газетах; я просил его опустить полемику с газетами, и протест против нареканий получил у него вследствие этого более общий смысл и более веса. Говорил еще о том, чтобы основать стипендию вашего имени, но ввиду того, что это потребовало бы ассигновки капитала, против чего могли бы появиться возражения со стороны текинцев, я предложил вместо стипендии городскую школу, против которой никто бы не решился возражать. В общем все считали необходимым еще одно собрание, и Аксенов взялся устроить его у себя. На другой день вечером отправились мы с Грековым в Монетчики.[178]178
«Монетчики», район между Пятницкой и Кузнецкой улицами, заселенный в XVII в. мастерами монетного дела. Здесь «в приходе церкви Воскресения Славущего» в Монетчиковском пер. («Пятницкая часть, 5 квартал»), как видно из «Книги адресов жителей Москвы, 1863. 2-я часть. Лица неслужащие». М., 1862, стр. 4, и «Адрес-календаря разных учреждений г. Москвы на 1881 год», М., 1881, стр. 283, 334, находился «собственный дом» братьев Василия, Ивана, Сергея и Николая Дмитриевичей Аксеновых.
[Закрыть] Публика была многочисленная и преимущественно состояла из текинцев. С первого же слова начались разногласия: Шестеркин и Жадаев считали неуместным какое бы то ни было сочувственное заявление. Шестеркин говорил дерзко, вызывающим тоном. С глазу на глаз он сказал мне: «Если я прогоню своего управляющего, то кто же посмеет сказать мне, что я неправ?» Жадаев вслух сказал: «Ну что же, что министр удалил по своей воле? на то он и министр, кого, значит, хочет, того и может удалить». Я не удержался, чтобы не спросить у Скалона, этого поборника suffrage universel[179]179
Всеобщего голосования.
[Закрыть], нравится ли ему этот народный голос? С другой стороны, Муромцев требовал горячего и открытого протеста: он, кажется, бил на скандал и подливал масла в огонь. Дело приняло очень критический оборот, когда заговорил Осипов; он говорил громко, в сердцах бил себя кулаком в грудь, подымал кулак к небу, был настоящим Мининым, как назвал его Епанешников. Осипов высказался против полумер, говорил о необходимости сделать запрос правительству, отправить депутацию в Петербург и объявил, что он лучше в Думу не приедет, чем ничего не делать. Между тем, многие уходили и зала начала пустеть. Аксенов сообщил мне, что Лепешкин, который вечером не мог быть, заезжал к нему и спрашивал, не лучше ли, вместо стипендии или школы, поднести вам почетное гражданство. Я с радостью ухватился за эту мысль и просил его поддержать ее и предложить собранию; но было уже поздно, и толку из этого не вышло. На следующий день я с грустью отправился в думское заседание. Дело, казалось, примет дурной оборот и кончится жалкой попыткой что-нибудь сделать. Осипов не пришел; Пржевальский готовил какое-то огненное, как выражался, предложение. Мы вошли в залу; что-то торжественное воцарилось в ней. Необычно ясным голосом прочел Аксенов свое заявление, несколько смягченное в угоду Ушакову, потом прочел и проект приговора, написанный Четвериковым и усиленный нами в последнюю минуту. Черинов судорожно схватил меня за руку, когда председатель своим сухим деловым голосом поставил вопрос: угодно ли собранию принять приговор? Ни одного возражения, несколько одобрительных голосов, и дело было сделано. Эта минута вознаградила за многие тяжелые часы, бесплодно проведенные в Думе.
Черинов потом спрашивал меня, чем объясняется такое настроение Думы: случайность ли это, или какое вдохновение сошло на нее? Во всяком случае, это показало, что самое неразвитое и бестолковое политическое собрание может в известных случаях руководиться верным инстинктом. Но нельзя слишком полагаться на этот инстинкт. Ушаков уже вытащил какую-то бумагу. К счастью, мы с Чериновым сидели рядом с Лепешкиным, который как будто забыл о своем предложении. Он смутился, покраснел, но оправился, встал и очень недурно мотивировал свое предложение. Опять раздался глухой вопрос председателя; еще более у нас замерло сердце в ожидании неуместных возражений, – и опять собрание оказалось на высоте своего положения. Только в конце заседания, когда стали читать приговор, послышалось запоздалое возражение Шестеркина, которое заглушено было криками. Мы с Чериновым хотели в тот же вечер послать вам телеграмму, но не сделали этого из опасения, чтобы не воспользовались этим, чтобы умалить случившееся и выставить его делом кружка. Три дня спустя газетам запрещено было говорить о заседании 12 сентября. Один «Курьер» напечатал о нем».
Так описывал мне это заседание Герье. Но не на всех оно произвело то же впечатление. Митрофан Щепкин, который сидел тут же в числе публики, был им очень недоволен. «Что почтенный Аксенов прошамкал с младенческой робостью, – писал он мне, – и в двух несвязных фразах высказал Лепешкин, предложивший почетное гражданство «за усердие», я, простите, не могу считать за выражение сочувствия своему достойному представителю. Это скорее канцелярская отписка. А гробовое молчание я давно уже отвык признавать за единогласное выражение общественного сочувствия». Но Щепкин требовал гораздо более того, что могла дать Московская дума. Можно было довольствоваться и тем, что было сделано.
Отчет о заседании, напечатанный в «Московском курьере», был следующий:
«Вчера, 12 сентября, состоялось первое, после перерыва на летнее время, заседание Московскоп городской думы. Председательствовал исправляющий должность городского головы М. Ф. Ушаков. Заседание началось чтением отношения г. московского губернатора о том, что «поданное доктором государственного права Чичериным всеподданнейшее прошение об увольнении его от должности Московского городского головы, в 11-й день сего августа было представляемо г. управляющим министерством внутренних дел на всемилостивейшее воззрение государя императора и его императорскому величеству благоугодно было на сие высочайше соизволить». По прочтении этого отношения, старейший гласный Думы В. Д. Аксенов обратился к собранию с следующею речью: «Позвольте по поводу оставления городским головой своей должности сказать несколько слов. Мне кажется, достоинство самой городской Думы обязывает ее не пройти молчанием такой прискорбный случай. Нельзя не высказать сожаления, что среди множества поднятых вопросов, накануне решения некоторых из них, наш глубокоуважаемый Борис Николаевич вынужден был оставить свой пост. Нет сомнения, что выход его в отставку тяжело отзовется на городском благоустройстве. Считаю долгом, в виду высказывающихся нарекании на его общественную деятельность, предложить городской Думе высказать, что она не только не разделяет такого мнения, но считает его деятельность полезною для московского городского хозяйства, и вместе с тем выразить искреннюю благодарность Борису Николаевичу за его усердную, но, к сожалению, кратковременную деятельность на поприще городского управления и глубокое сожаление о том, что так неожиданно прекратилась его деятельность». Речь эта была выслушана гласными с полным сочувствием. Гласный С. В. Лепешкин предложил избрать Б. Н. Чичерина почетным гражданином города Москвы ввиду той энергии, с которой бывший голова стремился к городскому благоустройству. Предложение это было принято и тут же составлен следующий протокол:
«Московская городская Дума, выслушав заявление исправляющего должность городского головы, что Б. Н. Чичерин, согласно принесенному им прошению, получил увольнение от занимаемой им должности московского городского головы, постановила: 1) выразить Борису Николаевичу глубокую и искреннюю признательность за труды его на пользу Московского городского общества в звании московского городского головы и при этом заявить крайнее сожаление, что встреченные им обстоятельства вынудили его оставить пост, предоставленный ему общественным доверием, почти накануне разрешения поднятых им весьма важных вопросов городского хозяйства, 2) признать Бориса Николаевича Чичерина почетным гражданином города Москвы, на что и испросить высочайшего государя императора соизволения».









































