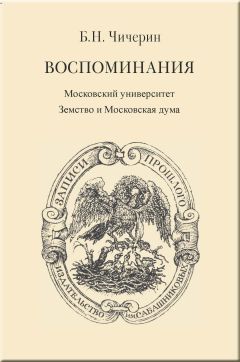
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Я предлагал призвать по одному депутату от дворянства и по два от земства каждой губернии и дать им одинаковое право голоса с правительственными членами. Так как мнения Государственного совета не связывают верховной власти, то вопрос о большинстве и меньшинстве не имеет тут значения. «Существенная задача состоит в том, чтобы собрать достаточное количество сил и создать действительный центр политической жизни». А для этого надобно поставить задачу широко, не выказывая мелкого и боязливого недоверия, которое к тому же не имеет и почвы. «Ныне русское общество менее, нежели когда-либо, расположено требовать себе прав. Оно напугано явлениями социализма и готово столпиться около всякой власти, которая даст ему защиту». Надобно только, чтобы сама эта власть обратилась к нему с доверием. «Правительство, разобщенное с землею, бессильно; земля, разобщенная с правительством, бесплодна, – заключал я. – От прочной их связи зависит вся будущность русского государства».
Эту записку, которая показывает, как в то время могли смотреть на положение дел беспристрастные люди из общества, я роздал в рукописи нескольким московским знакомым и послал в Петербург, между прочим, Победоносцеву. Он писал мне от 15 марта:
«Получил сегодня вашу записку и благодарю искренно. Тотчас же прочел. Не стану скрывать свое мнение – оно совсем несходно с вашим. Первые две трети записки, содержащие критическую часть, я одобряю вполне, но предлагаемое вами лекарство, по мнению моему, может оказаться хуже болезни. Я не верю, чтобы из этого вышло то единение, которого вы желаете, но вижу ясно, что выйдет новое разъединение и новая фальшь. Все дело в том, что правительство перестало знать, чего оно хочет, и утратило инстинкты народного самосохранения. Вы сами пишете, что предполагаемое вами учреждение предполагает твердое правительство, и вы же хотите, чтобы посредством этого учреждения правительство стало твердым. Тут есть круг, в котором мысль безысходно вращается.
Впрочем всего не объяснишь в кратком письме, а я хотел только выразить вам мысль свою, основанную на крепком убеждении, которое сидит во мне с тех пор, как я начал мыслить, и все более укореняется.
Записку вашу постараюсь передать великому князю Владимиру, до которого это дело принадлежит специально…
Когда приедете сюда, вас здесь встретят, ради этой мысли, с объятиями, и вы будете лить воду на здешнюю мельницу, которая в ходу, скажу к несчастью. Это – самая последняя мода в высшей официальной интеллигенции. Пусть бы в другое время, но теперь, в эту минуту, когда все расшатано и потрясено в первых элементах, я с глубоким прискорбием смотрю в а это стремление, льстивое, по моему мнению, и обманчивое. Впрочем, думаю, сами вы несколько поколеблетесь в своей мысли, когда увидите в здешних кривых зеркалах ее отражение. Обнимаю вас. До свиданья».
На это я отвечал: «Получил я ваше письмо, любезнейший Константин Петрович. Думал сам быть в Петербурге на днях и лично переговорить с вами; но мне пишут, что бог знает еще, когда нас соберут, а ехать туда для препровождения времени не считаю нужным. Но не могу не отвечать на ваше письмо. Мы живем в такое время, когда людям, искренно желающим пользы отечеству, необходимо столковаться. Нам с вами это тем более возможно, что в сущности мы одинаково смотрим на положение и расходимся лишь в средствах. В ответ на ваше возражение я вам поставлю один вопрос: неужели вы думаете, что с существующими петербургскими элементами вы в состоянии сделать что-нибудь путное? Можно верить или не верить в то, что даст страна, но есть одно, во что нельзя не верить – это то, что петербургские сферы износились совершенно и, кроме гнили, ничего в себе не содержат. А вы с этою гнилью хотите спасать Россию! Одно из двух: или нынешнее правительство способно выставить из себя человека вроде Михаила Николаевича Муравьева, которого имя теперь у всех на устах; но в таком случае он сам захочет опереться на земскую силу и поведет ее за собою. Или же, нынешнее правительство, кроме существующей размазни, ничего не в состоянии произвести; но тогда одно спасение в воззвании к земле. Соглашусь с вами, что, пожалуй, даже большинство будет состоять из пустых болтунов; но явится и здравомыслящее меньшинство, которое в состоянии будет смело высказать свое мнение и в котором правительство найдет опору. Продолжать же нынешний порядок, при котором каждый министр тянет на свою сторону и все сходятся только в одном – чтобы взапуски, друг перед другом, либеральничать и кувыркаться перед петербургскою швалью, это, по-моему, немыслимо. Это именно тот путь, который ведет к погибели. Затем я вовсе не думаю, что нужно с этим спешить. Напротив, дайте правительству установиться и обществу одуматься. Не мутите умы мнимо либеральными мерами, которые теперь совершенно несвоевременны, и не бойтесь проявлений власти, которые одни могут успокоить взволнованное общество. Но у вас, когда проявляется власть, так это бывает всегда наперекор здоровой политике, «Петербургские ведомости» запрещают, а «Страну», «Голос» и «Порядок» оставляют неприкосновенными. Что тут будешь делать? Крепко жму вам руку».
Сущность моей мысли заключалась в том, что надобно собрать центру все охранительные элементы страны и на них опереться, чтобы действовать на общество и дать отпор нигилизму. Но Победоносцев ничего не понимал, кроме канцелярии и консистории. Выборных учреждений он не видал в глаза и боялся их, как огня. Гражданский идеал его был чисто монашеский: «да тихое и безмолвное житие проживем». Этот идеал он вынес из своего происхождения, из своей жизни, и остался ему верен до конца.
Вскоре я поехал в Петербург на заседание железнодорожной комиссии. Я нашел там войну между двумя министерскими партиями в полном разгаре. Меня это смущало и огорчало. Мне казалось, что в эту минуту всем надобно соединиться и действовать дружно во имя общей цели, даже с пожертвованием личных взглядов и стремлений. В этом смысле я старался действовать на Победоносцева, убеждая его сблизиться с Абазой, который далеко не был рьяным либералом. «Как, вы хотите, чтобы я с ним сблизился, – отвечал он, – когда он почти перестал мне кланяться?» С Абазой я не пробовал говорить. Он действительно так возгордился своим положением и сделался так важен и величествен, что к нему не было приступа. Но перед возвращением в Москву я отправился к его приятельнице, Елене Николаевне Нелидовой, и старался ей растолковать, что, ведя дело таким образом, они оттолкнут от себя всех благоразумных людей и легко могут проиграть сражение, от которого зависит вся наша будущность. При этом я внушал, что гораздо лучше столковаться с Победоносцевым, который пользуется доверием государя, нежели быть с ним на ножах. Но это были напрасные слова: самомнение обуяло их совершенно.
Всего более меня тревожило то, что в видах популярничанья, они вздумали перевернуть все Положение 19 февраля. Опираясь на то, что в некоторых местностях выкупные платежи оказывались слишком тяжелыми и накоплялись недоимки, они хотели, в виде общей меры приравнять платежи к ценности земли. Это значило разом опрокинуть всю систему, принятую при освобождении крестьян, ибо в северных губерниях платежи соразмерялись не с ценностью земли, а с средним оброком, который платили крестьяне в значительной мере с промыслов. Я старался доказать Абазе, что если они в отдельных случаях будут облегчать те неизбежные неравенства, которые должны были оказаться при такой всеобщей и коренной реформе, то это встретит общее сочувствие, но что ниспровергать все Положение 19 февраля, на котором зиждется весь наш новый гражданский строй, и заменять действовавшую в течение двадцати лет выкупную систему совершенно иною было бы крайне неблагоразумно и даже опасно. Но в своем величии он принял мои возражения весьма неблагосклонно, а приятель его Константин Иванович Домонтович, сам бывший членом Редакционных комиссий, тут же отвечал мне: «В то время этого начала нельзя было провести, а теперь можно; этим следует воспользоваться». Так эти господа смотрели на величайший законодательный акт в русской истории: они видели в нем дельце, которое можно провести бюрократическим путем. Когда Александр II задумал освободить крестьян, он не ограничился узкою сферою петербургских чиновников, и вызвал всеобщее обсуждение вопроса и в печати, и в дворянских комитетах собранных по всем губерниям. В Редакционные комиссии призваны были самые видные люди из русского общества; в Петербург вызваны были депутаты от дворянства, и только после двухлетнего всестороннего обсуждения каждой подробности издан был великий акт, положивший основание новому гражданскому строю в русской земле. И вдруг несколько петербургских либеральных чиновников, пользуясь счастливым министерским созвездием, вздумали опрокинуть всю эту громадную работу и провести чисто бюрократическим путем свои личные виды. Далее этого чиновничье легкомыслие не могло и т. д. Меня поразило то, что, когда я, вернувшись в Тамбов, рассказал обо всем этом жене губернатора, баронессе Фредерике, она тут же воскликнула: «Да как же это можно, это значит ломать все Положение 19 февраля». «Вот видите, – отвечал я, – вы, дама, понимаете это с первого раза, а петербургские сановники никак не могут этого понять».
Я сообщил свои опасения Победоносцеву, который советовал мне составить об этом краткую записку и представить ее государю. Это я и сделал, но уже по возвращении в Москву. Перед отъездом я получил от Лорис-Меликова косвенное предложение, которое я отклонил. Мой университетский товарищ и приятель Зубков, один из краеугольных столпов петербургского Яхт-клуба, писал мне, что ему нужно видеть меня по весьма важному делу. При свидании он сообщил мне, что Черевин, по поручению Лорис-Меликова, просил его разузнать от меня, не приму ли я на себя руководство печатью. Оно в это время находилось в ведении Николая Саввича Абазы, который очень этим тяготился. Я отвечал, что периодическая печать в эту минуту требует палача, а я к этой роли не чувствую никакого призвания. Думаю, что предложение, в сущности, было не серьезное. Если бы действительно хотели привлечь меня к делам, незачем было употреблять такие косвенные пути.
Записку о выкупном деле я из Москвы послал через Победоносцева в пакете на имя государя при следующем письме:
«Всемилостивейший государь! Беру смелость представить на усмотрение Вашего Величества приложенную при сем записку о предполагаемых правительством мерах по крестьянскому делу. Несколько месяцев тому назад Вы соблаговолили принять от меня записку по университетскому вопросу. Ныне положение еще серьезнее и предполагаемые меры еще опаснее, а потому я решаюсь снова высказать свою мысль перед вашим величеством. Когда колеблются основания Положения 19 февраля, этой дарованной вашим родителем великой хартии русского народа, русский человек не может не трепетать за будущность своего отечества. Смею уверить Вас, государь, что я не один так думаю, и что мои опасения разделяются многими людьми, основательно знающими Россию, и которых мнение может иметь вес. Иначе я не осмелился бы утруждать Ваше Величество своими соображениями.
Пользуюсь этим случаем, чтобы повергнуть к стопам Вашего Величества чувства безграничной преданности Вашего императорского величества верноподданного Б. Чичерина.
11 апреля 1881 г.»[140]140
Подробно обсуждение вопроса о понижении выкупных платежей в Государственном совете в 1881 г. изложено в Дневнике Перетца, записи 7 апреля (стр. 59–60) и 27–28 апреля (стр. 66–69); о дальнейшей судьбе законопроекта там же, записи 10–11 мая (стр. 73–74), 15 мая (стр. 74–75) и 20 мая (стр. 75–80).
[Закрыть]
К сожалению, по какому-то случаю самая записка не сохранилась у меня целиком. Из нее выпал средний листок и остались только начало и конец. Я рассматривал в ней два проекта, представленные Абазой: 1) о понижении выкупных платежей; 2) об обязательном выкупе в тех имениях, где крестьяне не перешли еще в разряд собственников. Относительно первого я говорил, что против этой меры ничего нельзя было бы сказать, если бы имелось в виду облегчение тяжестей в тех местностях, где они лежат непосильным бременем на крестьянах. «Положение 19 февраля, – писал я, – как общая государственная мера, не могло принять во внимание всего бесконечного разнообразия местных условий, а потому неизбежно должна была оказаться неуравнительность в платежах. Исправление этого недостатка, коренящегося не в началах, положенных законодателем, а в их приложении, было бы благодеянием для крестьянского населения. Единственное, чего можно было бы желать, это то, чтобы эта льгота давалась, по возможности, без шума и без огласки так, чтобы не взволновать остальных крестьян, которые будут ее лишены.
Польза должна быть действительная, а не на показ. Но не то имеется в виду в правительственном проекте. Хотят именно чтобы мера была общею, а не частною, чтобы она совершилась с огласкою, а не втихомолку; хотят не облегчения правил в приложении, а изменения самого их основания». Против этого я восставал, указывая, с одной стороны, на несправедливость такого уравнения, которое облегчит богатых промышленных крестьян северных губерний, оставляя тяжести на беднейших черноземных, а с другой стороны, напирая на то, что Положение 19 февраля есть краеугольный камень новой русской гражданствевности, которого нельзя касаться, не колебля самые юридические основания общественного порядка и не подавая поводов к новым смутам.
Что касается до второго проекта, то, признавая обязательный выкуп полезным, как довершение великого дела освобождения крестьян, я возражал против предполагаемой скидки двадцати процентов с цены имений, утверждая, что подобная мера, принудительно введенная, не что иное как частная конфискация, которая может найти извинение в революционном положении страны, но в приложении к настоящего состоянию России не находит никакого оправдания, а способна только поддержать смуту, действуя в смысле направления, отрицающего право собственности.
Я кончал взглядом на общее положение дел. «Напрасно думать, – писал я, – что все ограничивается небольшою шайкою злоумышленников. Масса сбитой с толку молодежи дает этим злоумышленникам постоянно новый контингент, и чем более в обществе будет волнения, чем более в нем будет на практике возбуждено вопросов, касающихся самых основ гражданского строя, тем более будет смуты в умах и тем благоприятнее будет среда для нигилистов. Не придавать постигшему Россию удару никакого политического значения, идти сегодня тем же путем, как мы шли вчера, предлагать в смутную пору такие меры, которые требуют спокойного состояния общества, значило бы закрывать глаза на действительность и поступать не так, как подобает государственным людям. В настоящее время требуется успокоение, а не возбуждение умов, требуется утверждение существующего, а не новая ломка. В этом деле правительство может, по зрелом обсуждении и не торопясь, собрать вокруг себя лучшие силы земли, но не с тем, чтобы предлагать им переустройство только что созданного порядка вещей, а с тем, чтобы вкупе с ним охранять этот порядок от нарушений и упрочить его, как основание для всего будущего развития России. Черед, как для новых преобразований, так и для довершения уже содеянных, придет в свое время; ныне задача иная. Охранительная политика, опирающаяся на страну, таков лозунг настоящего дня. И только когда союз с землею будет упрочен, можно будет думать о дальнейших реформах».
Мне после сообщали, что государь остался доволен и письмом и запискою. Он говорил об этом Игнатьеву.
Этот изворотливый дипломат в это время выдвигался вперед. Он был назначен министром государственных имуществ: но это было только ступенью для дальнейшего движения. Из двух партий, на которые разделялось министерство, он принадлежал к Победоносцеву, прельщая его своими православноруссофильскими тенденциями и тщательно скрывая другие свои виды. Победоносцев прочил его на место Лорис-Меликова и втайне действовал на его пользу. Не имея ни малейшего понятия о внутренних делах, Игнатьев искал света и в других сферах. Будучи послан в Нижний Новгород для охранения порядка во время ярмарки, он там сошелся с бывшим сызранским предводителем, Дмитрием Ивановичем Воейковым, который впоследствии сделался у него правителем канцелярии, а через него он вошел в сношения с Дмитриевым, который был сызранским помещиком. Игнатьев приезжал совещаться с Дмитриевым насчет выкупного вопроса. Дмитриев рассказывал мне, что он советовал созвать людей, знающих дело, из общества, и при этом назвал Щербатова и Дмитрия Самарина.
«Зачем же ты это сделал? – сказал я ему тут же. – Самарин будет фантазировать, а Щербатов пойдет на компромиссы. Из этого ничего путного не выйдет». Оба они были мои близкие друзья; я их любил и высоко ставил во многих отношениях, но, зная их свойства, я не предвидел никакой пользы от их участия именно в этом вопросе. Так и вышло в действительности. Однако предложение Дмитриева имело полезные следствия. При обсуждении проекта в Государственном совете Игнатьев предложил созвать сведущих людей, и это затормозило дело. Когда они собрались, Лорис-Меликов и Абаза сошли уже со сцены и некому было поддерживать их проект.
Представляя свою записку государю, я копию с нее в то же время препроводил Абазе при следующем письме:
«Многоуважаемый Александр Аггеевич, посылаю вам составленную мною записку о предполагаемых вами мерах по крестьянскому делу. Другую такую же записку посылаю от своего имени государю. Третьего экземпляра нет в чужих руках.
Вы, вероятно, будете меня бранить; но я отвечу вам, как Фемистокл: бей, но слушай.[141]141
Намек на известный анекдот про афинского полководца Фемистокла. При обсуждении плана действий против персов накануне Саламинской битвы (в 480 г. до н. э.), он так увлекся, что прерывал всех несогласных с ним. Председательствовавший на совещании спартанский царь Эврибиад замахнулся на него палкой. «Бей, но выслушай», – отвечал будто бы Фемистокл. В конечном итоге Фемистокл добился осуществления именно своего плана, в результате чего была одержана блестящая морская победа над персами.
[Закрыть] Думаю, что с принятою диспозициею легко можно проиграть Саламинское сражение, от которого зависит вся будущность России. Если вы желаете созвания выборных, то на этой мере следует сосредоточить все свои силы, и на этом вы сойдетесь со многими. Если же вы будете вести разные атаки, то вы рискуете потерять все или произвести такую неурядицу, при которой останется одно спасение в чистой диктатуре. В предполагаемой мере в особенности вы будете иметь поддержку одной петербургской журналистики, а против нее будут, смею вас уверить, множество разумных и либеральных людей, которые с крайним опасением смотрят на этот шаг. Грустно видеть, Александр Аггеевич, что вы, которого все мы, близко вас знающие и вас ценящие, желали бы иметь своим вожаком, в настоящее смутное время вступаете на такой путь, по которому мы не можем за вами следовать.
С горестью жму вам руку, не теряя впрочем надежды, что вы сами, обдумавши дело, убедитесь в необходимости более зрелого его обсуждения.
11 апреля 1881 г.»
Любезности по адресу Абазы были вставлены по совету Дмитриева, который говорил, что ему непременно надобно сказать несколько приятных слов, чтобы чего-нибудь от него добиться. Но это было совершенно напрасно. Я получил от него следующий ответ:
«Многоуважаемый Борис Николаевич.
Извините, что за множеством дел и забот я не отвечал ранее на письмо ваше от 11 апреля.
Напрасно вы думаете, что я буду вас бранить; долго занимаясь государственными вопросами, привыкаешь относиться с уважением и к противному мнению. Поэтому не обращаю к вам заключительных слов вашего письма «что вы сами, обдумавши дело, убедитесь в необходимости более зрелого к нему отношения».
Вы пишете также о поддержке одной петербургской журналистики, между тем, я прочел в «Московских ведомостях» статью весьма дельную в смысле моего представления.
Но, конечно, это не важно, а нужно правильное обсуждение и решение крупного вопроса в установленном у нас законодательном порядке. В этом отношении могу вам сообщить, что сегодня в общем собрании Государственного совета дело прошло, хотя и не без разногласия. А. А. Тимашев, соглашаясь со всем представлением, настаивал только на вопросе о 20 %. При собирании голосов он остался один. Его ли признавать вожаком множества разумных и либеральных людей, о которых вы упоминаете?
Душевно преданный А. Абаза.
27 апреля 1881 г.».
Это письмо я получил в Кирсанове на экстренном земском собрании, и в то же время был получен знаменитый манифест о само-Державин, который всех нас привел в недоумение. Кто в эту минуту думал посягать на самодержавие? и что означал этот манифест? Для России это оставалось тайною. Даже я, несколько посвященный в петербургские закулисные интриги, не мог объяснить себе этого шага. Я догадывался только, что это какой-то камуфлет, направленный против Лорис-Меликова. Не зная в чем дело, я отвечал Абазе:
«Получил я ваше письмо, многоуважаемый Александр Аггеевич. Не могу скрыть от вас, что оно произвело на меня грустное впечатление. Я искал возможности сойтись, и когда писал вам: «бей, но слушай», то хотел этим сказать: «оставимте в стороне все, что может перенести вопрос на личную почву и будемте говорить о пользе отечества». Когда же я выразил надежду, что вы сами, может быть, убедитесь в необходимости более зрелого обсуждения вопроса, то в этом высказывалось только желание прийти к соглашению на основании всестороннего суждения не в среде одной петербургской бюрократии, а совокупно с людьми, заинтересованными в деле и могущими иметь в нем голос. Я полагал, что вы сочувствуете этому направлению, и некоторые из нас охотно бы видели вас в его главе. Вместо того вы нам указываете, как на вожака, на единственного человека, который в Государственном совете поддерживал необходимость вознаградить помещиков полностью, а не со скидкою 20 %. Что я вам на это скажу? Вы знаете, Александр Аггеевич, что для того, чтобы быть вожаком, недостаточно быть министром, генерал-адъютантом или действительным тайным советником; в настоящее время для массы публики, это скорее служит препятствием. Нужны качества совершенно иного рода; поэтому я и обращался к вам, а не к другому. И если во всем составе Государственного совета, только один человек, который никогда не может быть вожаком земских людей, остановился на мысли, что принудительное отнятие частной собственности государством, без должного вознаграждения, есть конфискация, и что конфискация, всегда неуместная в правильном государственном порядке, менее всего может быть допущена в такое время, когда идет борьба с социализмом, то это доказывает только то, в чем мы с вами, к счастью, сходимся, именно необходимость радикального обновления Государственного совета приобщением к нему свежих элементов, без содействия которых правильное и всестороннее обсуждение государственных вопросов представляется едва ли возможным. Но это доказывает, вместе с тем, и другое, в чем мы, к сожалению, с вами расходимся, именно, что без содействия этих элементов нельзя проводить подобные меры. Мы, земские люди, близко знающие земскую практику, и некоторым из которых вы, может быть, не откажете и в более обширном знании государственных вопросов, мы вправе желать, чтобы в делах, касающихся существенных наших интересов, наш голос был услышан. Без этого, вместо желанного единения правительства с обществом, произойдет только больший разлад. В настоящее нремя голос имеют только петербургская бюрократия и журналистика. Ни той, ни другой мы не доверяем, а потому все более отчуждаемся от правительства. Вашего содействия в устранении этого зла, вот чего мы вправе были от вас ожидать. И зная вас, я все-таки не теряю надежды когда-нибудь стоять с вами в одних рядах, хотя мы и можем расходиться в отдельных вопросах.
Душевно преданный Б. Чичерин. 8 мая 1881 г.»
Это письмо не застало уже Абазы министром. Вследствие манифеста и он и Лорис-Меликов подали в отставку. Вслед за ними вышел и Милютин. Я после узнал, как все это совершилось. Государь опять созвал министров на совещание с тем, чтобы решить, что следует делать при настоящих обстоятельствах. Но полномочный диктатор не выработал никакой программы; никто из министров не был приготовлен к вопросу, и когда принялись высказывать мнения, все пошли, кто в лес, кто по дрова. Решения опять не было принято никакого. Тогда государь сказал им, чтобы они совещались между собою и пришли к какому-нибудь решению. Несколько времени спустя сановники собрались, как вдруг перед открытием заседания министр юстиции вынул из кармана присланный ему для напечатания манифест. Все присутствующие были поражены, как громом, ибо никто ничего о нем не ведал, исключая Победоносцева, который его писал. Дмитрий Алексеевич Милютин с юмором рассказывал мне эту сцену: как все накинулись на Победоносцева, требуя объяснения, и как он, растерянный и прижатый к стене, извинялся тем, что государь за ним прислал и велел написать манифест, а он только исполнил приказание и больше ничего не знает. Игнатьев тоже притворился удивленным, хотя он, кажется, был внушителем всего дела. Государь, не имея духа прямо объясниться с своими министрами, прибегнул к этой уловке, которая всех поразила неожиданностью, а Россию привела в полное недоумение. Рассказывали, что одною из главных причин гнева государя на Лорис-Меликова было неисполнение его приказаний. В это время произошло побиение жидов в Киеве. Государь велел тотчас телеграфировать Дрентельну, чтобы он употребил военную силу; но Лорис, который всего более боялся за свою популярность, задержал телеграмму и едва ли даже не послал инструкций в ином смысле. Как бы то ни было, он тотчас понял, что манифест направлен против него и подал в отставку. Абаза с шумом вышел вместе с ним, несмотря на выраженное государем желание, чтобы он остался. Удар самолюбию был так силен, что на этот раз его покинула даже обычная осторожность. Скоро, однако, он получил положение, которое, сохраняя за ним полное влияние в финансовой сфере, гораздо более соответствовало его наклонное-ти к лени. Он сделался председателем департамента экономии в Государственном совете. Заменивший его министр финансов, бывший при нем товарищем, Бунге следовал всем его внушениям, сам не имея ни малейшей устойчивости или инициативы. Это была утлая ладья, созданная для маленького пруда и пущенная в безбрежное море петербургских дел и интриг. Отличных душевных свойств, с основательными сведениями, но лишенный всякого характера и непривыкший вращаться в высших политических сферах, он двигался туда, куда его толкали. Приверженец свободы торговли и честный человек, он под давлением Абазы вводил покровительственную систему и приносил казенные деньги и народные интересы в жертву сахароварам, которые обогащались безмерно. Что касается до Лорис-Меликова, то он понял, что роль его кончена, и уехал за границу, услаждаясь мыслью, что он остался популярнейшим человеком в России. Милютин также удалился в Крым, чтобы там наслаждаться свободой и покоем, подальше от опротивевших ему петербургских сфер. Он мог, по чувству долга, оставаться в этой среде, пока на нем лежало бремя военного управления, но быть свидетелем всех творящихся там гадостей было ему вовсе не по вкусу.
Узнавши из газет об отставке Лорис-Меликова и Абазы, я писал Победоносцеву:
«Если бы все эти непереваренные преобразовательные планы (о переустройстве уездного управления), а вместе с ними и прошедшие уже через Государственный совет общие меры по крестьянскому вопросу канули в воду, то нельзя было бы не признать пользы происшедшего в правительстве поворота; но не могу скрыть от вас, что способ действия, насколько он мне известен, неспособен внушить доверия. Переговорим об этом с вами при свидании. Теперь же скажу вам одно: в настоящее время, более чем когда-либо, правительству необходимо доверие общества, между тем, в виду совершающихся перемен, Россия остается в полном недоумении. Перед нею происходит какая-то игра, в которой она ровно ничего не понимает. В Кирсанове, во время земского собрания, был получен манифест, и все спрашивали: что это значит? кто посягал на самодержавие? Внутри России об этом нет и вопроса. Для кого же пишутся манифесты? для посвященных в петербургские таинства? Все это убеждает меня еще более в необходимости приобщения к правительству земских элементов. Мне пишут из Петербурга, что в Государственном совете, при обсуждении обязательного выкупа, один Тимашев стоял за вознаграждение помещиков полностью. Неужели во всем составе этого собрания один только человек догадался, что скидка 20 % есть конфискация, всего менее уместная, когда идет борьба с социализмом? С одними бюрократическими силами, любезнейший К. П., вы с своею задачей не справитесь. На бумаге будет сосредоточение власти, а на деле будет, как уже ныне есть, полное отсутствие власти; на бумаге будут платонические воззвания к обществу, а на деле будет все большее и большее разъединение. Когда же я в грустные минуты размышляю о возможных последствиях недавнего переворота, то мне представляются война, банкротство и затем конституция, дарованная совершенно неприготовленному к ней обществу. Дай бог, чтобы мои предчувствия не сбылись».
В то же время я писал баронессе Раден:
«Пишу Вам из деревни, куда новости приходят так медленно, что мы только два дня тому назад узнали о великих переменах, произошедших в Петербурге. Итак, оказывается, что сказанное мною известной Вам даме осуществилось. Я впрочем лично предупреждал Абазу. Я писал ему из Москвы в стиле Фемистокла. «Бей, но слушай! С принятою Вами диспозицией Вы проиграете Саламинское сражение…» И сражение проиграно для них и через них, а я – признаюсь – не особенно об этом сожалею, ибо под влиянием господ Домонтовича и компании они увлекли бы нас на путь социального переустройства, которое оказалось бы роковым для страны. Надеюсь, что преемники их не пойдут по тому же ложному пути, но я совершенно убежден, что находящимися в их руках средствами и орудиями и они не сделают ничего путного. Во-первых, печально то, что битва была выиграна не в правильном сражении, но нанесенным в тыл ударом. Я жалею, что наш общий друг[142]142
«Общий друг» – имеется в виду Победоносцев.
[Закрыть] дал вовлечь себя в подобные махинации. Только следуя по совершенно прямому пути, правительство может заслужить доверие. Как они не видят того, что, эти тайные происки компрометируют самый принцип, который они хотят поддерживать? Нельзя требовать от нашего друга, чтобы он заставил правительство держаться твердой политики, ибо это не в его характере; но можно требовать, чтобы он никогда не давал других советов, кроме абсолютно честных. К несчастию я начинаю думать, что его можно повести куда угодно, и чем меньше у людей добросовестности, тем легче это им будет сделать. В результате страна ничего не понимает. Читают манифест, обращенный ко всем, но никто, за исключением тех, кто посвящен в происходящее за кулисами, не знает, против кого и против чего он направлен. А еще хуже то, что замкнутая бюрократическая сфера, составляющая правительство, все более и более суживается, и что, в конце концов, немногие лица, всем руководящие, останутся совершенно изолированными. В этих условиях как не пойти ко дну?.. Ну, поживем, – увидим, но будьте уверены, что ничего хорошего мы не увидим, если не обратятся к живым силам страны»[143]143
В подлиннике по-французски.
[Закрыть].









































