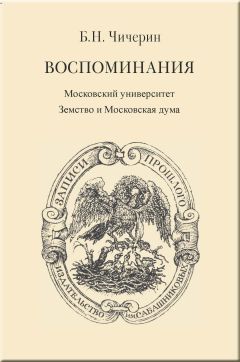
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)
Иное дело, если бы земство стало собирать деньги посредством податей и выдавать их взаймы за низкие проценты. К этой именно системе приходят защитники дешевого кредита. Но такой способ действия нельзя назвать иначе, как злоупотреблением земского права. Это значит насильственно брать собственность у одних, с тем, чтобы выдавать ее в ссуду другим по уменьшенной цене. Заемщикам делается подарок на счет плательщиков».
«По всем этим причинам, – заключали мы, – комиссия не может признать проект учреждения земского банка, или кассы для поземельного кредита, приложимым к нашей губернии. Нельзя не согласиться, что положение крестьян, находящихся на третном или четвертном наделе, во многих случаях весьма печально; но этому злу не поможет покупка дорогих земель на чужие деньги, занятые по высоким процентам людьми, едва имеющими насущное пропитание. Подспорьем в этих случаях служат сторонние заработки или наем земель. Пользуясь этими средствами, с помощью трудолюбия, крестьяне, находящиеся на даровом наделе, в некоторых местах достигли значительного благосостояния. Там же, где эти средства оказываются недостаточными, остается крайнее прибежище нужды – выселение. Крестьяне могут продать свои земли и свой скот и с помощью приобретенного этим путем капитала искать себе выгодных мест. В России необработанных пространств много, и недостатка в них не может быть. Однако и этим средством надобно пользоваться крайне осторожно. Без сомнения, свободному человеку нельзя помешать уйти туда, где ему выгоднее жить. Это его право, и в этом состоит, вместе с тем, и требование общественной пользы, которая достигается наиболее выгодным для народонаселения размещением рабочих сил. Но иное дело свобода, иное дело искусственное содействие переселенцам. В последнем случае нельзя не настаивать на необходимости величайшей осмотрительности. Правительство может и должно ограждать переселяющихся от разорения, доставляя им возможность получать точные сведения о свободных землях, которые они могут приобрести. Но идти далее того, поощрять переселение вызовами, пособиями и льготами, было бы опасно. Может быть, следовало что-нибудь сделать для безземельных, но точных данных на этот счет не имеется, и никакой общей меры советовать нельзя. В свободном обществе, не государство и не земство должны распределять промышленные силы; они распределяются сами собою, свободным передвижением. Искусственные же меры приносят более вреда, нежели пользы.
Вообще, надобно сказать, что наш земледельческий быт находится в настоящее время в переходном состоянии. Ни способы обработки земли, ни покупные и арендные цены, ни заработная плата не установились прочным образом, так что трудно сделать надлежащий хозяйственный расчет на более или менее продолжительное время. Причины кроются отчасти в переходе от крепостного труда к свободному, отчасти в необходимости перейти от экстенсивного хозяйства к интенсивному, наконец в колебаниях цен и в неустойчивости монетной единицы. С падением курса на металлический рубль, все должно подниматься в цене; но это поднятие происходит неравномерно. В особенности заработная плата нередко остается позади. Если бы случилось новое понижение, то произошло бы новое замешательство, неизбежно сопряженное с страданиями и потерями. При такой неопределенности, всякие общие меры представляются преждевременными. Иначе можно переходное явление принять за постоянное и нанести зло, которое потом трудно исправить».
Земское собрание согласилось с заключениями комиссии и отклонило проект земского банка. Но вскоре, как известно, само правительство создало это филантропическое учреждение, которое, однако, имело весьма печальный исход. Много крестьян разорилось покупкою земель, иные даже после нескольких взносов прекратили платежи, считая их для себя невыгодными. На руках банка осталось громадное количество земель, с которыми он не знал, что делать. Наконец, он принужден был по возможности сокращать ссуды и превратился почти что в номинальное заемное учреждение. Теперь идет речь о радикальном его преобразовании.
Но этим благотворительный кредит не ограничился. Вслед за тем создано было другое подобное же учреждение, только в пользу другого сословия. В направлении правительства внезапно совершился перелом: за крестьянскою эрою последовала эра дворянская. И наверху и внизу начали хлопотать о поддержании дворянского землевладения, которое само никак не умело поддерживаться. С этою целью учрежден был Дворянский банк. Помещикам не только давались ссуды по весьма низким процентам, но им прямо делались неожиданные подарки, за исключением тех лиц, которые были закабалены в Обществе взаимного поземельного кредита: они почему-то остались париями. Скоро, однако, и этот благотворительный банк пришел к невозможности продолжать свои дела. Чтобы поддержать его, пришлось прибегнуть к безнравственному средству лотерейного Займа. И благородное российское дворянство в восторженных и раболепных выражениях подавало благодарственные адреса. За то, что ему путем развращения народа кидали грошевую подачку. Вот, до чего мы дожили, чего же нам ожидать впереди.
К счастью земство от всего этого осталось в стороне; на него только безвинно сыпались удар за ударом.
По окончании земского собрания я поехал в Москву с целью печатать вторую часть моего сочинения «Собственность и государство».[147]147
I ч. книги Чичерина «Собственность и государство» вышла в 1882 г. в Москве, II часть – в 1883 г.
[Закрыть] Я все лето и осень усердно над ним работал и перед самым отъездом из деревни привел его к концу. Теперь надлежало издать его в свет. Но тут я неожиданно был призван к деятельности на совершенно новом для меня поприще.
Служба Московским городским головой
Я приехал в Москву 17 декабря[148]148
1881 г.
[Закрыть]. В тот же день я виделся с Щербатовым. Мы толковали о земских делах, об общем положении, о замешательствах в Московской городской думе, где Щербатов состоял гласным. Перед тем, вследствие бурного заседания по вопросу о Сокольничьей роще, городской голова Третьяков подал в отставку и уехал за границу. Кого выберут на его место, нельзя было угадать, кандидатов не было в виду.
На следующее утро Щербатов приехал ко мне. «А я к тебе с неожиданным предложением, – сказал он. – Тебя прочат в московские городские головы; согласен ли ты идти?».
Оказалось, что накануне, один из старейших и влиятельнейших членов Думы, купец Аксенов, приехал совещаться о выборах с Дмитрием Самариным, который тоже был гласным и пользовался в Думе большим уважением. Они перебирали разные лица, и все оказывались непригодными. Из купцов не было ни одного, который имел бы достаточный авторитет, чтобы совладеть с довольно трудным в то время положением, а из дворян не на ком было остановиться. Наконец, Самарин назвал меня. «Да чего же лучше, – сказал Аксенов, – нечего больше искать». И с этим предложением он отправился к Щербатову. Последнему эта комбинация не приходила даже в голову, так далеко я стоял от Думы, но с радостью ухватился за эту мысль.
Аксенова я знал уже прежде. В 1868 году, перед моим выходом из университета, мне случилось быть с ним вместе присяжным. Мы две недели сидели в суде, часто беседовали, даже ночевали в одной комнате. Обоюдное впечатление было самое благоприятное. Аксенов был отличный человек, тихий, благочестивый, но с характером, нечто в роде патриарха между купцами, притом с образованными и умеренно либеральными стремлениями. Для себя он ничего не искал, но во всех думских делах ему поручались переговоры и улаживание столкновений.
Я ни на минуту не колебался принять предложение. Я был свободный человек; предпринятый мною ученый труд был кончен, и я мог располагать своим временем. Знакомство с земскими делами давало мне основание предполагать, что я справлюсь и с городскими. К тому же испробовать свои силы на таком поприще было лестно. Можно сказать, что это была самая видная выборная должность в России, должность, облеченная доверием, независимая и почетная. Как общественная деятельность, я большего ничего не желал.
Выборы назначены были в конце декабря, а мне надобно было еще приобрести ценз, которого у меня не было. Все это было устроено в миг. В один день найдена была земля, с стоявшим на ней ветхим домиком; друзья снабдили меня деньгами. Затруднение состояло в совершении купчей, так как перед рождеством наступили уже каникулы, и Окружной суд более не заседал. Но судьи согласились собраться на экстренное заседание специально для этого дела, и все было улажено.
Перед выборами устроено было несколько частных совещаний, на которые сзывались все сколько-нибудь выдающиеся гласные. Первое собрание происходило на дому у Щербатова. Но он в это время был болен, нервен и собирался с семьей за границу. Его отъезд даже поторопили, потому что он слишком волновался этим выбором и горячо принимал к сердцу мельчайшие инциденты. Он передал ведение дела Дмитрию Самарину, у которого было второе совещание. Моя кандидатура обсуждалась со всех сторон. Сильно поддержали меня члены Биржевого комитета, Бакланов и Санин, которые участвовали со мною в Барановской комиссии и видели мою работу; поддерживал и председатель Мирового съезда Греков близкий приятель Станкевичей, человек отличный во всех отношениях, а также гласные Герье и Черинов, профессора Московского университета и мои друзья.
Но и незнакомые мне люди старались добывать сведения, которые оказывались благоприятными. Один из дельных членов Думы, купец Шилов, заявил на собрании, что он справлялся обо мне у знакомого ему председателя одной из тамбовских уездных управ, и тот сказал, что если я пойду, то это будет для Москвы приобретение. Он предложил дать адрес этого господина всякому, кто захочет проверить эту справку. Немедленно встал один гласный из мещан и записал адрес.
На предварительном заседании Думы, в котором предлагались кандидаты, я по запискам получил 93 голоса. Против меня были некоторые радикалы, как то: Скворцов, редактор «Русских ведомостей», Плевако, Ланин и другие, которые видели во мне крайнего консерватора. В печати против меня высказался Гиляров, редактор «Современных известий». Но все эти господа имели мало влияния. На выборах я получил 101 избирательных и 56 неизбирательных шаров. Единственным, впрочем, не серьезным конкурентом был разорившийся аферист Пороховщиков[149]149
Победоносцев в письмах к Александру III, в бытность его наследником (1876 г.), и к Николаю II (1895 г.) тоже отзывается об А. А. Пороховщикове, как об «известном в Москве прожектере, спекулянте и человеке весьма сомнительной репутации».
[Закрыть], который получил 34 голоса. Вторым кандидатом, в сущности только для формы, выбран был Василий Дмитриевич Аксенов.
Утверждение последовало уже во второй половине января. В промежуток случился инцидент, который с самого начала поставил меня в хорошие отношения с столичною властью. Генерал-губернатор, в силу предоставленных ему чрезвычайных полномочий, издал обязательные постановления о дежурстве дворников и об освещении дворов. Эти правила, обременительные для домовладельцев, строго говоря, имели весьма отдаленное отношение к преследованию и предупреждению политических преступлений, в виду которых введено было Положение об охране. Об этом возбуждены были прения в заседании Думы, происходившем под председательством товарища головы Сумбула. Вопрос поднял член Судебной палаты Охлябинин, человек высокой души, независимый и благородный, но не отличавшийся осторожностью. Он оспаривал не только уместность и пользу, но и самую законность этих постановлений. Его поддержал Герье. Дума решила просить генерал-губернатора об отмене этих постановлений, как слишком обременительных для домовладельцев, и вместе обратиться к высшей власти за точным разъяснением прав, предоставленных генерал-губернатору Положением об охране. Не будучи гласным, я сидел в публике, но откровенно высказал свои впечатления. Мне казалось, что при обширности полномочий, данных генерал губернатору, оспаривать законность его распоряжений было невозможно, а требование разъяснений ни к чему не вело: если хотели добиться отмены новых постановлений, то надобно было действовать иным путем, не восстановляя против себя лицо, их издавшее. Мое суждение, которое немедленно же было передано по принадлежности, расположило князя Долгорукого в мою пользу, а постановление Думы, напротив, поставило его на дыбы, так что на первых порах от него ничего нельзя было добиться. Уже впоследствии, как я расскажу ниже, мне удалось склонить его на уступку.
Уведомление о моем утверждении было препровождено мне официальным путем через генерал-губернатора; но при этом Игнатьев прислал мне лично телеграмму с поздравлением и пожеланием полного успеха в новой деятельности. Как только я получил официальную бумагу, я собрал думу. Гласные были почти в полном составе; публики было множество. Это было событие в московской жизни. Я открыл заседание следующею речью:
«Милостивые государи. Прежде, нежели я открою заседание, позвольте мне сказать несколько слов. Прошу извинения в том, что мне придется отчасти говорить о себе; надеюсь, что это будет в первый и последний раз. Говорить о себе и неловко и неприятно. Но в настоящую минуту я чувствую в этом потребность, ибо вам угодно было призвать на эту почетную должность человека стороннего, никогда не принимавшего участия в делах Московского городского управления, человека, большинству из вас лично совершенно незнакомого.
Многие, пожалуй, могут даже не считать меня москвичом. И точно, я родился в провинции; я все свое детство провел в провинции; там мой семейный и имущественный центр: там я принимал более или менее деятельное участие в делах земства. Куда бы ни поставила меня судьба или доверие моих сограждан, я родной своей Тамбовской губернии всегда буду верен. Но это самое делает мое положение в некотором отношении выгодным. Я позволю себе по этому поводу припомнить черту из истории средневековых городов. Многие вольные города, из самых значительных, имели обычай призывать своих городских голов из чужих городов. Почему они это делали? Не потому, что у них не было достойнейших граждан, которым могли быть вверены общественные дела, а потому что они думали в этом найти большие гарантии беспристрастия. Если вы, м.м. г.г., обратив на меня свое внимание, искали человека, который, стоя поодаль от внутренних партий, поставил бы себе высшею целью соблюдение справедливости, то я постараюсь сделать так, чтобы вы не ошиблись в своем расчете. Я не боюсь это сказать, ибо есть нравственные начала, которые каждый человек обязан носить в своей душе, и когда он их сознает, он не должен бояться высказывать их, как основные правила своей деятельности.
Однако, м.м. г.г., когда я настоящий выбор сравнил с тем, что происходило в средневековых городах, то я не хотел этим сказать, что связь Москвы с русскою провинцией такая же, какая существовала некогда между вольными городами. Те были независимые друг от друга державные общины; Москва же для русской провинции составляет центр, куда стекаются все силы, и где они получают свою духовную пищу. Москве не чуждо ничто русское, ибо Москва, это не только город с несколькими сотнями тысяч жителей; она не ограничена в своих выборах пределами столицы. Вы доказали, что вы шире понимаете свое призвание. Москва, это все, что думает и чувствует в России и за Россию; Москве принадлежит всякий, в ком бьется русское сердце.
Мы, уроженцы внутренних губерний, живо чувствуем эту связь. И я, м.м. г.г., хотя я родом не москвич, но я связан с Москвою всею своею жизнью, и умственно и сердечно. В Москве зародилась и протекла вся моя умственная жизнь. Я учился в Московском университете, и этого времени я никогда не забуду. Я семь лет служил Московскому университету. Москве я обязан всем своим умственным достоянием, и это я считаю для себя великим счастием, ибо только в умственной жизни Москвы можно обрести те крепкие основы, то верное понимание смысла русской истории, то чутье истинных потребностей народной жизни, которые предохраняют от легкомысленных увлечений и от слепого следования за мимолетными авторитетами.
Я связан с Москвою и сердечно. В течение моего многолетнего жительства в здешней столице я обрел в ней лучших своих друзей, и между ними не могу не упомянуть об одном, с которым меня связывает тесная 35-летняя дружба с самой студенческой скамьи, и чье доброе и благородное имя так высоко стоит в летописях Московского городского самоуправления. Я счастлив тем, что мне довелось быть одним из его преемников, и я не могу не выразить сожаление, что его в настоящее время нет среди нас.
Ныне связь моя с Москвою сделалась еще теснее. Сделав меня своим городским головою, Москва как бы меня усыновила, признала меня своим, и это налагает на меня двойную обязанность служить ей всеми своими силами и способностями. Но здесь, м.м. г.г., я чувствую всю свою недостаточность. До сих пор моя жизнь была посвящена главным образом умственной работе. Если я в течение тринадцати лет принимал участие в делах земства, если нашему земству угодно было возлагать на меня даже сложные и важные практические поручения, если я участвовал в железнодорожных комиссиях, то что же все это в сравнении с теми громадными практическими интересами, которыми приходится заведовать в настоящее время. Я вполне сознаю, что для этого нужно несравненно более опытности, нежели та, которою я обладаю. Поэтому я прошу снисхождения к невольным ошибкам. Я прошу более, нежели снисхождения: я прошу содействия и помощи.
Здесь, м.м. г.г., позвольте мне высказать, как я понимаю отношение Думы к Управе. Дума – хозяин города; Управа – ее уполномоченный. Поэтому нам, м.м. г.г., принадлежит прежде всего указание целей, а затем контроль над городским управлением. Этот контроль должен быть полный, всесторонний, вникающий во все подробности. Если я просил снисхождения, то это не значит, что я прошу закрывать глаза на мои ошибки. Напротив, только указанием ошибок они исправляются, и я смею уверить, что всякое добросовестное указание будет принято с должною благодарностью. Но для того, чтобы указания принесли настоящую пользу, надобно чтобы они были не отрывочны и случайны, а соображены со всем положением дела. Это лучше всего достигается ежегодными подробными ревизиями всего общественного хозяйства. Моя земская опытность привела меня к убеждению, что весьма часто ревизионными комиссиями дается толчок общественному делу, тогда как без этого Управа, занятая ежедневными текущими делами, легко может погрузиться в рутину. Я буду просить ежегодных ревизий и утверждений отчетов.
Но мало контроля, нужно еще содействие. Самоуправление, м.м. г.г., как я его понимаю, не состоит только в том, чтобы выбрать несколько человек, поручить им дела, и смотреть за тем, чтобы они не уклонялись от своих обязанностей. Самоуправление есть самодеятельность. Оно требует живого участия всех общественных сил. Без этого опять-таки всякий исполнительный орган легко может впасть в бюрократический формализм. Нет сомнения, что каждый из вас имеет свои частные дела, от которых трудно оторваться. Но общество вправе ожидать от своих членов, чтобы они часть своего досуга, а когда нужно, и своего рабочего времени, посвящали общественному делу. Без этого оно не пойдет. Задача же лица, поставленного во главе управления, состоит в том, чтобы воспользоваться этими силами, приготовить для них материал, сделаться для них средоточием. Он должен стараться устранять те мелкие пререкания, те личные столкновения, которые неизбежны везде, где люди сходятся для совокупного дела, но которые, повторяясь, роняют достоинство учреждения и умаляют значение его в глазах народа. Он должен стараться вывести общественные вопросы из низменной области личных интересов и самолюбий и поставить их на ту высоту, где имеется в виду интерес общий, который один может быть связующим началом плодотворной общественной деятельности.
Я не стану излагать вам подробности того, что нам предстоит делать в этом направлении. Если бы я, чуждый доселе Московскому городскому управлению, не успевши еще познакомиться порядком с его делами, вздумал выступить перед вами с готовою программою, вы, без сомнения, сочли бы меня весьма опрометчивым, а это – такое нарекание, которого я не желаю заслужить. Скажу только, что я постараюсь обратить особенное внимание на те вопросы, которые, по-видимому, составляют больные места нашего общественного управления, а именно: 1) на потребность организации Думы и Управы, которые доселе не имеют ни регламента, ни инструкций, и 2) на финансовое положение города: когда представляется смета с 1200 000 дефицита, то об этом надобно подумать.
Но ограничиваясь этими замечаниями на счет наших внутренних дел, я не могу не сказать несколько слов о другой, весьма важной стороне городского управления, именно о том, что можно назвать внешними сношениями. Хотя закон говорит, что городское общество в предоставленных ему пределах действует самостоятельно, однако вы все знаете, что эти пределы весьма растяжимы, и что внутри этой черты есть поводы к бесчисленным столкновениям и пререканиям. Городское общество не самостоятельная держава, которая все свои внутренние дела может решать по своему усмотрению. Городское общество есть член государственного организма, высшим же выражением этого организма является правительственная власть, которой мы, по этому самому, силою вещей подчинены. В какое же мы станем к ней отношение?
И тут, м.м. г.г., позвольте мне высказаться с полною откровенностью. Я желаю, чтобы вы знали, чего от меня можно и чего нельзя ожидать.
По своему характеру, по своим убеждениям, я не человек оппозиции. Я держусь охранительных начал, не в том, конечно, смысле, в каком нередко принимается у нас это выражение, которое выставляется каким-то пугалом, означающим врагов всякого улучшения, а в том смысле, какой может придавать ему разумный человек, любящий свободу, но понимающий необходимость чего-нибудь прочного в жизни. Я приверженец охранительных начал в том смысле, что я глубоко и живо чувствую потребность власти и порядка. Я вижу в этом завет всей русской истории и существеннейшую нужду настоящего смутного времени. Поэтому я всегда готов буду идти рука об руку с властью.
Но идти рука об руку с властью не значит поступаться своими правами, а еще менее отрекаться от независимости своих суждений. Человек с самостоятельным образом мыслей дает свое содействие не иначе как сознательно и свободно. Я уверен, что в интересах самой власти встречать перед собою не страдательные только орудия, а живые, независимые силы, которые одни могут дать ей надлежащую поддержку, ибо тот, кто способен стоять за себя, может быть опорою для других. Поэтому нет хуже политики, как та, которая стремится сломать всякое сопротивление. Действуя таким образом, власть воображает иногда, что она увеличивает свою силу, а между тем, она подрывает собственные основы, и в минуты невзгоды она слишком поздно видит перед собою лишь надломленные орудия или встречает глухую оппозицию, способную произвести брожение, но неспособную ничего создать.
К счастью, пора такой политики миновала для России. Великими преобразованиями прошедшего царствования по всей русской земле вызваны к жизни самостоятельные силы; на этой почве мы можем твердо стоять. Но к общей скорби всех русских людей, глубоко запавшая нравственная болезнь, которая проявляется в страшных злодеяниях, остановила Россию в правильном ее гражданском развитии. Мы живем в трудное время, где приходится бороться с внутренними врагами, и это налагает на нас обязанность быть вдвойне осторожными в своих действиях. Мы должны обдумывать каждый свой шаг, дабы не поколебать и без того обуреваемую враждебными стихиями власть. Не покидая созданной для нас почвы права, мы должны стараться соблюдать счастливую середину между старыми привычками безусловной покорности и новыми стремлениями к безотчетной оппозиции, в чем, впрочем, нам не предстоит быть начинателями: нам нужно только держаться тех преданий независимой стойкости, соединенной с должным уважением к власти, которые утвердились в Московском городском управлении с самого начала преобразования его на новых либеральных началах. Прежде же всего, будем постоянно помнить, что русское государство в настоящее время находится не в нормальных условиях, и что только согласным действием правительства и общества мы можем победить гнетущий нас недуг и приготовить для своего отечества более светлое будущее. Я убежден, м.м. г.г, что, действуя так, мы ничего не проиграем. Напротив, только этим мы подвинем вперед общественное дело. И придет время, когда само правительство, видя в нас не элементы брожения, а охрану порядка почувствует потребность расширить тесный круг местного самоуправления и ввести общественное начало в общий строй русской государственной жизни. Не торопить раздражительно это время, не выступать вперед с неумеренными или несвоевременными требованиями или с притязаниями, выходящими из пределов предоставленного нам круга деятельности, а с доверием ожидать решений верховной власти и показать себя достойными своего высокого призвания дружною деятельностью на общественную пользу, – такова, по моему мнению, должна быть наша политика. На этом пути, м.м. г.г., вы найдете меня всегда готовым посвятить все, что у меня есть сил и умения, не только на служение Московскому городскому самоуправлению, но и на поддержание того значения, которое Москва, как сосредоточие народной жизни, имеет и всегда будет иметь в истории русского общественного развития».
Речь была встречена благоприятно и в Думе и в публике. Гласные же подошли ко мне с поздравлением; некоторые с тех пор сделались моими горячими приверженцами. Дмитрий Самарин говорил мне, что у него впечатление было такое, что все было в меру. Аксаков, который сидел в зале в качестве зрителя, все время одобрительно кивал головой. Он потом писал мне: «Речь ваша была очень хороша и произвела серьезное впечатление. Даже Гиляров ею очень доволен и собирается принести перед вами свое извинение печатно». Щербатов извещал меня также из-за границы, что ему пишут из Москвы о хорошем впечатлении, произведенным этим началом.
Но не так посмотрело на дело столичное начальство. Генерал-губернатору понравилось то, что я говорил о необходимости власти и порядка, но вовсе не понравилось то, что я говорил о независимости. Все это он в печати велел выкинуть, так что речь явилась в «Московских ведомостях» совершенно обезображенною. Всем остальным газетам послано было предписание печатать ее не иначе как по цензурованному тексту.
Я узнал об этом уже в Петербурге, куда я отправился на следующий день после думского заседания. Надобно было представиться государю. Игнатьев встретил меня самым любезным образом. Я знал его уже прежде, а с семейством его жены был хорошо знаком еще с 50-х годов. Он пригласил меня на вечер и немедленно устроил аудиенцию. Государь принял меня в своем кабинете, стоя, сказал по обыкновению несколько незначащих слов, заметил только, что до сих пор никто еще не слыхал, чтобы хозяйство Москвы было с дефицитом.
Между тем, из Москвы Аксаков, которому я сообщил текст своей речи, писал мне: «Возвращаю вам вашу речь. Право, не мешало бы в Петербурге показать ее Игнатьеву и с его разрешения напечатать целиком. Не глупо ли со стороны Долгорукова компрометировать нового голову рассылкою чиновника по редакциям, чтобы не печатали речь в том виде, как она была сказана, и не дозволять печатать то, что было произнесено публично, торжественно, на всю Москву! Не говорю уже о том, что этот голова – вы, что правительство должно прежде всего радоваться тому, что нашелся человек, мужественно исповедующий уважение к принципу власти и т. п.»
Я действительно представил Игнатьеву, что я вовсе не желаю являться перед публикою не с теми мыслями, которые мне принадлежат, а с теми, которые допускаются князем Долгоруким, прибавив, что и правительству нет никакой выгоды отталкивать от себя порядочных людей, и всякого независимого человека, даже с самым консервативным образом мыслей, волею или неволею ставить в ряды оппозиции. Он совершенно с этим согласился, показал полный текст речи государю и с его разрешения написал мне следующее письмо:
«Милостивый государь, Борис Николаевич, в знак особенного внимания к вашим личным качествам и направлению, известным правительству, и к Московскому городскому обществу, я признал возможным уклониться от цензурных правил и разрешить напечатать полностью вашу речь согласно представленному вами экземпляру».
Опущен был только конец фразы, в которой говорилось, что «придет время, когда само правительство, видя в нас не элемент брожения, а охрану порядку, почувствует потребность расширить тесный круг местного самоуправления и ввести общественное начало в общий строй русской государственной жизни». Игнатьев нашел это неудобным для печати.
Этот оборот был дан с целью не оскорбить князя Долгорукого, которого распоряжение таким образом отменялось. Однако он очень рассердился за такое неуважение к его приказаниям. Но еще более разгневался Катков, который тогда уже лестью и раболепством успел снискать расположение в самых высших сферах и не допускал никакого выражения независимых мнений. Игнатьеву пришлось выдержать от него целую бурю.[150]150
Вступительная речь Чичерина в Московской городской думе была произнесена 26 января 1882 г., и уже 28 января «речь московского городского головы, хорошо сказанная и достойная внимания» была переслана Победоносцевым Александру III. (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 372). Несмотря на лестный отзыв в письме к царю, Победоносцев был недоволен речью Чичерина. 8 апреля 1882 г. он писал про него своей неизменной корреспондентке Е. Ф. Тютчевой: «Боюсь, что он скоро зарвется далеко; первые шаги его неверны и не ладны. Он начал речью, в которой изложил свое profession de foi [символ веры], и поместил в ней фразы, по моему мнению, неловкие и могущие иметь двоякий смысл для слушателей. Я ему сказал, что если бы видел его до произнесения речи, посоветовал бы ему выпустить эти фразы. Кн. Долгорукий вымарал их в печати. Здесь Чичерин настаивал, чтобы разрешили напечатать речь сполна. Ему разрешили, замарав лишь несколько строк. Теперь Долгоруков считает себя обиженным и, конечно, озлоблен на Чичерина».
[Закрыть]
Вернувшись в Москву, я принялся за совершенно незнакомую мне дотоле административную деятельность.
Московское городское самоуправление находилось в то время во второй фазе своего всесословного развития. Городовое Положение 1862 года[151]151
20 марта 1862 г. в Москве было введено Городовое положение, по образцу петербургского Положения 16 февраля 1846 г. По Положению 1862 г. Московская городская дума делилась на пять обособленных отделений по сословиям: в первое входили потомственные дворяне, во второе – дворяне личные и потомственные почетные граждане, в третье – гильдейское купечество, в четвертое – ремесленники и в пятое – мещане. Такая организация городского управления, дававшая значительную долю власти в городе дворянству, не могла удовлетворить буржуазию. 17 июня 1870 г. было опубликовано новое Городовое положение, которым вводилась куриальная система, основанная на цензе, по которой избиратели распределялись без разделения по сословиям на три курии по размерам уплачиваемых ими налогов, причем каждая курия избирала равное количество гласных. Иначе говоря, небольшая по числу участников курия крупных плательщиков, включавшая 2,2 % избирателей, назначала столько же гласных, сколько и многолюдная курия мелких плательщиков (87,1 % избирателей). Таким образом, Положение 1870 г. отдавало город всецело в руки крупной буржуазии.
[Закрыть], отменив прежние, чисто сословные порядки, образовало Думу из выборных от пяти сословий, входивших в состав городских обывателей: от дворян потомственных, дворян личных, купцов, мещан и цеховых. Каждое из них имело равное с другими число представителей, чем самым давался некоторый перевес дворянству, за которым охотно следовали другие сословия, тогда как в отношении к купцам они составляли некоторого рода оппозицию.
Я сказал уже, что первым всесословным городским головой был мой старый друг, князь Александр Алексеевич Щербатов, который не только практически умел поставить управление на надлежащую ногу, но своею симпатическою натурою способен был вдохновлять городское общество, сообщая гласным воодушевлявший его благородный жар к общественному делу Это было, бесспорно, лучшее время Московского городского управления, время юности и надежд. После шестилетней неутомимой работы, Щербатов почувствовал потребность отдыха. Он вышел, нашедши себе достойного преемника в князе Черкасском, который, хотя и не умел возбудить к себе всеобщее сочувствие, как его предшественник, но был человек с высшим умом, с громадною энергией, с благородными стремлениями, способный администратор. Для Москвы это был клад; но он пробыл всего два года. В 1871 г. он вышел, частью потому, что сам несколько тяготился мелкими городскими интересами после тех крупных государственных дел, которыми он призван был орудовать, частью вследствие поданного им адреса, который встречен был неблагосклонно со стороны государя. Говоря выше о Черкасском[152]152
См. т. 1 настоящего издания «Литературное движение в начале нового царствования» с. 333 -334
[Закрыть], я уже сказал, что после долгого сопротивления адресу, на котором настаивали все, он наконец уступил, но решился не ограничиваться пошлою фразеологиею официальных документов, а воспользоваться случаем, чтобы высказаться в пользу расширения внутренней свободы. Он сумел даже убедить генерал-губернатора, что государь с восторгом примет этот адрес. Тот ожидал себе похвал, как вдруг последовала страшная нахлобучка. Князь Долгорукий сам рассказывал мне, что у него уже были уложены чемоданы, и что только благодаря заступничеству императрицы он остался на месте. С тех пор он сделался крайне осторожным в отношении к политическим заявлениям городских голов.









































