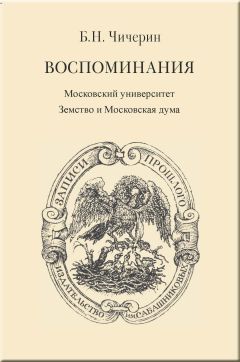
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Значительно способствовал этому исходу наш тогдашний представитель при Оттоманской Порте, генерал Игнатьев, человек весьма неглупый, пронырливый, но крайне легкомысленный. Он систематически лгал не только иностранцам, но и перед собственным своим правительством, которое он вводил в заблуждение не с каким-либо умыслом, а просто по прирожденной наклонности заменять истину фантазией. Он не распутывал, а затягивал узел. Вернувшись в Россию после порвания дипломатических сношений с Турциею, он уехал в заграничный отпуск. Казалось, что на это время, по крайней мере, он становится безвредным. Не тут-то было. Ему было формально запрещено ездить в Англию; но он представил, что ему совершенно необходимо сделать визит лорду Сольсбери, вместе с которым он был уполномоченным на Константинопольской конференции. Ему разрешили эту поездку под условием, чтобы он отнюдь не заезжал в Лондон, где в то время происходило новое совещание. Несмотря на то, он не только заехал в Лондон, но виделся с лордом Дарби, тогдашним министром иностранных дел, наговорил ему в три короба и привел его в такое смущение, что тот потребовал включения нового условия, вследствие которого и вторичная конференция не привела ни к чему. Это я знаю от людей, близко стоявших к делам.
Война была решена. Правительство было втянуто в нее, можно сказать, нехотя, само не зная, чего оно хочет и к чему стремится. Впоследствии Милютина обвиняли в том, что он с самого начала не двинул в Турцию громадного количества войск, которое могло бы одним натиском раздавить врагов. Но сделать это было не легко без своевременного приготовления, а до последней минуты были в полном недоумении относительно нашей политики. Во всяком случае войск было двинуто такое количество, которое считалось с избытком достаточным по имеющимся сведениям о военных силах Турецкой империи. К несчастью, эти сведения доставлял тот же генерал Игнатьев, который представлял все дело в виде военной прогулки. Плевна разрушила эти фантазии. После несчастного приступа 30 августа главнокомандующий хотел отступить. Милютин спас дело, настоявши на том, чтобы выписан был Тотлебен, который придал действиям совершенно другой оборот. Затем последовал победоносный переход наших войск через Балканы и полный разгром неприятеля. Мы остановились у ворот Константинополя. Вопрос состоял в том: войдем ли мы в него или нет?
Разные патриоты, разумеется, кричали, что надо водрузить крест на Святой Софии. Но русское правительство благоразумно воздержалось. Оно видело, что этим может накликать на Россию новую и на этот раз уже европейскую войну. Английский флот был в Мраморном море; заключенная перед войною конвенция с Австрией вовсе не предусматривала подобного исхода, а потому не обеспечивала нас от нападения с тыла. Удержаться на Босфоре при отсутствии флота мы не могли; выгонять турок из Европы и тем самым водворить на Балканском полуострове полнейший хаос мы не имели ни малейшего интереса. Войти же в Константинополь с тем, чтобы опять из него выйти, было таким шагом, который мог иметь самые невыгодные для нас последствия. Как в 29-м году мы остановились при Адрианополе, так теперь мы остановились перед Стамбулом. Это было единственное разумное дело с самого начала замешательств. К сожалению, для заключения мира был послан тот же неизбежный Игнатьев. Пользуясь положением турок, которые, раздавленные и потеряв всякие средства защиты, соглашались на все, он раскроил Оттоманскую империю, лишив ее почти всякой возможности существования, создал невозможную Болгарию, к которой присоединил не только Восточную Румелию, но и значительную часть Македонии, тем самым возбудил против нас и греков и сербов, а между тем военных позиций не обеспечил, так что в случае возобновления действий наш тыл оставался открытым.
Русские патриоты возликовали. Но надо было считаться с Европою. После Сан-Стефано пришлось идти в Берлин. Здесь мы разыграли не совсем завидную роль. Без толку забравши слишком много для освобожденных нами болгар, мы значительную часть завоеваний должны были уступить обратно. Однако, из собственно русских интересов ничего существенного не было принесено в жертву. От Болгарии была отделена Румелия, но, когда они несколько лет спустя соединились, мы первые восстали против этого слияния. Уступка, на которую мы согласились всего менее охотно, состояла в предоставленном Турции праве держать гарнизоны на Балканах, право, которым она никогда не воспользовалась. Тем не менее, русское общество сочло Берлинский мир позором для победителей. Аксаков публично произнес яростную речь, в которой обвинял русскую дипломатию в измене Россия. Его сослали на время в деревню, но неудовольствие не вдруг улеглось. За бессмысленным увлечением последовало столь же бессмысленное разочарование.
Я не разделял ни того ни другого. При первых замешательствах я с любопытством и даже с некоторым сочувствием следил за славянским движением. Начало народностей было выдающимся вопросом нашего времени, и я не сомневался, что рано или поздно славянские племена, подчиненные чуждым им правительствам, точно также поднимут народное знамя, как подняли его Италия и Германия. Не настала ли эта пора? Я слыхал от умных дипломатов, вовсе не причастных славянским увлечениям, как барон Будберг, что Сербии суждено разыграть роль Пиэмонта на Балканском полуострове. Потому, когда этот новый Пиэмонт, который в начале столетия так геройски отвоевал свою независимость, затеял войну против Турецкой империи, и генерал Черняев, выступив в поход, взял Бабью Гору, я с напряженным вниманием ожидал: что будет далее. Неужели он пойдет на Константинополь? Но вместо того, чтобы идти на Константинополь генерал Черняев остановился и стал обучать войска. При первом столкновении с турками вся эта ватага сербов и добровольцев рассеялась, как дым. Все это оказалось пуфом, предпринятым с целью затянуть Россию в войну. При таких условиях увлекаться движением казалось мне чистым безрассудством. Славянские племена, обитавшие Балканский полуостров, очевидно, были не в состоянии стоять на своих ногах. Россия должна была не помогать им, а все делать сама, что требовало громадных жертв, да и вовсе не было в ее интересах. С этой точки зрения я спорил с своим шурином, Дмитрием Капнистом, который гостил у нас весною 1877 года. Он был в то время советником министерства иностранных дел и хорошо знал все, что там творилось. Он сильно стоял за войну, утверждая, что нельзя найти более благоприятной минуты для разрешения Восточного вопроса согласно с нашими выгодами: Германия находится с нами в дружеских отношениях, с Австриею заключена конвенция, Франция ослаблена и не смеет двинуться, а Англия одна, без сухопутного войска, не в силах защищать Турцию. Я же возражал, что на дружбу Германии полагаться нельзя, что Англия, даже одна с своим флотом, не дозволит нам утвердиться на Босфоре, что удержаться там, не имея флота в Черном море, даже совершенно невозможно, а всякий другой результат не стоит тех жертв, которые потребует от нас эта война.
Поэтому я и Берлинский мир встретил, как единственный возможный исход из положения, в которое мы затесались зря, не зная, куда мы идем. Свои мысли об этом событии я изложил в рукописной статье, которую написал в деревне под заглавием: «Берлинский мир перед русским общественным мнением». Она была писана как раз перед появлением в печати яростной речи Аксакова и могла служить ей ответом. Приведу вкратце ее содержание.
Прежде всего я восставал против разжигаемых газетами увлечений, которые требовали войны во имя филантропии и патриотизма. Я доказывал, что проливать кровь из благотворительных целей, во имя евангелия, есть чистая нелепость, а провозглашаемое с таким треском историческое призвание России освобождать братские народы противоречит собственной ее политике в Польше: нельзя идти на освобождение одних братьев, когда держишь в цепях другого. Никто не поверит, что это делается бескорыстно. Не историческое призвание, а политические интересы двигали и движут нашею политикою на Востоке. Для нас существенно важно, в чьих руках находится ключ к Черному морю, и по географическому положению, и по племенному, и религиозному сродству, Балканский полуостров составляет естественную сферу нашего влияния. Но какого рода это влияние? Ни один здравомыслящий русский, конечно, не думает о завоевании Турции и о присвоении себе Константинополя. Это было бы не усиление, а ослабление России. Центр тяжести перенесся бы на юг, и Россия перестала бы быть Россиею. Столь же нежелательно создание мелких государств, состоящих к нам в вассальных отношениях, которые всегда непрочны и требуют значительных жертв. Все, что мы можем и должны желать, это замены Турецкой империи небольшими государствами, связанными с нами своими существенными интересами и находящими в нас опору своей независимости. Но для этого необходимо, чтобы народы Балканского полуострова были способны стоять на собственных ногах. Мы можем подать им руку помощи, а никак не брать все дело освобождения на свои плечи, что совместно только с политикою завоеваний. «Отсюда ясно, – писал я, – что то, что называют разрешением Восточного вопроса, зависит вовсе не от изгнания турок из Европы, а от внутреннего развития подвластных Турции племен. Преждевременное изгнание турок было бы не концом, а началом вопроса, ибо тут только возникли бы бесчисленные затруднения от незрелых и сталкивающихся друг с другом стремлений освобожденных народов, к чему присоединилось бы неизбежное соперничество европейских держав, желающих каждая приобрести свою долю влияния на эти государства. Весь смысл существования Оттоманской империи заключается в том, что естественные наследники ее – малолетние. Устраните этого созданного историей попечителя, и тотчас явятся другие, которые займут оставленное впусте место. Атак как интерес России состоит вовсе не в том, чтобы владычество Турции заменилось непосредственным вмешательством европейских держав, то прямая ее выгода заключается в сохранении Оттоманской империи до тех пор, пока, в силу естественного хода вещей и внутреннего развития подвластных племен, это дряхлое тело само собою развалится и уступит место более свежим элементам. Следовательно, настоящая политика России в Восточном вопросе должна состоять не в ускорении разрушения, а в спокойном выжидании. Россия призвана не уничтожить Турцию односторонним действием, а помогать зреющим племенам, всякий раз как позволяют время и обстоятельства. В особенности она должна стараться улаживать их внутренние распри, становясь в беспристрастное отношение ко всем им. Это одно соответствует истинным ее интересам, ибо этим только обеспечивается одинаково влияние на всех».
С этой точки зрения я восставал против Сан-Стефанского договора, который мог приходиться по вкусу только проповедникам крестового похода против Турции во имя филантропии и либерализма. «И для поддержания этого трактата, – писал я, – приходилось начать новую и более опасную войну, на этот раз уже не с дряхлою Турцией, а с европейскими державами, с Англией, вероятно и с Австрией, которая после заключенной с нею сделки вовсе не ожидала подобных условий, притом без денег, без союзников, с утомленною армиею, с истощенными запасами, – и все это для фантастической Болгарии, о которой самое лучшее, что можно было сказать, это то, что никому неизвестно, что из нее может выйти».
Но, одобряя умеренность русского правительства, которое не поддалось возбужденным им самим безрассудным толкам и требованиям, я не скрывал, что ложный шаг не обошелся нам даром. «Если мы взвесим все результаты войны, – заключал я, – то едва ли окажется, что мы что-нибудь от нее выиграли. Восточный вопрос значительно подвинулся вперед; это несомненно. Турция разгромлена так, что впредь она не в состоянии уже оказать серьезное сопротивление и может держаться только чужою поддержкою. Из подвластных ей народов некоторые получили полную независимость, другие – политическую, третьи административную автономию. Всем им даны гарантии и открыто новое поприще для внутреннего развития. Но послужит ли этот шаг на пути развития к расширению русского влияния? В этом позволительно сомневаться. Как уже было указано выше, именно сильнейшие племена Балканского полуострова стали нам во враждебное отношение. Кроме горсти черногорцев, к нам примыкают, и то с весьма значительными оговорками, одни болгары, которые пока не представляют ничего, кроме неизвестного будущего. Но неизвестное не может считаться достаточным вознаграждением за пролитую кровь и за потраченные деньги. С другой стороны, взамен разваливающейся Турции явились гораздо более опасные и могучие соперники, Австрия и Англия, которые стали твердою ногою в турецких владениях. Мы сильным ударом пошатнули ветхое здание; естественным последствием было то, что все имеющие интерес в доме пришли занять в нем свое место. Австрия приобрела в Боснии и Герцеговине крепкую военную позицию. Она расширила свое влияние и на Сербию. Англия заняла Кипр и гарантировала азиатские владения Турции. Отныне мы не можем сделать шага, не столкнувшись с ними… Вместо слабого соседа, мы приобрели сильных. Шаг сделан громадный, но не в нашу пользу».
Когда я писал эти строки, я не думал, что несколько лет спустя, даже скудные плоды наших побед на Балканском полуострове будут безрассудно разбросаны по ветру. Можно ли было предвидеть, что вместо бережного отношения к освобожденной нами народности, мы наложим на нее медвежью лапу, станем требовать от нее той же безусловной покорности, к какой мы привыкли у себя дома, и при встрече сопротивления, из чисто личной досады, покинем позицию, приобретенную потоками русской крови? Еще менее можно было ожидать, что самодержавное правительство, всегда стоявшее на страже порядка и гордое сознанием своего божественного права, станет заниматься тайными кознями, подкупами, возбуждением революции, подготовлением ночных нападений на законного, им же посаженного князя. И когда верные болгары, подняв знамя закона, выгнали заговорщиков и призвали своего насильно увезенного князя назад, с высоты русского престола раздался голос, осуждающий его возвращение. Пример, подобный которому едва ли можно встретить в истории. Если болгарская политика прошедшего царствования страдала неясностью мыслей и нерешительностью действий, то политика нынешнего царствования страдает, напротив, чрезмерным пренебрежением ко всему, кроме личного самодурства[117]117
См. М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России. Сборник статей, М., ГИЗ. 1923, стр. 345–355. С. Сказкин. Конец австро-русско-германского союза, т. L, 1879–1884, стр. 212–232.
[Закрыть].
Печатать мою статью при наших цензурных условиях, конечно, было немыслимо. Дмитрий Капнист литографировал ее, однако с пропуском всех мест, могущих задеть высокопоставленные лица, и в этом виде пустил ее в ход в Петербурге. Она произвела некоторое впечатление в маленьком кругу читателей. Между прочим, граф Строганов говорил мне, что он был так поражен аргументацией, что послал статью императрице. Не знаю, как она там понравилась[118]118
Записку Чичерина по восточному вопросу Победоносцев переслал наследнику, будущему Александру III, при письме от 29 октября 1878 г. (Письма, т. I. Стр. 147–148). «Считаю нужным прибавить, – писал он при этом, – что, хотя многое в этой записке справедливо, но вся она мне не нравится, и мне, как и многим другим, даже неприятно было читать ее. Душа не принимает. При всем моем уважении к Чичерину, я не разделяю многих его взглядов и есть предметы, в которых никогда не могу с ним сговориться».
[Закрыть].
В переписке князя П. А. Вяземского есть писаное в это время письмо, в котором он говорит: «Сохраните это письмо как доказательство, что в опьяневшей России был хотя один трезвый человек». Могу с документом в руках, сказать, что их было несколько, хотя, к сожалению, очень немного. Из ближайших моих друзей один Станкевич вполне разделял мои взгляды. Даже Дмитриев и Щербатов плакались над оскорблением патриотического чувства Берлинским трактатом. Я же не видел в постановлениях Берлинского трактата ничего нарушающего истинные интересы России; щелчок же, данный безрассудству, считал весьма полезным для будущего. К сожалению, подобные уроки проходят у нас совершенно без следа.
В других странах, где существует какая-нибудь свобода мнений, люди, остающиеся трезвыми при общем увлечении, могут, по крайней мере, поднимать голос, а при наступающем отрезвлении приобретают некоторый авторитет; у нас они принуждены шептать за кулисами, а минуты отрезвления они никогда не дождутся: за беснованием наступает или полное равнодушие, или безрассудство в противоположную сторону. Так и теперь, за слепым увлечением болгарами последовала столь же слепая ненависть к болгарам. В обоих случаях журналы били в набат, и пошлый патриотизм проявлялся во всем своем блеске. Всего противнее были раболепные восторги при чтении царской телеграммы изгнанному болгарскому князю.
Следя внимательно за ходом политических событий, я в то же время был занят философскою работою. Мне давно хотелось высказать созревшие у меня мысли об отношении философии к религии. Сначала я думал сделать это по окончании предпринятой мною истории политических учений. Но этот труд затягивался, и конца еще не предвиделось. Я решился временно отложить его в сторону и написать сочинение, обнимающее совокупность высших философских вопросов, в форме доступной если не для массы публики, то по крайней мере для людей, умеющих читать серьезные книги. Результатом было сочинение, которое я издал под названием «Наука и религия»[119]119
Книга «Наука и религия» напечатана в Москве в 1876 г. Тотчас по напечатании она была через Победоносцева преподнесена наследнику, будущему Александру III.
[Закрыть]. Я работал над ним первую зиму, проведенную в Москве, с 1877 на 1878 год. Еще в рукописи я читал его Станкевичу, который в итоге остался им очень доволен, главным образом философскою частью. От Победоносцева по издании книги я получил восторженное письмо. Соловьев, не соглашаясь с моими взглядами на счет исторического развития религиозных верований, сказал мне перед смертью: «Дай бог побольше таких книг». Глава о развитии мифологии была, бесспорно, самая неудовлетворительная во всем сочинении. Этот предмет в своей совокупности был еще вовсе не разработан в науке, а многие его части оставались даже вовсе не исследованными. Приходилось в небольшой главе излагать его сжато, а вместе достаточно подробно для оправдания выводов, что представляло почти неодолимые трудности. Я в рукописи читал эту главу молодым московским ученым, Герье и Федору Коршу, думая от них получить какие-нибудь указания, но не слышал ни одного путного замечания и должен был напечатать главу в том виде, в каком она была написана. Думаю, однако, и теперь, что в ней есть мысли и взгляды, заслуживающие внимания.
Книга произвела некоторое впечатление и в петербургском обществе. Баронесса Раден писала мне, что она в первый раз слышит, что о моем сочинении говорят в светских гостиных. Я сам, несколько лет спустя, осматривая дворец в Алупке, к удивлению нашел свою книгу с заметкою на столе в будуаре княгини Воронцовой. Но печать, за исключением некоторых духовных журналов, встретила ее враждебно. В «Вестнике Европы» появилась маленькая статейка, касавшаяся только третьей части и обличавшая в авторе полное незнакомство с историею философии, о которой он брался толковать. Казалось, наши журналисты хотели оправдать сказанное в предисловии, что никогда еще легкомыслие и невежество так беззастенчиво не выставлялись напоказ. Что касается до Каткова, то он избрал самый верный путь: не сказал ни слова о сочинении, которое во всяком случае составляло оригинальное явление в нашей скудной философской литературе. Я слышал на этот счет любопытный рассказ от Ипполита Павлова, который зарабатывал себе деньгу в «Русском вестнике». Павлов сказал Каткову, что это книга замечательная, и что надобно об ней написать. «Я согласен с вами, что эта книга замечательная, – отвечал Катков, – но так как со многим нельзя согласиться, то лучше о ней промолчать». Так этот руководитель русского общественного мнения понимал задачи и обязанности критики. Сочинение, несмотря на то, почти совсем разошлось. Но какого-либо следа, хотя бы даже серьезного обсуждения поднятых ею важных философских и исторических вопросов, я не видал. О том, чтобы оценить достоинства и недостатки книги и оказать хотя бы малую долю уважения положенным в нее добросовестной мысли в многолетнему труду, об этом в нашей журналистике не было и помину Ярлычок был привешен не тот, какой требовался тем или другим направлением.
По окончании этого сочинения, я принялся вновь за историю политических учений; но посреди работы я был неожиданно отвлечен совершенно посторонним делом. Однажды Щербатов приехал ко мне за советом. Ему предложили председательство в одном из отделений Комиссии, учрежденной под председательством графа Баранова для исследования железнодорожного дела в России[120]120
«Барановская комиссия» возникла в результате записки, представленной царю в апреле 1876 г. военным министром Д. А. Милютиным о несостоятельности наших железных дорог в деле передвижения войск и грузов.
[Закрыть]. Он спрашивал: что я об этом думаю? следует ли принимать? Я отвечал, что, когда правительство обращается к обществу за содействием, то нет повода ему отказывать. Как человек свободный и практический, он легко справится с делом, и я не вижу причины от него уклоняться. «Хорошо, – сказал он, – я пойду, если ты пойдешь со мною в качестве товарища». В подкомиссиях товарищей не полагалось, что Щербатов принимал на том условии, что назначаемое председателю жалованье в 3000 рублей, от которого он отказывался, будет обращено на товарища. Я согласился.
Комиссия графа Баранова была, в сущности, некоторого рода подкопом под министерство путей сообщения, которое находилось в то время под управлением адмирала Посьета, хорошего человека, но совершенно неспособного министра. Решаясь приняться за эту работу, я питал надежду, что конкуренция авгуров[121]121
Авгуры – римские жрецы, на обязанности которых лежало совершать гадание при разрешении государственных вопросов.
[Закрыть], как я выражался, даст возможность сторонним людям провести что-нибудь путное. Однако и наш председатель, граф Эдуард Трофимович, добрый, мягкий, обходительный, не отличался ни деловитостью, ни энергиею. Главный его делопроизводитель, генерал Анненков, впоследствии строитель Закаспийской железной дороги, был, напротив, человек энергический, очень деятельный, но ненадежный. Основательности в нем было мало: к делу он относился довольно легко, всегда руководствовался личными целями, и на слово его нельзя было положиться. Но подкомиссиям в их работах предоставлен был полный простор. Все русские железные дороги были распределены между ними. Во главе одной стоял сам граф Баранов; в других председателями были Щербатов, князь Волконский, бывший председатель Рязанской губернской управы, барон Менгден, председатель поземельного банка в Варшаве, Тернер, впоследствии товарищ министра финансов, и наконец бывший профессор Харьковского университета Е. С. Гордеенко. На нашу долю досталось все протяжение пути от Вологды до Севастополя, то есть дороги Московско-Ярославская с ветвью до Вологды, Московско-Курская, Курско-Харьково-Азовская, Донецкая Каменноугольная и Лозово-Севастопольская. Приходилось проехать почти всю Россию, от дальнего севера до самой южной оконечности.
Кроме Щербатова и меня, наша подкомиссия состояла из двух инженеров по технической части, Титова и Михайлова, из профессора политической экономии в Московском университете Чупрова для статистики и двух членов Московского биржевого комитета, Бакланова и Санина, по коммерческой части. Состав был, вообще, хороший. Титов был весьма умный и сведущий инженер, сам строитель нескольких дорог, хотя к нашему делу он относился довольно легко и вообще был себе на уме. Михайлов, напротив, был человек вполне искренний, работящий, добросовестно относившийся к обязанностям, которые он на себя принял. К сожалению, ему мешало болезненное состояние, вследствие которого он вскоре и умер. Чупров в личных отношениях был тоже очень приятен; социал-демократ в душе, он не высказывал своих убеждений и держал себя крайне осторожно; в статистике он был сведущ и основателен, умел хорошо говорить, хотя в других отношениях образование было весьма скудное. Купцы тоже были отличные и дельные люди; в особенности сочувствие привлекал к себе Бакланов, милый и сердечный человек, впоследствии обанкротившийся, к общему сожалению. Только наш делопроизводитель Волков был человек веселый, но легонький. Щербатов часто журил его за небрежное отношение к делу, с которым он, однако, был знаком.
Наша задача состояла в том, чтобы объехать все дороги, останавливаясь на каждой станции, осматривать все сооружения, пути, здания, мастерские и собирать все сведения об отправке и движении грузов. О нашем прибытии заранее давалось знать местным отправителям и торговцам; составлялись совещания, на которых высказывались как потребности, так и неудовольствия на дорогу. Этим путем можно было получить самые верные и точные сведения о ходе русской торговли по всем железным дорогам. Способ был выбран весьма удачный. Мы были не правительственные чиновники, привыкшие к бюрократическим приемам, а люди из общества, которые на все смотрели свежими глазами и перед которыми можно было высказываться откровенно. Между нами были и купцы, сведущие в коммерческом деле. Эта сторона была, в сущности, самая живая и интересная часть нашей задачи. Но и вообще весь этот объезд представлял много привлекательного. Мы ехали в удобных вагонах, в которых и жили, исключая больших городов, где мы переезжали в гостиницы или переходили в царские комнаты на вокзале. Мы видели множество новых лиц, с которыми тотчас вступали в деловые сношения, видели отдаленные и интересные русские города, в которых без того никогда не пришлось бы побывать, знакомились с богатствами н потребностями русской земли. После осмотров и совещаний между нами происходили оживленные разговоры обо всем виденном и слышанном. И все это происходило в летнее время, когда путешествие, особенно при небольших переездах, и легко и приятно. Я сохранил об этом времени хорошее воспоминание.
Первая дорога, которую мы осматривали, была Московско-Курская. Она была в отличном состоянии. Построенная казною на дорогие деньги, но капитально, она вследствие убыточности казенного управления была продана компании московских купцов, которые на ней обогатились. В сущности, она досталась им почти даром. В несколько лет долг правительству был выплачен без труда, и дорога осталась в их руках, свободная от всяких обязательств и с крупным доходом. Главным заправилой в этой продаже был умерший уже тогда Федор Васильевич Чижов, известный литератор, но вместе весьма практический человек, который знал все ходы и умел обделать всякое дело. Оно объяснилось нам, когда мы узнали, что в числе крупных акционеров был Александр Аггеевич Абаза, который, однако, владел паями не под собственным именем, а прикрываясь именем своего шурина Бенардаки. Вскоре потом Бенардаки разорился, и правительство опять купило эти акции, за два или за три миллиона. Выяснять эти обстоятельств, принадлежавшие уже прошлому, не входило в ваши обязанности. Мы могли только удостоверить хорошее состояние дороги и указать на некоторые необходимые исправления.
Совершенно иной характер имела Курско-Харьково-Азовская дорога, которой начальные буквы К. Х. А. Ж. Д. самими служащими в ней толковались так: Канибальская, Хамская, Адская, Жидовская Дорога. Она принадлежала известному Самуилу Соломоновичу Полякову, еврею, вышедшему из ничтожества и в несколько лет составившему себе огромное состояние на построении железных дорог. Тут весь расчет предпринимателя состоял в том, чтобы строить как можно дешевле, сохранить за собою как можно более денег. Та же цель преследовалась и при эксплуатации. Это была одна из тех дорог, в отношении к которым акционерам выгодно, чтобы они находились в дурном состоянии. Правительство во всяком случае платило пять процентов с капитала; больше этого трудно было получить даже при хорошем управлении, а потому вся выгода заключалась в том, чтобы держать дорогу в дурном виде и на улучшение получать от правительства новые ссуды, из которых часть, разумеется, оставалась в кармане акционеров. В то время как мы осматривали дорогу, правление просило у правительства двадцать два миллиона для приведения ее в хорошее состояние. Мы сбавили их, помнится, на семь. При всем том мы нашли дорогу в лучшем положении, нежели ожидали, судя по ее репутации и по тем возгласам, которые раздавались против нее отовсюду. Надобно отдать справедливость Полякову, что он для управления набирал людей, соблюдавших и его и свои выгоды, но дельных, деятельных и энергичных.
Это особенно нас поразило, когда мы вслед за тем переехали на Лозово-Севастопольскую дорогу, где господствовало уже полное неряшество. На всех станциях стояли громадные грузы хлеба, остававшиеся без движения, и казалось, что никому до этого нет дела. В Екатеринославе мы нашли собрание тамошних дельцов, которые хлопотали о проведении железной дороги от Донецкой-Каменноу-гольной, через Екатеринослав, к Кривому Рогу, где открыты были богатые залежи железа. Но собравши подробные сведения, мы пришли к заключению, что нет никакой выгоды строить с огромными издержками дорогу, параллельную с Лозово-Севастопольской, и без того убыточной, единственно в виду соединения каменного угля с отдаленною железною рудою, между тем как в ближайшем расстоянии от донецкого угля, у Корсак-могилы, найдены были залежи железа, могущие удовлетворить промышленным требованиям на многие годы. Это и было высказано на совещании с екатеринославскими дельцами, которые против этого ничего не могли возразить. Впоследствии, как я скажу ниже, дорога была все-таки построена.
Мы осмотрели только что выстроенную Донецкую сеть, которая была как с иголочки. Строителем был сам сопровождавший нас инженер Титов. От него мы узнали и причину малой доходности дороги. Сеть была намечена не в видах промышленных выгод страны, а ввиду выгод частных владельцев, имевших кредит в правительственных сферах. Во всем этом деле личные искательства и задабривания играли главную роль. Тем не менее, для нас в высшей степени интересно было знакомство с этим богатым краем, представляющим неистощимые запасы для будущего. Мы видели и знаменитые Вазовские заводы[122]122
Юзовскими назывались чугунноплавильные заводы «Новороссийского металлургического общества», построенные в 1869 г. с субсидией от казны Дж. Юзом в Бахмачском уезде тогдашней Екатеринославской губ.
[Закрыть], при осмотре которых я, как единственный член комиссии, говорящий по-английски, должен был служить толмачом; видели торговый Ростов и упадающий Таганрог, также Мариуполь, где надобно было собрать сведения на счет предполагавшегося устройства нового порта. Из Мариуполя мы с Щербатовым вдвоем, в маленькой колясочке, проехали по южным степям до ветви Донецкой дороги. День был чудесный и поездка была очаровательная. Южная степь, которой я дотоле не видал, представилась мне во всей своей пустынной красе, с мягкими переливами тонов, с перспективами виднеющихся друг за другом балок и с бесконечными горизонтами. В первый раз я видел и Севастополь, эту русскую твердыню, полную великих воспоминаний, возвышающих дух и заставляющих сердце сильнее биться за отечество. Он был еще весь в развалинах, и каждый камень, казалось, говорил о подвигах павших в нем героев. Мы посетили и Малахов Курган, и Братскую могилу, и воздымающийся на холме собор четырех адмиралов. Статуя Лазарева, создателя Черноморского флота, одиноко возвышалась над портом, впереди разрушенного арсенала, как бы возвещая миру, что может сделать русский человек с твердым умом и неуклонною волею.









































