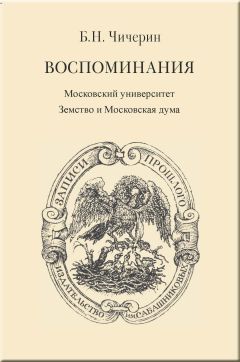
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Последнее приветствие заключилось тостами. Вот оно: «От лица студентов третьего курса, представителем которых имею честь быть в настоящую минуту, изъявляю Вам нашу искреннюю признательность за согласие Ваше на этот прощальный обед. Он дает нам возможность хотя отчасти выразить то, что мы испытываем, что чувствуем, расставаясь с Вами. В последний раз собрались мы вокруг Вас, в последний раз имеем счастье видеть Вас в нашей студенческой среде. Вы, который с таким достоинством, с таким истинно-национальным духом в течение многих лет занимали кафедру государственного права, – Вы навсегда ее покинули; мы, Ваши слушатели, Ваши ученики, навсегда лишились талантливого профессора. Отныне 26 января 1868 года будет днем печальным для студентов нашего факультета. С этим днем будет соединено воспоминание, грустное воспоминание о бывшем профессоре Борисе Николаевиче Чичерине. Вы не ошибаетесь, Вы оставили среди нас добрую память и честное, незапятнанное имя. С этим согласятся и те, которые не сочувствуют Вашему направлению и Вашим идеям. Мы же, почитатели Вашего ума, таланта и красноречия, пьем за Ваше здоровье и желаем Вам жить долго, жить счастливо, на пользу русского просвещения, на славу русской науки».
Борис Николаевич, глубоко тронутый всеми этими искренними приветствиями, сказал в ответ следующую, полную чувства речь:
«Господа! Стану ли я говорить Вам, что я до глубины души тронут Вашим сочувствием и Вашим приветом?! Здесь, на прощальном пире, собрались люди близкие сердцу, и друзья моей молодости, и товарищи на общественном поприще, и то юношество, которому довелось мне посвящать свою деятельность. Здесь сошлись и старый университет и новый, и прошедшее и будущее.
Благодарю прежде всего за те теплые слова, которыми встретили меня товарищи моих студенческих лет. Слушая их, я переношусь в былое время, я вспоминаю наш старый университет, где мы все вместе воспитывались. Воздадим ему честь и хвалу на этом собрании людей, которые связаны университетской жизнью. В нем соединялось многое, что благотворно действовало на молодые умы; в нем были люди нерядовые. У нас был попечитель просвещенный, благородный, который всю душу свою положил на любимое дело, которому университет обязан всем, что сохранилось в нем хорошего до сих пор[81]81
С. Г. Строганов.
[Закрыть]. У нас был профессор, который представлялся нам идеалом нравственной чистоты и возвышенности мыслей. Для меня в особенности это имя заветное и дорогое; благодарю студентов за то, что они о нем вспомнили. Я был к нему близок и обязан ему большею половиною своего духовного развития. Когда я говорю об университете, для меня с ним неразлучна память о Грановском. Но были и другие, которых нельзя не помянуть добрым словом. И теперь, рядом со мною, сидит один из них, которого я в то время уважал, как своего профессора, и которого с тех пор, как товарища, я научился глубоко любить и почитать[82]82
С. М. Соловьев.
[Закрыть]. Вспомним и нашего старого инспектора, имя которого было синонимом доброты[83]83
И. Н. Красовский.
[Закрыть]. Да, действительно, в то время между университетским начальством и студентами господствовали патриархальные отношения: благодушное попечение, с одной стороны, веселое и беззаботное доверие, с другой. В то время и в обществе интересы науки были гораздо живее, нежели теперь. Практическая жизнь, политические стремления не отвлекали еще сил и внимания от умственных вопросов. Мы воспитывались в этой среде, не зная тех волнений, которые впоследствии внесли разлад в университетскую жизнь. И до сих пор мы храним, как драгоценное духовное достояние, благодарность тому учреждению, которое осеняло наши молодые годы. Если я вступил на кафедру, то главным моим побуждением было отслужить службу университету, отблагодарить его за то, что я провел в нем лучшую пору своей жизни.
Переносясь в эти годы, я не могу не вспомнить того тесного, доброго товарищества, которое соединяло нас, бывших студентов. До какой степени оно было искренно и прочно, об этом свидетельствуют те старые друзья, которые собрались здесь в настоящую минуту. Нет связей более крепких, более заветных, как те, которые образуются в молодые лета, в стенах университета, в ту пору жизни, когда сердце человека настежь открыто для другого, когда чувство не успело еще очерстветь от житейских забот и разочарований, когда и настоящее и будущее представляются каким-то светлым праздником. Воспоминание о прожитых вместе годах юности навсегда соединяет людей; товарищеские отношения светлою струею тянутся через всю человеческую жизнь. И когда я здесь благодарю своих старых товарищей за их память и за их дружбу, я не могу не выразить сердечной, глубокой скорби о неожиданном отсутствии одного из них, человека, которого высокую честность, чье горячее участие к общественному делу Москва привыкла ценить. Вы слышали его письмо; мы с ним четыре года сидели на одной скамье, и с тех пор, в течение двадцатилетних самых близких сношений, я всегда находил в нем сердечное участие и добрый совет.
Господа! Я увлекаюсь воспоминанием о прошлом, которое воскресает передо мною, когда я вижу вокруг себя давно знакомые и дружеские лица. С тех пор многое изменилось. Для университета настали тяжелые годы. Военная дисциплина заменила просвещенное попечение об умственных интересах молодых поколений. Затем, после морозов, настала весенняя оттепель. Строгая дисциплина в свою очередь уступила место полной распущенности. Общественные страсти вторглись в университет, отвлекая молодых людей от терпеливого труда, от строгой науки.
В эту пору я имел честь вступить на кафедру, и с первого же раза счел долгом высказаться против увлечений молодежи. Мы вместе с сидящими здесь товарищами и в университете, и в литературе выступили в защиту старых университетских порядков. Нам казалось почти святотатством это легкомысленное посягательство на учреждение, которое заключало в себе столько добра, которому все мы обязаны лучшим цветом нашей умственной жизни. Перед нами носился идеал университета как святилища науки, где хранятся чистые ее предания, где вопросы обсуждаются не в тревоге общественной жизни, не в пылу ежедневных полемик, а спокойно и беспристрастно, насколько беспристрастие дано человеку. Мы с восторгом встретили в России новую зарю свободы, но мы хотели свободы, сдержанной законом, свободы не разрушительной, а созидающей. Я не могу без грусти вспомнить об этом времени, когда, казалось, единодушие во имя добра соединяло всех членов университета. От этой поры остались крепкие связи. Пока я жив, я сохраню глубокую привязанность к тем товарищам, с которыми мы до конца шли рука об руку, одушевленные общим чувством долга и претерпевая вместе все испытания.
А испытаний было немало. Вы помните, каким нареканиям подвергались мы в то время. Нас обвиняли в отсталых убеждениях, в раболепной покорности власти. Нам говорили: «Университет более не существует, и Вы его разрушили. Есть профессора и есть студенты; но нет между ними нравственной связи. Духовное целое исчезло, остались одни разорванные члены». Господа, настоящее наше собрание служит самым красноречивым ответом на эти возгласы. Нравственная связь между профессорами и студентами существует, и существует не во имя передовых идей или популярных стремлений, а во имя честного отношения преподавателя к своему предмету и к своим слушателям. В этом состоит единственная наша заслуга, и это скоро было понято молодежью, с ее верным чутьем нравственных отношений. Преподаватель, который успел установить подобную связь, может считать себя счастливым. Поэтому, господа, для меня ничего не могло быть отраднее, как те речи, которые я слышал, как те заявления, столь искренние и трогательные, которые делаются мне студентами. В вас, мои бывшие слушатели, с которыми я теперь расстаюсь, но с которыми никогда не расстанусь сердцем, в вашем сочувствии я нахожу лучшую награду за свою деятельность на кафедре, награду, перед которой, поверьте, бледнеют все жизненные невзгоды. Положение профессора иногда невольно наводит на раздумье. Он готовится в своем кабинете, он читает в аудитории; но каковы результаты его работы – этого он часто не знает. Может быть, они невидимо зреют в душах многих из слушателей; может быть, со временем труд его принесет свои плоды, но все это для него скрыто в неизвестности, и он нередко усомнится в приносимой им пользе. Но когда он видит, что искра загорелась в молодых умах, когда брошенное семя возвращается к нему, как дань благодарности – о! тогда он переживает хорошие минуты; тогда сердце его исполняется радостью и некоторой гордостью. Он чувствует, что он не даром прошел по земле, если он принес хоть малую пользу зреющим поколениям, если ему удалось зажечь в них священный огонь, передать им то чистое сокровище истины, которое он получил от своих предшественников. В этом живом и сочувственном соприкосновении между преподавателем и слушателями состоит лучшая сторона университетской жизни. Здесь почерпаются силы для деятельности; здесь возгорается и надежда на будущее, надежда, основанная не на жизни одного человека, которого нежданно сражает смерть, а на целых поколениях, непрерывно обновляющихся и передающих друг другу светоч просвещения. В них заключается главная сила земли. Эта сила не оскудеет в России, пока в молодых сердцах горит любовь к истине и к добру, и пока наука остается в обществе не мертвым кладом и не орудием страстей, а живым источником, к которому стекаются толпы юношей, чтобы утолить в нем свою духовную жажду.
Вы, господа, призваны осуществить эти надежды. А потому, поблагодарив Вас от души за Ваш прощальный привет, я, с своей стороны, поднимаю бокал за студентов Московского университета!»
За этой речью последовали громкие рукоплескания; когда они смолкли – Борис Николаевич снова поднял бокал и сказал: «Господа, я предлагал тост за студентов; теперь я предлагаю молодежи тосты за людей, большею частью им неизвестных, но которые сегодня соединились с ними в общем чувстве. Господа, за моих старых, добрых товарищей!» Тост этот был встречен так же шумно, как и первый. Затем Борис Николаевич еще раз встал и произнес: «Господа, мы провозглашали несколько тостов; позвольте же мне теперь провозгласить последний и самый главный. Я расстаюсь с университетом, но не становлюсь ему чуждым. Для меня университет остается тем же, чем он был прежде. И для всех нас Московский университет является знаменем русского просвещения. Господа, за процветание Московского университета!»
Затем студенты пили за здоровье Ф. М. Дмитриева и М. Н. Капустина, и как за профессора, и как за деятельного члена попечительства о бедных студентах. После профессоров своего факультета студенты предложили тост за С. М. Соловьева. Тогда М. Н. Капустин подошел к С. М. Соловьеву, приветствовал его и от имени его прежних учеников, между которыми многие теперь сами занимают кафедру: «Студенты, – сказал он, – предупредили нас, предложив тост за дорогое нам здоровье. Мои товарищи по курсу, первые слушатели С. М. Соловьева, поручили мне выразить ему свою благодарность и уважение. Он был постоянно живым представителем того доброго времени, о котором вспоминал сегодня мой однокурсник Чичерин. Его слова и его пример возбуждали в нас любовь к науке и чувство нравственного долга. Сергей Михайлович остался верным себе, и я могу засвидетельствовать с искреннею признательностью, что в нем находим мы ободрение и совет: его слова всегда за честное дело, своим примером он учит честному труду».
Студенты вспомнили и отсутствующего своего профессора Н. К. Бабста; потом ими были предложены тосты за С. А. Рачинского, Ф. И. Буслаева, всех присутствующих профессоров и, наконец, бывшего инспектора студентов И. Н. Красовского, который оставил между нами добрую память своею заботливостью об их нуждах и честным направлением.
После всех этих тостов, произнесенных и принятых с общим одушевлением, профессор Чичерин простился со студентами; но едва хотел он выйти из залы, его подхватили на руки и пронесли через остальные комнаты и по лестнице вплоть до выхода среди громких рукоплесканий.
Так кончился этот прощальный праздник. Память о нем сохранится между студентами. Несмотря на грустный повод торжества, в нем была и утешительная сторона. Он доказал, какая живая связь может образоваться между профессорами и студентами, когда их сближает общее уважение к нравственным интересам.
Остается пожелать, чтобы поводов к подобным пиршествам было поменьше. Пробел, оставляемый в университете удалением такого профессора и без того велик!
Уже после обеда Борис Николаевич получил от профессора Захарьина привет следующего содержания:
«Лишенный возможности, за нетерпевшими отлагательства делами, принять участие в прощальном обеде, который был предложен Вам, спешу обратиться к Вам с выражением моего глубокого сожаления о потере нашим университетом такого высокодаровитого, зрелого и так блестяще проходившего свое поприще деятеля, как Вы.
Студент».
Этот обед был одною из хороших минут моей жизни. Оставляя кафедру, я мог убедиться, что я не прошел по ней даром. Не имея призвания к профессуре, я восполнял этот недостаток добросовестным отношением к делу, любовью к науке и сердечным расположением к молодым людям. Выражение их чувств было мне всего дороже: я видел в нем награду за прошлое и семена будущего. И эта связь не порвалась с моим выходом из университета. Впоследствии, когда мне приходилось встречаться с бывшими слушателями, иногда на самых дальних концах России, я всегда находил в них тот же теплый привет и выражение радости при виде своего старого профессора. Получал я и заочные заявления, из которых одно в особенности тронуло меня до глубины души. Оно было передано мне занимавшим в то время должность прокурора Окружного суда в Петербурге, Кони, тоже моим бывшим слушателем. Не могу не привести его здесь.
В то время, как я вступил на кафедру, на втором курсе юридического факультета были два брата Крамера, смирные, робкие, недалекие, но добросовестные работники. Они иногда ко мне ходили, брали книги, и я старался их приласкать. Когда Черкасский отправился в Польшу в качестве министра внутренних дел, он просил меня прислать ему несколько кончивших курс студентов. Я сделал вызов, и старший Крамер изъявил готовность ехать. Случилось так, что пришлось отправить его первого. В то время студенты могли разделять свои экзамены между маем и сентябрем, и Крамер один выдержал экзамен в мае. Мне не совсем было приятно начать с посылки весьма небойкого экземпляра нашего студенчества, но я все-таки его отправил. Он прослужил в Варшаве несколько лет и затем перешел в Петербург. В это время брат его сошел с ума, и он остался один, угрюмый, одинокий, тяготясь жизнью. Наконец, он покончил самоубийством. На столе его нашли бумагу, писанную им перед самою смертью; она была передана прокуратуре. В ней прочли следующее: «И вот через несколько минут меня не станет, и нет человека на земле, которому бы мне хотелось протянуть руку на прощание. Нет, есть один – мой бывший профессор Б. Н. Чичерин. Прошу того, кто прочтет эти строки, передать ему мой сердечный привет и сказать ему, что я вспомнил о нем перед смертью и его благодарю». Такие заявления вознаграждают за многое.
Вскоре после обеда я уехал в Париж навестить брата Василия и вернулся в апреле. Проезжая через Петербург, я нашел там Соловьева, и от него узнал подробности газетной полемики, которая возгорелась в моем отсутствии. Первый поднял вопрос в печати Погодин. Сей древний муж, представлявший странную смесь ума и нелепости, таланта и безобразного неряшества, высоких стремлений и гнусной скаредности еще не раз во время истории приглашал нас с Дмитриевым обедать к себе на Девичье Поле, изъявляя нам сочувствие и убеждая не покидать университета. Когда мы ему возражали, что для нас это вопрос чести, он простодушно отвечал, что честь вовсе не русское начало, и что дорожить ею нечего. Теперь он с некоторым сожалением и укором коснулся нашего дела в своем журнале. Дмитриев отвечал краткой заметкой, указывая на обстоятельства. Тогда «Московские Ведомости» решились прервать молчание. В них появилась большая статья, в которой самым бессовестным образом история рассказывалась в совершенно превратном виде. Дмитриев отвечал и напечатал наши мнения. «Московские Ведомости» возразили с прежним бесстыдством. Дмитриев отвечал снова. Но тут, как выразился Соловьев, «черт ногу подставил». В числе приложенных Дмитриевым документов были два мнения Капустина, поданные им при обсуждении бумаг попечителя, в отпор неслыханным притязаниям, которые предъявлялись Советом. Эти мнения были подписаны и некоторыми другими профессорами. В том числе по ошибке значилась подпись Захарьина. Капустин поставил ее на своей черновой, предполагая, что он подпишет, но потому ли, что не встретил Захарьина, или по какой другой причине, только бумага была внесена в Совет без его подписи. Захарьин, который с одной стороны выказывал нам сочувствие, но с другой стороны находился в дружеских отношениях с редакторами «Московских Ведомостей», уважая в них патриотов, вдруг заявил печатно, что он этой бумаги не подписывал. Тогда «Московские Ведомости», обрадовавшись случаю, яростно накинулись на противников, упрекая их в том, что они, для искажения дела, прибегают даже к подлогам. Полемика была перенесена на чисто личную почву и превратилась в брань, в которой Катков был первый мастер. Конечно, здравомыслящему человеку, желающему вникать в вопрос, не трудно было в нем разобраться, но кому было дело до этих пререканий между разъярившимися учеными? Катков и Леонтьев знали очень хорошо, что публику можно уверить в чем угодно, и что в газетной перебранке прав остается всегда тот, кто кричит громче других и менее стесняется совестью и приличием. Они на своем знамени поставили девиз «нахальство все превозмогает». Кто еще верил в пользу гласности, тот мог воочию убедиться, к чему она ведет в мало образованной среде.
В следующем году я опять затронул дело в печати по поводу последовавшего со стороны министерства решения насчет возбужденных мною вопросов. Как сказано, они были разосланы для обсуждения по всем университетам, и все, кроме Московского, единогласно высказались в нашу пользу. Только Новороссийский признал почему-то полезным предварительное представление особых мнений ректору. Согласно с мнением университетов последовало и министерское решение; при русских законах нельзя было давать другого толкования. По существу дела мы были оправданы; за что же нас было осуждать? Я высказал это в заметке, напечатанной в «Русских Ведомостях». Ожидали новой полемики, но на этот раз «Московские Ведомости» сочли более благоразумным отмолчаться. Они понимали очень хорошо, когда неприятный вопрос нужно заглушить криком и когда лучше задушить его молчанием.
Торжество их было по-видимому полное. Дмитриев вышел вслед за мною, по истечении второго полугодия. Рачинский подал в отставку еще прежде. Хотя он вовсе не был замешан в истории, но все, что происходило в университете, было до такой степени противно его тонкой и чуткой натуре, что оставаться в нем долее он не мог. Он уехал в деревню, где сперва, как ботаник, занялся цветами, а затем всецело погрузился в народную школу, отдавши ей всю свою душу и проявляя в этой новой деятельности свои чистые, возвышенные, хотя несколько витающие в облаках стремления. Бабст тоже вышел вскоре, дослужив 25 летний срок службы. Он был председателем правления Купеческого банка, и для него профессура стала уже делом сторонним. Капустин сделался директором Ярославского лицея. Из протестующих профессоров в университете остался один Соловьев; но он-то и сделался знаменем, вокруг которого собрались новые вошедшие в Совет элементы. Победа редакции была непродолжительна. Тяжелая ее рука стала, наконец, невыносима, и Совет взбунтовался. При новых выборах, вместо Баршева, ректором был выбран Соловьев. Это означало полный переворот. Леонтьев, которому истекал 25-летний срок, видел, что при законе о двух третях он не пройдет. Вследствие этого редакция стала напирать на министерство, чтобы этот закон был отменен, и послушный министр действительно внес в Государственный совет и провел отмену означенной статьи Устава. Однако, и это не помогло. Леонтьев был забаллотирован простым большинством. Тогда он явился в Совет и сказал громогласно в заседании: «Вы лизнули моей крови, но я отмщу». Начался самый бесстыдный поход против университетского самоуправления, из-за которого редакция так недавно еще ратовала против нас, выставляя волю большинства неприкосновенною святынею, на которую нельзя было посягать. Теперь все мелкие дрязги и сплетни по всем университетам злобно выводились наружу; факты, по обыкновению, извращались самым бесцеремонным образом. Во всем обвинялся либеральный Устав 1863 года, как будто он внес в университеты какие-то новые начала, между тем как он узаконил только самоуправление, которое было введено в них с самого их основания и которое составляет необходимое условие самой их жизни. Редакция требовала отмены всех выборных прав, тогда как в самую темную эпоху николаевского царствования правительство не решалось идти далее назначения ректора. Предполагалось отнять у университетов и право производить экзамены, которое вверялось назначаемым от правительства комиссиям, что опрокидывало все университетские порядки, все сложившиеся на практике обычаи без малейшего толка. Побуждаемое редакциею, министерство учредило странствующую комиссию для исследования состояния университетов. Председателем назначен был «недогадливый армянин» Делянов, как выражался Дмитриев, а главными деятельными лицами были лакеи редакции, Георгиевский и пресмыкающийся профессор физики Любимов. Последний собирал плохие студенческие записки, выбирал из них всякие нелепости, перевранные названия и т. п. и весь этот букет внес в комиссию, в доказательство крайне низкого уровня преподавания в Московском университете. Этот, на сей раз действительный, донос сделался известен в копии московским профессорам, товарищам Любимова. Они возмутились учиненною с ними гадостью. Любимову послано было коллективное письмо с заявлением, что с ним прекращают всякие сношения. И что же? Верный девизу редакции, что нахальство все превозможет, следуя, разумеется, ее совету, негодяй напечатал это письмо в «Московских Ведомостях» со своими комментариями. Возгорелась полемика, результатом которой было то, что главные противники Любимова, Герье и Усов, получили выговор через жандармского полковника, а Соловьев принужден был оставить не только ректорство, но и самый университет. «Тогда были только цветики, а теперь ягодки», – писал он мне в деревню. Таким образом, Катков и Толстой с их клевретами выжили наконец из университета и этого достойного, всеми уважаемого и крайне умеренного человека. Честность и наука были опасным знаменем, от которого надобно было отделаться всеми средствами. Года два спустя, Соловьев согласился читать лекции в качестве стороннего преподавателя, но вся эта история сильно на него подействовала. Его здоровье было сломлено, и он вскоре скончался, не докончив своего обширного труда, который остался вечным памятником в русской историографии.
Толстой не решился, однако, внести в Государственный совет заготовленный им новый устав. Едва ли бы сам государь согласился на такую безобразную ломку. Зато, когда Толстой пал, «Московские Ведомости» на него обрушились. Но когда с новым царствованием, при изменившихся обстоятельствах уволенный министр снова был поднят на высоту, а Катков получил больше силы, нежели когда-либо, поссорившиеся друзья снюхались опять, и с помощью недогадливого армянина, который возведен был в сан министра народного просвещения, новый университетский устав был проведен во всей своей нелепости. Университеты были обезглавлены и перевернуты вверх дном. В них водворился хаос, в котором сами зачинщики не могли разобраться. Судьба русской молодежи была отдана на жертву властолюбию и жажде мести откинувшего всякий стыд и совесть журналиста.
Что касается до несчастного юридического факультета, главного приготовителя слуг отечеству на всех общественных поприщах, то после нашего выхода он никогда уже не мог подняться. Разрушать очень легко, но созидать в деле просвещения чрезвычайно трудно. У нас в особенности, при скудности умственных сил, убыль пополняется крайне медленно. Пришлось наскоро набирать неподготовленных молодых людей. Самыми видными оказались легкомысленные социал-демократы, которых правительство получило взамен вытесненных консерваторов. Впоследствии министерство само их удалило самовластным актом. Рядом с ними, за немногими почетными исключениями, водворилась целая масса отъявленных бездарностей. Преподавание низошло до такого уровня, что студент ничего уже не мог вынести из университета, кроме полного хаоса понятий.
Такова грустная повесть нашего высшего образования. Вместо того, чтобы заботливо оберегать рассадники скудной русской науки и лелеять их, как драгоценный цвет, насажденный на неблагоприятную почву, правительство сыпало на них удар за ударом, поддерживая в них пошлость и невежество, вытесняя честных и преданных науке преподавателей, отдавая университеты на жертву низменным интересам и гнусным интригам, попирая ногами самые элементарные требования права и нравственности, вверяя управление народным просвещением лицам, способным возбудить только ненависть и презрение. Многие поколения молодых людей были этим погублены. Вместо света, приносимого свободою, в незрелом русском обществе водворилась кромешная тьма: понизился как умственный, так и нравственный уровень. И долго еще горькие плоды этой политики будут отзываться на всем нашем общественном быте, на всем строе нашей общественной мысли. Русское просвещение не скоро оправится от ран, нанесенных ему грязным союзом наглого журнализма с беззастенчивою властью. Правдивая история назовет имена Каткова, Леонтьева и графа Толстого как главных зачинщиков и виновников всех этих печальных событий. Но что скажет она о монархах, которые возвышали и поддерживали подобных людей?









































