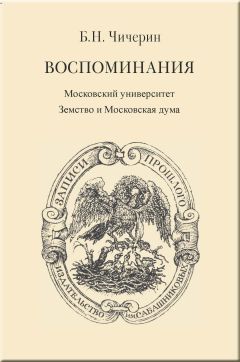
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
По прочтении этого протокола гласный И. И. Шестеркин протестовал против избрания Б. Н. Чичерина в качестве гражданина города Москвы, находя что бывший голова ничем не заявил себя, чтобы заслужить такое звание. Этот протест вызвал целую бурю. Почти все гласные заговорили: «Довольно… дело решено».
Городские власти переполошились. Это был как бы протест против воли государя. Долгорукий был за границею; должность его исправлял Перфильев, на которого падала вся ответственность, а он был не из храброго десятка. «Бедный Василий Степанович был у меня 19 сентября, – писал мне Никулин. – Он совсем повесил голову, говорит: «Что скажет теперь Владимир Андреевич по возвращении? Не успел выехать из Москвы, как случилась такая неудобная вещь!»
Губернатор решил затормозить дело до приезда князя, предъявив протест и представив дело в Губернское присутствие, под предлогом, что постановление Думы о поднесении мне почетного гражданства было незаконно, так как по Городскому Положению всякое новое предложение может быть решено только в следующее заседание после того, как оно было предъявлено. Этот протест, в сущности, не имел ни малейшего законного основания, ибо предложения, которые делаются по поводу обсуждаемых вопросов, не считаются новыми и решаются тут же. Подобное требование тем менее было уместно, что постановление о почетном гражданстве князя Долгорукого по поводу его юбилея было сделано в том же заседании, в котором оно было предложено. Было и множество других подобных дел, и никогда губернатор протеста не предъявлял. Тем не менее Губернское присутствие, по обыкновению, четырьмя голосами против трех кассировало постановление Думы.
Между тем, приехал Долгорукий и тотчас вызвал к себе Аксенова. «Вот подлинный рассказ Аксенова, – писал мне Пикулин, описывая эту сцену. – Меня вызвали в кабинет князя, который сказал мне громко: «Как вы осмелились говорить в Думе о Чичерине и сожалеть о его выходе из Думы? Вы знаете, что он был удален по желанию высшего начальства? Вы знаете, что по данной мне власти, я могу вас выслать из Москвы, как человека, нарушающего покой города?» Аксенов вначале сконфузился, но вскоре, оправившись, отвечал: «Ваше сиятельство, если я сказал что в пользу Чичерина, то это мое крайнее убеждение, и я повторяю то же и теперь: человек пришел править городом, не приготовленный к этим делам, и в самое короткое время, при неутомимой работе, поднял столько благих вопросов и частью привел их в исполнение, что еще ни один бывший городской голова не сделал бы этого. Я ведь служу гласным с самого начала устройства Думы и знаю это. Если бы Борис Николаевич послужил подольше, то он бы много сделал. За что же меня судить строго? Мне уже около 80-ти лет, и я говорю то, что мне кажется правдой; отчего же меня никто не остановил во время моей речи, а гласных было 120 человек, и все одобрили мое слово. Что же касается вашего обещания меня выслать из Москвы, то я буду просить ваше сиятельство выслать меня туда, где бы была хоть одна церковь. В мои годы мне единственно остается молиться богу». Долгорукий ответил, что «напрасно вы так приняли к сердцу мои слова; надеюсь, что вы всегда будете моим гостем» и проч. Каковы у нас есть старики из простого народа! – прибавлял Пикулин.
В дополнение к этому Самарин мне писал: «Долгорукий объявил Аксенову, что обязан исполнить неприятное для него поручение министра внутренних дел, а затем прочел бумагу, в которой граф Толстой делает замечание Аксенову, в виду того, что постановление Думы по предложению Лепешкина состоялось вследствие «необдуманного предложения» Аксенова; так как до сих пор он ни в чем замечен не был, то он, министр, ограничивается замечанием, с предостережением, чтобы он на будущее время действовал осмотрительнее. Аксенов держал себя с достоинством, отвечал, что он своего образа мыслей не скрывает, что он вполне сочувствует тебе, что его образ мыслей даже либеральнее чем твой, и что он просит довести это до сведения министра внутренних дел. Долгорукий, разумеется отказался, предоставив ему самому писать министру, если он желает, и сказал, что он был до сих пор другого мнения об нем».
«Министр, который делает выговор частному лицу, гласному Думы, за необдуманные поступки, это, право, чересчур!» – писал я в ответ Самарину.
Затем призван был Лепешкин. Как молодого человека, Долгорукий, должно быть, его сильно распек, но он об этом молчал, о своем свидании никому не рассказывал, и писал мне только, чтобы я не верил всяким сплетням, уверяя, что он твердо стоит на своих убеждениях. Призван был также Муромцев и множество других гласных. Всем было сделано должное внушение.
Купцы перетрусили и не знали, что им делать. Идти против власти они не привыкли и не чувствовали себя для этого довольно сильными. Даже Самарин, более независимый и по положению и по образу мыслей, был озадачен. Он видел, что возобновление прений в Думе подаст повод, с одной стороны, угодникам Долгорукого к неуместным нападкам на меня, с другой стороны, думским радикалам, Муромцеву, Пржевальскому и компании к каким-либо неумеренным заявлениям. Ему самому казалось, что предложение мне почетного гражданства являлось как бы протестом против действий самого государя и тем самым переходило за черту дозволенного. Единственный исход из этих затруднений, который он придумал, состоял в том, чтобы я от себя просил Думу не давать этому предложению дальнейшего движения. Этот взгляд разделяли не только купцы, с которыми он совещался, Аксенов и бывший голова Третьяков, но даже и Иван Сергеевич Аксаков. В этом смысле Самарин написал мне в деревню письмо, которое прислал с артельщиком.
Мне казалось, что впутывать в это дело меня, стоящего совершенно вдали, было неуместно. Тем не менее, я послал требуемое письмо. Мотивировать мой отказ от баллотировки тем, что я слишком малое время служил городу, как предлагал Самарин, я считал неловким, всякому было понятно, что почетное гражданство предлагается мне не за оказанные услуги, а как некоторое вознаграждение представителю города, с которым сделали гадость. Поэтому я заявил, что «при существующих известных мне обстоятельствах, в которых состоялась моя отставка, я считаю поднятие вновь этого вопроса неудобным и убежден, что оно не может привести к цели. Мнение Думы высказалось, – прибавлял я, – и это сторицею вознаграждает меня за все нападки. Настаивать было излишне, тем более, что это могло бы повести к пререканиям в самой Думе, к чему я никогда не желал подать ни малейшего повода».
При этом я писал Самарину:
«Посылаю тебе письмо к Ушакову, но не могу скрыть, что я это считаю отступлением, и отступлением не перед верховною властью, а перед угрозою министра внутренних дел и генерал-губернатора. Не знаю, отчего ты думаешь, что предложение Лепешкина переходит за черту и создает невозможные отношения между Думою и государем. Так как оно идет на высочайшее соизволение, то оно менее резко, нежели простое выражение благодарности и сожаления, притом нужно именно, чтобы оно дошло до государя. Щербатов, которому я сообщил приговор, пишет, что он считает его самым лучшим и самым сильнейшим протестом со стороны Думы, радуется за нее и за меня. Репрессивных мер против Москвы я не боюсь; десять раз подумают, прежде нежели к ним прибегать; да если бы на это и решились, то, право, это гораздо лучше, нежели нынешнее унизительное и все мертвящее положение. Еще менее боюсь заявлений радикализма. Во-первых, с ними можно сговориться, а во-вторых, надобно именно напирать на то, что, когда прогоняют консерваторов, то неизбежно выдвигаются вперед радикалы. Есть случаи, когда консерваторам и радикалам приходится действовать вместе, именно когда власть одинаково направляет свои удары на тех и других. От нее зависит их соединить или разделить. Единственное, что могло бы заставить отступить от принятого раз и отмененного по чисто формальной причине предложения, это – опасение, что сама Дума спасует; ее надобно спасти от подобного унижения. Но об этом я отсюда не в состоянии судить. Если бы дело шло о другом, и я был бы уверен в Думе, я бы ни на минуту не усомнился вести его до конца. В настоящем же случае, предоставляю вам действовать, как знаете. Вот письмо; делайте из него что угодно… Мы мирно живем в деревне, – прибавлял я, – и очень доволен своею судьбою. Я отдохнул, что мне весьма было нужно, и нисколько не сожалею обо всем происшедшем. Напротив, считаю это во многих отношениях весьма полезным. Для меня вопрос ставится так: самим ли действовать или предоставить действие одним нигилистам? Последнее представляется мне вовсе не желательным; напротив, вижу спасение России только в первом, хотя должен сознаться, что при дряблости русского общества на это мало надежды. Но попытаться во всяком случае следует; в этом состоит общая наша гражданская обязанность».
Я сознавал и теперь сознаю, что эту обязанность я исполнил и тем получил право говорить о равнодушии, бездеятельности и раболепстве русского общества. Если меня не поддержали, то в этом виноват не я.
Получив мой ответ, Самарин опять собрал на совещание Аксенова, Третьякова и Герье. По прочтении моего письма, Третьяков воскликнул: «Вот и прекрасно!» Аксенов был того же мнения. Но Самарин, одумавшись, решил, что моего письма в Думу представить нельзя, и Герье с ним согласился. Таким образом, этот компромисс был устранен.
Взамен того пошли на другой, гораздо худший, хотя для меня он имел ту выгоду, что я лично не был ни во что впутан. Вопреки закону постановление Губернского присутствия, кассирующее приговор Думы, не было предъявлено собранию. Молчаливым соглашением никто вопроса не поднимал, и дело просто кануло в воду. Представители города были запуганы, и власть торжествовала. Не могу не сказать, что Самарин не оказался в этом случае на высоте той роли, которую он призван был играть. От купцов и мещан трудно было требовать гражданского мужества. Они издавна привыкли преклоняться перед властью. Частные их интересы находились в полной зависимости как от министерства, так и от генерал-губернатора, особенно при тех широких полномочиях, которые были предоставлены последнему. Из других сословий никто не имел нужного авторитета. Самарин один в этом собрании являлся представителем лучших преданий дворянской независимости; при совокупном действии сословий, эти благородные предания следовало поддержать, как пример и поучение другим, и он имел достаточно веса, чтобы настаивать на своем мнении. Если бы даже Дума за ним не последовала, он мог бы выйти из гласных, и этот протест против общественной дряблости имел бы свое высокое значение. Но к такому решительному способу действия он, ни по характеру, ни по образу мыслей, не был способен. Слишком консервативные убеждения, опасение в такие смутные времена стать в оппозиционное отношение к правительству, боязнь радикалов, все это повело к тому, что и он, вместе с другими, пошел на эту недостойную Думы сделку, которая как нельзя более приходилась на руку генерал-губернатору.
Скоро представился случай повторить манифестацию, не возбуждая прений. Первые выборы в городские головы вслед за моим выходом не привели ни к какому результату. Баллотировались два кандидата: думский кривотолк Иван Николаевич Мамонтов, который уверял, что его требует общественное мнение, и кандидат князя Долгорукого, довольно грязный, разорившийся аферист Пороховщиков, выступавший уже при моем выборе. Оба были забаллотированы, и Дума решила остаться при исправляющем должность до новых общих выборов, которые должны были наступить через год. На этих выборах я заочно был выбран гласным от первого разряда. Щербатов и Самарин отказались от баллотировки. В это время мы поехали в Москву, чтобы окончательно распорядиться с своею квартирою и мебелью. В качестве гласного я отправился на открытие Думы. Найденов с некоторым самодовольством заявил мне, что он хлопотал о моем избрании, так как он не принадлежит к партии Долгорукого. После присяги было короткое заседание. Охлябинин произнес маленькую речь, в которой, между прочим, выразил удовольствие по поводу того, что гласные видят меня опять в своей среде. Эти слова произвели гвалт, не в собрании конечно, а в правящих сферах. Князь Долгорукий послал жалобу на Охлябинина министру юстиции и даже самому государю, выставляя этого почтенного и весьма умеренного человека красным революционером. Охлябинин был членом Судебной палаты; к великому его негодованию, на него восстали даже его товарищи, заискивавшие у правительства. Не имея самостоятельных средств к жизни, он принужден был выйти из Думы.
Затем приходилось выбирать городского голову. Аксенов приехал ко мне с вопросом: соглашусь ли я баллотироваться? Я отвечал, что лично не имею никакого желания, при нынешних обстоятельствах, сделаться опять городским головой и думаю, что меня не утвердят; но если Дума желает поддержать свое достоинство и показать свою независимость, выбирая меня, то я готов баллотироваться. Здесь был случай подняться после сделанной генерал-губернатору уступки, которая по-моему мнению, была унижением. Я советовал только выбрать второго кандидата, которого бы государь мог утвердить. То же самое я повторил Ушакову, который приезжал ко мне с тем же вопросом, и наконец Осипову. Но, по совещании, купцы не решились идти на такую демонстрацию. По запискам я получил всего 37 голосов, в том числе порядочное количество от избирателей третьего разряда, некоторые из которых изъявляли мне тайное сочувствие и уговаривали баллотироваться. Таким образом я окончательно был сдан в архив.
Обстоятельства, сопровождавшие эти последние выборы, были довольно забавны; они характеризуют действия московских правителей. В это самое время сестра моей жены[180]180
Мария Алексеевна Кочубей, рожд. Капнист.
[Закрыть] заболела в деревне, и мы собрались туда ехать. День отъезда был уже назначен, но потом отложен вследствие полученной телеграммы. Я нарочно не посылал отказа от баллотировки, зная, что городские власти ожидают ее с трепетом. Глупость их была так велика, что они не понимали, что я при 37 записках не могу баллотироваться. За каждым моим шагом следили тайные агенты; о каждом моем движении власти были осведомлены. Утром мне случилось зайти в Управу за справкою по какому-то неважному думскому делу. Тотчас Ушаков был вытребован к Перфильеву и подвергнут допросу, зачем я именно приходил. Полагая, что мне придется уехать до выборов, я отдал свой отказ жене Герье, которая приезжала навестить мою жену, и просил ее передать эту бумагу ее мужу, с тем чтобы он хранил ее в тайне и предъявил только в самую минуту баллотировки. Но несмотря на эти предосторожности, несмотря на то, что и Герье, и его жена были люди, на скромность которых можно было вполне положиться, Перфильеву каким-то образом сделалось известным, что в руках Герье находится эта бумага, и он допрашивал Ушакова, почему она не поступила в Управу. За справками был отряжен и обер-полицеймейстер Козлов. Он воспользовался случаем находки украденного у моей жены медальона, чтобы приехать к ней с визитом и расспросить ее, когда именно мы едем. Жена иронически отвечала, что еще неизвестно, но что во всяком случае мы отправляемся не в Вятку. Он очень сконфузился. Наконец наступил вечер выборов. Перед самым заседанием я подал свой отказ. Тотчас об этом дали знать князю Долгорукому, который в страхе ожидал исхода. Когда приехавший из Думы чиновник сообщил ему эту радостную весть, он вскочил со стула и воскликнул от полноты облегченного сердца. «Я всегда говорил, что он благородный человек!» Некоторые из доброжелательных мне гласных опять тайком уговаривали меня баллотироваться; но я отвечал им: «дайте мне 90 записок вместо 37, и я пойду, а теперь об этом не может быть речи». Баллотировались опять те же кандидаты, Мамонтов и Пороховщиков, и опять были забаллотированы.
Купечество искало, однако, исхода. На этом же собрании я увидел Аксенова и Найденова в тайном совещании с Степаном Алексеевичем Тарасовым. Это был пожилых лет гласный, бывший когда-то правителем канцелярии обер-полицеймейстера, затем председателем одного из московских мировых съездов, в то время когда Москва была разделена на два мировых округа*, человек с порядочным состоянием вследствие женитьбы на богатой купчихе, но совершенно пошлый и раболепный, именно такой кандидат, какой требовался князю Долгорукому. И его-то прочило в городские головы именитое московское купечество, его уговаривал Найденов, который после моей отставки хорохорился и говорил, что очень ошибаются, если думают, что все пройдет гладко, Найденов, который недавно еще [181]181
При введении мировых учреждений 17 мая 1866 г. Москва была разделена на два мировых округа, в каждом из которых был особый съезд. Но уже 15 января 1867 г. на соединенном совещании судей обоих «кругов постановлено ходатайствовать о соединении всех мировых судей г. Москвы в один мировой округ с одним мировым съездом. Соответствующее постановление Сената состоялось 11 сентября 1872 г. С. А. Тарасов был председателем I округа в течение трехлетия с 1866 по 1869 гг.
[Закрыть] хвастался передо мною, что он не принадлежит к партии Долгорукого. И многие гласные, которым это вовсе было не к лицу, пошли на эту сделку. Но Алексеев был возмущен и на выборах объявил, что пойдет баллотироваться в конкуренцию с Тарасовым. Он получил всего несколькими голосами меньше, и тот был утвержден.
Однако выбор генерал-губернаторского лакея вышел неудачный. Тарасов совсем потерял голову и даже заболел. Через несколько месяцев он принужден был выйти в отставку. Оставался один возможный кандидат – Алексеев. Найденов его ненавидел, и вообще старые купцы его недолюбливали; но делать было нечего: надобно было согласиться. Алексеев был выбран значительным большинством и с первых же шагов воцарился в Думе. Это было уже не самоуправление, а самовластие на общественной почве. Своею энергиею, деятельностью, умом, а частью и бесцеремонностью, он одних привлек, а других обуздал. Купцы гордились им, как своим братом, и поддерживали его массой: противники частью удалились из Думы, частью замолкли. Ораторов из третьего разряда он осаживал грубым проявлением власти; всякие неприятные ему предложения он устранял, не стесняясь. Вообще, несмотря на некоторые довольно крупные промахи, дело шло как по маслу. Дума безмолвствовала, а голова делал, что хотел.
Выселившись из Москвы, я вышел из числа гласных. Но при наступлении нового трехлетия, я опять был выбран как в Думу, так и в Губернское собрание. Алексеев, который всегда оказывал мне большое расположение, убедительно просил меня не отказываться, полагая, что желание видеть опального голову своим сочленом все-таки знак порядочности. Доселе, как я проездом бываю в Москве, я являюсь в заседание Думы и, должен сказать, всегда с некоторым удовольствием. Вижу все знакомые лица, которые встречают меня с радушным приветом. Я как будто возвращаюсь в свою семью[182]182
Это было писано в 1892 г. В 1893 г., при введении нового Городового положения, я продал свой московский дом, купленный для выбора в головы и, потеряв ценз, окончательно вышел из Думы. – Прим. Б.Н. Чичерина.
[Закрыть]. Видя, как ведет себя благородное российское дворянство относительно власти, я не могу слишком строго судить купечество, которое веками было приучено к рабской покорности, и которого все жизненные интересы зависят от произвола власти. «Если бы мы вздумали делать оппозицию, нас бы в бараний рог согнули», – сказал мне как-то Осипов в оправдание их поведения.
По этому поводу мне припоминается разговор, который я имел с Дмитрием Алексеевичем Милютиным во время коронации. Он расспрашивал меня об условиях моей деятельности. «Вам, должно быть, хлопотливо и неприятно иметь дело с таким разношерстным составом», – заметил он. «Бывает подчас неприятно, – отвечал я; – но съездишь в Петербург и утешишься». «Я в первый раз слышу, что Петербург производит такое действие». «Это очень просто, – сказал я, – когда вернешься оттуда, то видишь, что жить и действовать среди московских купцов и мещан еще рай земной в сравнении с тамошней атмосферой».
И эта темная масса поднялась бы еще на совершенно иную высоту, если бы на нее постоянно и непреклонно не давило сверху развращающее действие власти. Благородные стремления общества воспитываются теми людьми, которые стоят в его главе. Надобно показать ему возвышенные цели и поддерживать в нем независимые чувства; тогда оно воспрянет освеженное и бодрое. Но когда сверху все направлено к тому, чтобы подавить в обществе всякую независимость и развить в нем раболепное подчинение, когда самостоятельная мысль преследуется, как возмущение, а на вершине не видать ничего, кроме лицемерия, произвола и лжи, то, чего можно требовать от подвластных. В течение двадцати пяти лет во главе Москвы было поставлено лицо, как князь Владимир Андреевич Долгорукий, какие могли быть плоды такого управления! Великие преобразования Александра Второго были рассчитаны на то, чтобы дать русскому обществу возможность стоять на своих ногах; но и он, и еще более его преемник, делали все, что могли, чтобы унизить это освобожденное общество и не дать созреть посеянным плодам. Ныне Россия управляется отребьем русского народа, теми, которых раболепство все превозмогло, и в которых окончательно заглохло даже то, что в них было порядочного смолоду. При таких условиях ограничение самодержавной власти становится насущною потребностью. Оно одно может очистить охватывающую нас со всех сторон удушливую атмосферу, внести жизнь в гниющее болото и дать вздохнуть тем здоровым элементам, которые таятся в недрах Русской земли. Этот исход увидят наши потомки.









































