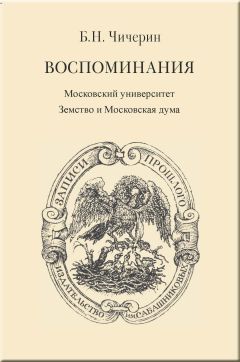
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)
Не доверяя одностороннему изложению дела, государь старался, однако, разведать о нем у людей беспристрастных; но, как обыкновенно бывает у царей, не одаренных высшим чутьем, делал это совершенно невпопад. Лет десять спустя, легонький член Государственного совета Борис Павлович Мансуров, который при Головнине был директором Департамента народного просвещения, а с назначением Толстого оставил свое место и проживал в Москве, сам рассказывал мне, что, приехавши в это время в Петербург, он отправился представляться во дворец. Государь спросил его, как приезжего из Москвы, что он знает об этом деле и каково его мнение? Тот, не обинуясь, отвечал, что мы, разумеется, виноваты, ибо мы восстаем против большинства: если большинство решило, то надобно повиноваться. Сей государственный муж, прошедший всю бюрократическую лестницу и достигший высших почестей, по-видимому, не подозревал, что большинству не все дозволено, что свобода мнений меньшинства везде ограждается, и что на это существуют положительные законы Русской империи, в пределах которых каждый обязан действовать. Мы, конечно, сделали промах, тем, что не заботились о распространении истинных понятий об университетских событиях в московском обществе; но кому могло прийти в голову, что государь будет допрашивать Бориса Павловича Мансурова, и что Мансуров, с невероятным легкомыслием, выскажет ему мнение о деле, о котором он не имел ни малейшего понятия? Со стороны Толстого не последовало никакого ответа на наше письмо; это было слишком опасно. Но была сделана попытка к примирению, кажется, впрочем, только для вида.
Однажды на еженедельный вечерний прием к Соловьеву явился Калачов, и объявил, что Толстой поручил ему познакомиться с делом и постараться его уладить. Мы спросили: известна ли ему бумага министра, которая была причиною нашей отставки? Он отвечал, что нет. Ему прочли бумагу. Калачов, который был юрист, тут же воскликнул: «Да это нелепость!» Ему отвечали, что это не только нелепость, но вдобавок и ложь. Чтобы повернуть дело против нас, надо было что-нибудь сочинить; но умные головы Министерства народного просвещения не умели ничего придумать, кроме такого элементарного вздора, который мало-мальски опытному юристу кидался в глаза. И на основании этого чистейшего вздора нас осуждали, правительственные лица смотрели на нас, как на революционеров, и даже люди, подвизавшиеся на государственном поприще и занимавшие важные места, видели в нас бунтовщиков, ополчающихся против большинства! Таков был хаос понятий, среди которого приходилось жить и действовать. Посредничество Калачова не имело дальнейшего хода. Если бы он высказался против нас, то это бы, разумеется, раздули; но так как он понимал настоящее дело, то его просто устранили.
Окончательно вопрос должен был решиться с приездом государя в Москву по случаю бракосочетания наследника. В Москве пошли толки, что единственный выход из этой несчастной истории состоял в том, чтоб государь просил нас остаться. Попечитель жадно ухватился за эту мысль. Мне она была очень не по нутру. Отмена оскорбительных постановлений Совета была для меня вопросом чести, и я не думал, чтобы просьба государя могла служить достаточным удовлетворением. Благороднее было бы даже пожертвовать личным делом общественному благу и пользе университета, не дожидаясь монаршего слова. Но я был не один. Другие мои товарищи не были в таком положении, как я; им подобный исход мог быть желателен. Поэтому я молчал, не предъявляя никаких требований и предоставив все ведение дела Соловьеву.
Со стен Кремля смотрел я на въезд, который был весьма неторжественный. Погода была мрачная и холодная; шел мокрый снег. Я видел в этом изображение наступившей для России поры реакции. Цесаревич созвал к себе всех бывших преподавателей своего покойного брата и своих. Это был знак сочувствия. О нашем деле не было сказано ни слова, но он старался быть по возможности любезен.
Во дворе был бал, на который приглашались по чинам. Поэтому я там не был, ибо чина не имел никакого. В университет я поступил исправляющим должность экстраординарного профессора, а по закону исправляющие должность не переименовывались в чин, соответствующий ученой степени. В таком бесчинном положении я остался и доселе, ибо, хотя, сделавшись ординарным, я был представлен, но вышел в отставку прежде, нежели я был утвержден.
На следующее утро, только что я проснулся, я получил радостную записку от Щербатова, который первый хотел известить меня о случившемся. Он писал, что на бале заявлена была просьба государя, чтобы мы остались в университете, что бывшие там профессора изъявили свое согласие, и что, таким образом, наше дело благополучно кончено. Меня, признаюсь, это покоробило. Вслед за тем я получил записку от попечителя с приглашением явиться к нему. Левшин рассказал мне, что он приступил к государю со словами: «Государь, спасите университет!» Государь сначала колебался, но затем спросил Левшина: уверен ли он, что мы не откажемся взять отставку назад? Левшин отвечал, что он не обратился бы к государю, если бы не был в том уверен. Тогда государь поручил ему сказать нам, что, хотя мы в этом деле виноваты но, так как некоторые из нас преподавали покойному наследнику, то он, в уважение к этим заслугам, просит нас оставаться в университете.
Итак, я не только не получил удовлетворения, но осуждался с высоты престола, подвергаясь при этом нравственному унижению, ибо я должен был вопросом чести жертвовать нехотя выраженному желанию осуждавшего меня государя. Мои товарищи могли изъявить согласие, ибо они находились совсем в другом положении; но я в собственных глазах считал бы себя виновным в раболепстве, если бы пошел на такую сделку. Но отказываться, и тем самым выдавать товарищей не было возможности. Я тут же решил оказать уважение воле государя и взять свое прошение назад, чем самым совокупное дело кончалось, и уничтожалась всякая солидарность; но затем я уже мог действовать один и через полгода выйти в отставку. Так я и сделал. Но любопытно, что эти, по-видимому, столь простые и естественные рассуждения даже в самых близких мне людях не нашли поддержки и одобрения. Посторонние же видели в исходе этого дела какую-то одержанную нами великую победу. На Сокольничьем празднике, который дан был на второй или на третий день после бала, все с радостными лицами поздравляли меня, до такой степени в русском обществе слово государя считалось чем-то сверхъестественным, все покрывающим. Исаков даже рассердился, когда я сказал ему, что мы не только осуждены, но унижены, и что в этом положении я остаться не могу. В течение следующего полугодия меня со всех сторон уговаривали не покидать университета. Но я стоял на своем, могу сказать, один против всех, будучи убежден, что, жертвуя личным своим достоинством, я подал бы безнравственный пример молодым поколениям, которых я призван был руководить. Этого никто не в праве делать, и никакое преподавание не может вознаградить за такой недостаток нравственного чувства. Впоследствии мои друзья признали, что я был прав. Сам Соловьев сказал мне, что он жалел о том, что его сбили с толку, и он согласился остаться по просьбе государя: было бы гораздо лучше, если бы мы вышли все вместе. Действительно, подобные сделки дают только более силы торжествующей неправде. От этого у нас в России так мелки взгляды и так редки характеры.
Лично для меня это был наилучший исход. Никого не увлекая за собою, я выходил из среды, которая внушала мне омерзение и возвращался к независимой жизни и к любимым занятиям. Профессуру я покидал без сожаления. В сущности, я никогда не чувствовал к ней ни малейшего призвания. Я принял ее вследствие сердечных воспоминаний о проведенных в университете блаженных днях молодости и о тех людях, которые составляли его красу; я считал ее временно полезною для утверждения в науке, которую лучше всего изучаешь, когда ее приходится преподавать; но к самому преподаванию я не чувствовал никакой наклонности. Я рожден писателем, а не профессором. Постоянный монолог был мне всегда противен. Мне случалось иногда говорить с увлечением в общественных собраниях, где вопросы обсуждаются с разных сторон, и есть противники, которые смотрят на дело иначе. Но вечно говорить одному в виде поучения было для меня делом насилия над собою. Это не было свободное излияние мысли, а плод трудного приготовления. К этому присоединялось и то, что профессору приходится всякий год читать одно и то же, а повторение было мне всего ненавистнее. Не знаю, как делают другие, но я всегда чувствовал себя в самом неприятном положении. Обязанность заставляет читать студентам целую науку; но всю ее разом осилить нельзя: надобно обрабатывать ее по частям. Поэтому приходится читать частью то, чего еще основательно не знаешь. К тому же читать по тетради каждый год одно и то же и самому неприятно и на слушателей производит нехорошее впечатление; а изменять изложение, единственно для того, чтобы не читать одно и то же, как-то глупо: это значит бросать время на совершенно бесполезный труд. Из этих затруднений я никогда не мог выпутаться и постоянно говорил своим друзьям, что я напишу руководство для студентов и затем выйду из университета; читать же двадцать лет одну и ту же науку я решительно не в силах. Судьба сократила этот срок и возвратила мне свободу, на что я вовсе не сетовал. «Вот Вы сразу достигли того будущего, о котором так мечтали, – писала мне баронесса Раден, – уединения в Карауле и литературного труда»[78]78
Слова баронессы в подлиннике приведены по-французски.
[Закрыть].
Но если я для себя лично не имел причин жалеть об исходе дела, то я не мог скорбеть о нем глубоко с общественной точки зрения. Я видел разложение любимого университета. Он, а с ним и судьба воспитывающихся в нем молодых поколений предавались на жертву господствующей грязи. Еще грустнее было думать о том положении общества, в котором возможны подобные явления. Это было уже не царствование Николая, когда невыносимый гнет подавлял всякий независимый голос. После освобождения крестьян, после всех совершенных реформ, обновивших всю русскую землю, при допущенной в ней широкой гласности, приходилось повторять стихи, писанные в самую темную пору прошлого царствования:
Самая свобода печати, к которой мы взывали, как к якорю спасения, служила орудием неправды. С целью приобрести поддержку влиятельного журнала, министр утверждал беззаконие и гнал честных людей. На что же было надеяться, когда и высшие сферы, и бюрократия, и журналистика, и первое ученое сословие в государстве все соединились, чтобы попирать ногами самые элементарные начала справедливости, закона и даже приличия? Я увидел, что России придется еще пройти через долгий путь, прежде нежели выработается что-нибудь порядочное из этого мутного потока, в котором могла найти обильную пищу только самая беззастенчивая ложь. Удалиться из этой смрадной атмосферы в тишину частной жизни и там, на досуге, заняться трудом, который мог бы служить материалом для будущего здания русского просвещения, такова была отныне моя цель.
Осенью 1867 года я вернулся в Москву и возобновил свой курс, не посещая заседаний Совета. Но я не скрывал, что это полугодие будет последним. Я хотел, кончая курс, сказать несколько прощальных слов студентам; но университетское начальство приняло против этого свои меры. Накануне последней лекции, за несколько дней перед Рождеством, я получил неожиданное извещение, что все курсы закрыты, и чтения прекращены. Мне оставалось обратиться к своим слушателям письменно и проститься с ними заочно. Это я и сделал в следующем прощальном письме, которое я передал некоторым студентам, для сообщения остальным.
Прощальное письмо моим слушателям
Распоряжение университетского начальства, неожиданно прекратившее лекции ранее установленного срока, не позволило мне завершить свои чтения и проститься с вами, как преподавателю. Мы, надеюсь, встретимся еще на пути жизни, и встретимся добрыми друзьями, но на кафедре вы меня более не увидите. Жалею, что должен с вами расстаться, жалею, что не могу кончить начатого курса, но есть обстоятельства, когда требования чести говорят громче всяких других соображений. Честь и совесть не дозволяют мне долее оставаться в университете. Вы, мои друзья, еще молоды, вы не разучились ставить нравственные побуждения выше всего на свете. Поэтому, надеюсь, вы не будете сетовать на меня за то, что я прерываю свой курс. Я считаю себя обязанным не только действовать на Ваш ум, но и подать вам нравственный пример, явиться перед вами и человеком, и гражданином. Нравственные отношения между преподавателем и слушателями составляют лучший плод университетской жизни. Наука дает человеку не один запас сведений; она возвышает и облагораживает душу. Человек, воспитанный на любви к науке, не продаст истины ни за какие блага в мире. Таков драгоценный завет, который мы получили от своих предшественников на университетской кафедре. На ней всегда встречались люди, которые всегда высоко держали нравственное знамя. Теперь, покидая университет, я утешаю себя сознанием, что мы с товарищами остались верны этому знамени, что мы честно, по совести исполнили свой долг и не унизили своего высокого призвания. Желаю и вам крепко держаться этих начал и разнести доброе семя по всем концам Русской земли, твердо помня свой гражданский долг, не повинуясь минутному ветру общественных увлечений, не унижаясь перед властью и не преклоняя главы своей перед неправдой. Россия нуждается в людях с крепкими и самостоятельными убеждениями; они составляют для нее лучший залог будущего. Но крепкие убеждения не обретаются на площади; они добываются серьезным и упорным умственным трудом. Направить вас на этот путь, представить вам образец науки строгой и спокойной, независимой от внешних партий, стремлений и страстей, науки, способной возвести человека в высшую область, где силы духа мужают и приобретают новый полет, таков был для меня идеал преподавания. Насколько я успел достигнуть своей цели, вы сами тому лучшие судьи! Во всяком случае, расставаясь с вами, я питаю в себе уверенность, что оставляю среди вас добрую память и честное имя. Это будет мне служить вознаграждением за все остальное.
Москва, 19 декабря 1867 г.
Со студентами я вообще был в самых лучших отношениях. Моя аудитория была всегда полна; многие ходили ко мне на дом за книгами и советами. Все толки об университетской истории и весть о нашей отставке они горячо принимали к сердцу. Еще в 1866 году, при самом начале пререканий, некоторые из выходящих юристов пожелали дать прощальный обед своим любимым профессорам: Бабсту, Капустину, Дмитриеву и мне. Это была дружеская беседа в тесном кругу. На следующий день мы все общей группой сняли свои фотографии. Теперь студенты всех курсов юридического факультета задумали дать мне прощальный обед. К ним присоединились и профессора, мне сочувствовавшие. Примкнули и мои старые университетские товарищи и друзья. Обед вышел многолюдный и сердечный. Помещаю здесь его описание, напечатанное в то время в «Русских Ведомостях» за подписью студента». Это будет последний из документов по этой печальной истории, единственный, который доставил мне некоторую отраду.
Прощальный обед Б.Н. Чичерину[80]80
NB. 28 января 1868 года. «Рус. Вед.», 4 февраля, № 29. – Прим. Б. Н Чичерина.
[Закрыть]
В пятницу, 26 января, мы давали прощальный обед нашему бывшему профессору – Борису Николаевичу Чичерину. Еще задолго до этого дня в университете разнесся слух о том, что наш многоуважаемый профессор, успевший в короткое время приобрести заслуженное уважение своей полезной деятельностью на кафедре и в литературе, – выходит по каким то обстоятельствам в отставку, не успев даже дочитать полного курса своим слушателям. Слух этот скоро был подтвержден печатно и мы не знали, чему приписать такое неожиданное удаление Бориса Николаевича из университета, которому он с усердием человека, понимающего всю важность взятой им на себя обязанности, честно посвящал в течение нескольких лет все свои силы и способности. Мы надеялись, что на последней лекции, которую Борис Николаевич должен был читать 19 декабря (последний день первого академического полугодия), по обычаю нашего университета, он скажет нам несколько прощальных слов и уяснит ими хотя отчасти причины своей отставки. Но обстоятельства сложились так несчастливо, что нам не удалось послушать эту прощальную лекцию. Между студентами начали ходить всевозможные толки и, наконец, некоторые из нас решили отправиться к Борису Николаевичу за объяснением. Он счел долгом успокоить нас письмом, обращенным к студентам, в котором объяснил, что это не от него зависело. Убедившись в этом, мы решили заявить ему, по крайней мере, общее наше сочувствие, собравшись вместе на прощальном обеде.
Многие из прежних университетских товарищей Бориса Николаевича пожелали также принять участие в этом печальном пиршестве, и тотчас же около 180 человек послали ему приглашение на обед. Распорядителем мы выбрали профессора Федора Михайловича Дмитриева, так как нам известно было, что он находится в самых дружеских отношениях к Борису Николаевичу и примет, следовательно, живое участие в нашем намерении. Другим распорядителем обеда был П. Ф. Самарин, товарищ по студенчеству профессора Чичерина.
26 января мы все собрались в гостинице Лабади, где был назначен обед. Кроме студентов, в нем принимали участие следующие профессора: С. М. Соловьев, уважаемый нами профессор и историк, на глазах и под руководством которого воспитывалось не одно поколение в университете и в том числе Борис Николаевич, М. Н. Капустин, Ф. И. Буслаев, С. А. Рачинский, Ф. А. Слудский, В. И. Герье, Н. А. Попов, А. А. Дювернуа, Ф. Е. Корш. Из посторонних лиц участвовали в обеде многие бывшие товарищи Бориса Николаевича по университету, его друзья и знакомые. Из литераторов здесь находились: Ю. Ф. Самарин, Е. Ф. Корш, И. X. Кетчер, И. Е. Забелин, А. В. Станкевич и В. И. Сергеевич, недавно защищавший диссертацию на магистра государственного права, и одним из самых сильных оппонентов которого был Борис Николаевич.
Обед приготовлен был в зале артистического кружка. Около 5 часов приехал виновник пиршества и, только что он вошел, зал огласился аплодисментами и криками приветствия, которые провожали Бориса Николаевича до самого места, назначенного для него. Начался обед, вовсе не похожий на официальные обеды. Непринужденность, с которой держали себя обедавшие, живые разговоры, раздававшиеся непрерывным гулом по залу, – даже простой выбор кушаньев, – все это показывало, что дело не в обеде, а в том чувстве, которое одушевляло собравшихся и свело их в этот день, как старых друзей, несмотря на то, что большая часть из них не были даже знакомы между собою. Студент не стеснялся присутствием профессора и смотрел на него не как на начальника, а как на человека, пришедшего вместе с ним изъявить сочувствие их общему другу. Когда были налиты бокалы, С. М. Соловьев обратился к профессору Чичерину с таким приветствием: «Борис Николаевич! Ваше профессорское поприще было кратко; но люди, которых вы видите здесь, пришли сказать вам, что в это короткое время Вы сделали много, и сделанное Вами забыто не будет. С горестью расставаясь с Вами, как с профессором, мы имеем утешительное убеждение, что не расстаемся с Вами, как с ученым; Вы не можете покинуть ученое поприще; Вы не имеете на это права; Вы не имеете для этого способности. Мы остаемся с Вами товарищами в стремлении к истине в науке и к правде в деле гражданском. Мы отпускаем Вас не на преждевременный отдых: от этих преждевременных отдыхов потеряно уже много сил, которые очень пригодились бы нашей России; отпускаем Вас с единодушным желанием, да поможет Вам бог продолжать Вашу сильную и многоплодную деятельность!».
Первые слова С. М. Соловьев говорил твердым голосом; но мало-помалу голос стал дрожать, и он окончил свою речь со слезами на глазах. Глубоко тронуты были слушавшие, видя, как этот заслуженный профессор, столько лет поддерживавший славу Московского университета, не мог скрыть своего чувства, прощаясь с одним из бывших учеников своих и товарищей по деятельности. Затем П. Ф. Самарин прочел следующее письмо кн. А. А. Щербатова: «Любезный друг Чичерин! Обстоятельства потребовали моего внезапного отъезда в Петербург. Грустно мне думать, что я не буду с тобой в тот день, когда твои друзья, товарищи и слушатели собираются вокруг тебя, чтобы выразить тебе свою любовь и уважение. Если бы я участвовал в сегодняшнем обеде, высоко я поднял бы бокал за твое здоровье, и от избытка сердца уста бы заговорили. Я бы сказал тебе многое и многое, и отвечаю, что не сказал бы ничего лишнего, ничего не сказал бы такого, что не исходило бы от чистого сердца, из убеждения. Я лишен этой возможности, но хотя отчасти хочу вознаградить себя, написавши эти строки, которые прошу кого-нибудь из присутствующих прочесть. Пусть мое слово, хоть к сожалению не живое, но искреннее и так и льющееся из под моего пера, будет услышано на твоем празднике. Мы оба с тобой не стары, но мы старые друзья: без малого 25 лет тому назад мы впервые сошлись с тобою на университетской скамье. От юношеских до теперешних наших лет много происходило с нами перемен; одно не изменилось: это наша взаимная дружба, основанная на взаимном доверии. И в радости, и в горе мы сочувственно протягивали друг другу руку и ободряли себя на житейском поприще. Искренно и долго любить можно только того человека, которого искренно уважаешь. Уважение – вот тот камень, на котором зиждутся самые прочные отношения между людьми, и это-то чувство, при 25-летнем испытании наших взаимных отношений, вполне и, можно сказать, навеки в нас выработалось. Наши поприща деятельности были совсем различны. Не дано мне судить и оценивать твои заслуги науке; это я предоставляю другим; но я знаю одно, что при разрешении всех тех вопросов, которые жизнь задает человеку, ты являлся вполне честным человеком, а быть всегда и во всем честным человеком – это и есть задача человека. Честный человек будет и честным гражданином, на каком бы поприще судьба его не поставила – и ты был таковым. Если мне будет позволено заочно провозгласить твой тост, я желаю его выразить так: за здоровье честного гражданина Бориса Чичерина!»
По прочтении письма П. Ф. Самарин, много помогавший студентам в устройстве обеда, сказал от себя несколько дружеских слов: «Борис Николаевич, мы все, твои товарищи, присоединяемся к этому теплому привету. Собравшись на настоящем празднике, мы дорожим случаем, чтобы заявить тебе публично, что мы, твои товарищи, считаем всю твою деятельность, во всех ее проявлениях, безукоризненно честною».
В это время вошел профессор Н. А. Попов, который был в этот день присяжным заседателем в Окружном суде и потому опоздал на обед. Он прочел письмо от профессора А. Ю. Давыдова, не присутствовавшего на обеде по той же причине. Вот его содержание: «Находясь в настоящее время в Окружном суде присяжным заседателем, я, к сожалению, не могу принять участия в прощальном обеде, который дают Вам Ваши товарищи и ученики. Но я не могу не присоединиться к ним с выражением моей искренней печали о том, что несчастное для нас стечение обстоятельств вырывает Вас из среды нашей. Университет лишается одного из своих лучших деятелей, ученики Ваши – своего любимого наставника и, глубоко скорбя, прощаются с Вами Ваши товарищи, умевшие ценить Вас. Когда наставники, посвятившие лучшие годы своей жизни служению университету, оставляют его, нас утешает надежда, что они заменятся новыми, свежими силами; но когда удаляются молодые деятели, блистательно начавшие свое поприще, они уносят с собою наши лучшие надежды».
Затем начались прощальные речи студентов. Вот эти речи в том порядке, как они были сказаны. Первая речь была следующая: «Мы, студенты второго курса, еще недавно оставили школьную скамью и вступили в тот возраст, когда начинается сознательная жизнь, кладется фундамент будущих понятий и убеждений. Мы шли в университетские аудитории с затаенным чувством радости, с надеждами и ожиданиями всего нового и хорошего. Мы думали встретить здесь представителей мысли и правды, почтительные дружеские отношения к которым должны были на нас благотворно подействовать, и наши представления о семье университетской осуществились, и мы нашли таких людей. Само собою разумеется, что мы привязались к ним всем сердцем, что нам дорого было каждое их слово. Как же должно быть грустно и тяжело нам, Борис Николаевич, в лице Вашем расставаться с одним из своих лучших, дорогих преподавателей! Мы только что успели понять и оценить Вас, и уже должны прощаться с Вами, и это тем более горько нам, что в Вас мы лишаемся и незаменимого профессора, и человека всегда готового протянуть нам опытную руку для нравственной помощи. Не в наших силах удержать Вас, хотя для этого можно многим пожертвовать. Нам остается выразить Вам горячую благодарность, пожелать Вам всего, всего лучшего и смело сказать, что то короткое время, когда Вы были с нами, навсегда останется в нашей памяти».
За этой речью следовала другая, столько же прочувствованная: «Вы нас оставляете! Юридический факультет теряет в Вас одного из лучших своих представителей; но бесспорно, что второй курс, к которому принадлежу и я, живее всех чувствует эту потерю, так как на нашу долю выпало лишиться любимого и уважаемого профессора, пройдя с ним только половину курса. Но не только профессора – мы лишаемся в Вас и друга, готового всегда и словом и делом помочь нам. Несмотря на это, Борис Николаевич, между нами нет никого, кто бы по совести решился упрекнуть Вас за Ваш выход, так как мы убеждены, что без особенно важных причин Вы не оставили бы нас на полдороге. Ваше преподавание, спокойное и беспристрастное, останется всегда в нашей памяти, и Ваше пребывание в университете составит одно из лучших наших воспоминаний о нем».
Затем следовали речи студентов старших курсов, несколько лет слушавших профессора Чичерина: «Борис Николаевич, было время, когда в университете преобладали патриархальные отношения. Они выражались в тесной связи слушателей с преподавателями и в духе единства между студентами. Это доброе, старое время имело, конечно, свои недостатки. Так, патриархальные отношения к профессорам и университетскому начальству доходили иногда до крайности, до смешного. Случались разные школьнические проделки с начальством, а дух единства между студентами принял, особенно в последнее время его существования, одностороннее и ложное направление, которое привело, наконец, к несчастной катастрофе 1861 года. Всякому известно, какое влияние имело это событие на университет. Прежний дух единства между студентами исчез, и вместе с тем явились новые отношения студентов к университету: отношения чисто формальные. Разъединившись между собою, студенты стали и к преподавателям своим в самые натянутые отношения. Профессора утратили возможность влиять нравственно на студентов и, следовательно, не могли выполнять всецело свое назначение. Винить, конечно, за такой порядок некого: виноваты обстоятельства, сложившиеся неблагоприятно; но во всяком случае студенты лишились громадной доли пользы, которую они могли бы вынести из университетского образования при других отношениях. Потребность сблизиться опять чувствуется обеими сторонами. Вы, Борис Николаевич, принадлежали к числу тех уважаемых профессоров, которые деятельно стремятся восстановить прежние благотворные отношения. Для этого Вы не прибегали ни к каким искусственным мерам, а честным исполнением своих обязанностей внушили к себе полное доверие студентов. Слушая Ваши лекции, мы не только в содержании их находили себе руководство для самостоятельных занятий, но и по внешней отделке видим, что Вы положили не мало труда на исполнение своей обязанности. Отправляясь к Вам на экзамен, студент мог, соображаясь со своими познаниями, вперед безошибочно сказать, какую отметку Вы ему поставите. По сочинениям, поданным Вам и полученным от Вас обратно, видно, что и к этому нововведению Вы отнеслись не как к формальности, а как к мере действительно полезной. Нуждаясь в Ваших советах, всякий смело, без задней мысли, шел к Вам на квартиру. Наконец, если в Совете профессоров обсуждался какой-нибудь вопрос, живо затрагивающий наши интересы, мы были уверены, что Вы подадите голос за правое дело, не руководствуясь никакими посторонними соображениями. Одним словом, Вы не только Вашими знаниями приносили нам пользу в занятиях, но и оказывали вместе с тем благотворное нравственное влияние своею безупречною личностью и честною деятельностью. Прискорбно видеть, что обстоятельства заставляют подобных людей преждевременно покидать свое полезное дело; остается нам утешать себя тою уверенностью, что Вы можете влиять на нас благотворно и вне стен университета, посвятив себя деятельности более обширной».
Четвертая речь была такого содержания: «Выражать свои чувства к Вам в эту минуту было бы плеоназмом; факт, что мы собрались здесь за одним столом, как нельзя лучше доказывает глубокое уважение слушателей к своему любимому профессору, и если я прошу слова, то потому, что не могу, в последний раз прощаясь с Вами, не высказать беспредельной благодарности за лекции, которые всегда оставляли в слушателях истинное желание работать и трудиться. Да, Вы своим нравственным влиянием умели заставить нас забыть о пустых развлечениях и серьезно относиться к нашим занятиям. Но, к несчастью, кафедра опустела, и неизвестно кому быть Вашим преемником. А между тем, следующие за нами товарищи лишены того благотворного влияния, которым пользовались мы. Им не суждено воодушевляться тем живым, сильным словом, которое воодушевляло нас. Но хорошее семя посеяно. Нужно позаботиться о процветании благого дела, и я уверен, Борис Николаевич, что Вы не откажетесь поддержать дух трудолюбия, Вами в нас посеянный, не откажетесь дать московским студентам руководительную нить к занятиям по своему предмету. Этим Вы удовлетворите искреннему желанию нашему, настоятельной нашей потребности и впредь быть руководимыми Вами и засвидетельствуете пред потомством о любви профессора к своим студентам. Благодарная же молодежь, будьте уверены, навсегда в стенах университета сумеет оставить твердую память о своих к Вам чувствах».
Пятая речь отличалась подробною оценкою университетской деятельности выходящего профессора: «Многоуважаемый наставник! Не всегда найдутся люди, способные вполне оценить те блага, которыми пользуются. Так и мы. Не один раз мы старались высказать Вам свои чувства, и, несмотря на это, замечание, которое я только что сделал, вполне верно. Только теперь каждый серьезно задумался над тем, что теряет он в Вас, и понял, чем Вы были для него. Сознавая перемену, происшедшую в его развитии и убеждениях, теперь каждый ясно, отчетливо видит, что эта перемена, результат Ваших чтений, глубока и плодотворна. Вот почему все мы и не только мы, будущие юристы, но и студенты других факультетов, не раз слушавшие Вас, так живо чувствуем свою утрату. Мы понимаем, как это отразится на наших менее счастливых преемниках. В самом деле, молодой человек, выходя из гимназии, разом освобождается от всякого контроля. В гимназии он занимается только потому, что его постоянно спрашивают, над ним тяготеет внешнее принуждение. В университете же все предоставляется его собственной воле. Я не говорю, чтобы такая свобода для студента была лишняя, но хочу только сказать, что поэтому самому здесь нужна другая сила, умеющая покорить себе молодые умы, покорить и направить их на лучшую дорогу. О том, что четыре года, проведенные в университете, самая важная эпоха в жизни человека – нечего и говорить. Можно наверное сказать, что тот, кто выйдет отсюда, не имея твердых и честных убеждений, не приобретет их во всю жизнь. Это ясно для всякого; это период, в котором развивается и крепнет умственная сторона человека, та благородная и возвышенная сторона, в силу которой мы уважаем и ставим человека выше всего, что есть на земле. Понятно, как необходим в этом периоде высокий руководитель. Россия нуждается в людях с твердыми и честными убеждениями; но такие люди вырабатываются не всякими наставниками. Конечно, никакой наставник не даст ума, если у слушателя его нет; но опытный руководитель сумеет пробудить и направить умственные силы питомцев. В отношении нас Вы были таким руководителем, до настоящего времени непосредственным, а далее, быть может, останетесь им при посредстве литературы. Вы сказали нам (в прощальном письме), что идеалом Вашего преподавания было представить образец науки строгой и спокойной, независимой от всяких партий, стремлений и страстей, науки, способной возвести человека в высшую область, где силы духа мужают и приобретают новый полет. Вы хотели направить нас на этот путь. Без лести, ради одной истины, можно сказать, что Вы были к этому способны. Я не могу достаточно выразить той глубокой признательности, того глубокого уважения, которым мы проникнуты, произнося Ваше имя. Да, студенты могут сказать без лести: «Никто лучше его не умел внушить нам любви к истине, знанию и труду. В его широком воззрении на жизнь и историю мы находили смягчение односторонних и резких направлений, встречающихся в жизни». Вы убедили нас, что нет наук, более способных дать широкое и верное понимание прошедшего и настоящего, как юриспруденция и история. Вы и словом и примером показали, что верные и прочные воззрения добываются только упорным умственным трудом. Стоит взять любое из Ваших сочинений, и всякий, имеяй очи видети, увидит, как справедливы эти слова. И едва ли есть наука, изучение которой в такой степени смягчало эгоистические наклонности человека и поднимало его на высшую степень нравственности, как право и история, эти в высшей степени гуманные науки. Воздавая должное Вашему благотворному влиянию на нас, я не могу не обратиться мысленно к лику того высокого и благородного наставника, который приготовил и оставил нам такого руководителя. Пусть все, любящие истину, верно хранят в сердце своем память о Т. Н. Грановском!»









































