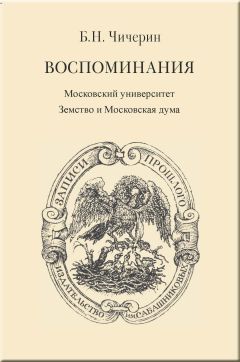
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 45 страниц)
Кроме собственно городского хозяйства, приходилось удовлетворять и потребностям государства. Из них в мое время наиболее хлопот причиняло расквартирование войска. Город владел многочисленными казармами, которые он обязан был ремонтировать и держать в порядке. Как раз перед моим вступлением выстроены были и великолепные Александровские казармы, стоившие значительных сумм. Но сверх того в Москву вводились все новые и новые части, для которых надобно было приискивать помещения, а с военным ведомством дело иметь было не легко. Оно находилось в то время, можно сказать, в анархическом состоянии. Милютин заменил корпусную систему окружною. После него опять были восстановлены корпуса, но и окружная система осталась, не слаженная с первою. Кроме того, были еще начальники отдельных частей, из которых каждый имел свой голос, и все пели врозь. Нельзя было знать, на кого же наконец положиться. А между тем городу предъявлялись требования, которые он должен был исполнить немедленно, не взирая ни на какие затруднения. Все это пришлось мне испытать при первом моем вступлении в должность.
Еще до меня, в июне 1881 года, Управа получила от Губернского распорядительного комитета требование о расквартировании двух батальонов II Гренадерского фанагорийского полка и двух батарей I Гренадерской артиллерийской бригады. Дело было спешное; найти и приспособить дом к помещению войск до возвращения их из лагеря было нелегко. После многих поисков, найден был старый пивоваренный завод, принадлежавший потомственному почетному гражданину Тимофею Терентьевичу Волкову. Осмотрев его совокупно с чинами военного ведомства, Управа нашла его подходящим, и Волков взялся сделать все нужные переделки и приспособления, с тем, чтобы с ним заключен был контракт на двенадцать лет. Контракт действительно был заключен, однако, под условием утверждения Думою. Но прежде, нежели Думе был представлен доклад, прежде даже нежели был сделан предписанный законом осмотр, войска, которым за холодным временем нельзя уже было оставаться в лагере, сами вошли в свои зимние квартиры и в них разместились. В таком виде я застал дело.
Прежде всего надобно было сделать официальный осмотр. Я созвал кого следует, и сам отправился на место. Но представитель артиллерийского ведомства не прибыл, и я должен был ограничиться частным осмотром вместе с начальниками и депутатом от Окружного штаба. Помещение было не отличное, но сносное; только в подвальном этаже, где помещались столовые, на стенах оказывалась маленькая сырость. Однако доктор заявил, что это подвальное помещение нездорово и непригодно для войск. Я сказал, что об этом надобно было говорить раньше, когда дом осматривался совокупно с депутатами военного ведомства, а не теперь, когда все уже устроено. Но доктор возразил, что тогда его не приглашали и заявил протест. Еще хуже вышло дело при официальном осмотре. Депутатом от артиллерийского ведомства явился генерал Щеголев, некогда прославившийся в чине прапорщика несколькими выстрелами, которые он сделал против соединенного англо-французского флота в Одессе. Он прямо объявил, что вся эта местность для артиллерии не годится. Я заметил, что это похоже на шутку: военное ведомство само одобрило эту местность и это помещение, а когда все готово, нам объявляют, что все это никуда не годится. Он возразил, что то было одно ведомство, а это другое.
С другой стороны, в самой Думе было неодолимое предубеждение и против дома Волкова, который считался негодным, и против самого Волкова, который действительно был старый плут, и, наконец, против прежней Управы, заключившей контракт. При обсуждении вопроса в собрании, попробовали сперва свалить все дело на Распорядительный комитет, предоставив ему нанять дом от себя. Но Распорядительный комитет снова перекинул нам брошенный ему мячик, и нам все-таки приходилось расхлебывать дело самим.
Начальник Окружного штаба, С. М. Духовской, в видах соглашения, предложил мне попробовать другую комбинацию, в которую входил и дом Волкова. Предполагалось соединить в одной местности все шесть артиллерийских батарей, стоявших в Москве, чего домогалось артиллерийское ведомство. Я согласился вести переговоры на этом основании и отрядил члена Управы для составления нового плана совокупно с депутатом от Штаба. Это был, помнится, полковник Милорадович. Целый месяц они работали и наконец представили план, который обе стороны нашли удовлетворительным. Надобно было сделать всеобщее передвижение, причем некоторые части вводились в недавно построенные Александровские казармы, которые были слишком просторны для помещавшихся там войск, и где требовалось только сделать небольшие пристройки. Мы вместе с Духовским объехали все помещения, переговорили с начальниками частей и нашли все вполне удобным. Затем последовал официальный осмотр, для которого был командирован тот же полковник Милорадович. Он сам писал протокол, и мы все его подписали. Этот протокол был передан на утверждение в Губернское по воинским делам присутствие, которого я, как городской голова, состоял членом. Протокол был прочтен в заседании. «А тут приложено еще особое мнение полковника Милорадовича», – сказал секретарь. «Какое особое мнение? – воскликнул я. – Он сам писал протокол и со всем был согласен».
Оказалось, что в этом особом мнении полковник Милорадович заявлял, что стоящие в Александровских казармах будут стеснены введением туда новых частей, а потому все предполагавшееся перемещение не может состояться. Я после узнал, что это было сделано по требованию командира гренадерского корпуса. Окружной штаб находил новый план расквартирования удобным, но в последнюю минуту корпусный командир наложил свой запрет, и вся наша работа пропала даром.
Между тем, дом Волкова все-таки оставался на руках; надобно было с ним покончить. Я полагал, что можно будет склонить Думу к утверждению контракта, если взять с Волкова обязательство, ограждающее город от возможного процесса. После долгих переговоров он наконец согласился и привез обязательство, написанное самым безграмотным образом, но, казалось, достаточное. Вся Управа сочла его таковым, и меня даже поздравляли с успехом, хотя много смеялись над слогом Тимофея Терентьевича. Я сам написал доклад и представил его в Думу, которая выбрала комиссию для рассмотрения дела. Не помню, кто именно, председатель ли комиссии Шилов нашел обязательство недостаточно ясным, или Ушаков выразил сомнение, но для приведения дела в полную ясность я вызвал Волкова и предложил ему подписать другую редакцию, ту самую, на которой мы предварительно сошлись. Но на этот раз он решительно отказался, говоря, что не желает надеть на себя петлю. Оказалось, что под безграмотностью скрывалась целая плутня. Он просто хотел меня надуть. Тогда я ему объявил, что у меня теперь развязаны руки: доселе я действовал не только в виду интересов города, но и с тем, чтобы ему была оказана справедливость; но после такого поступка я прерываю с ним всякие сношения, и вместо того, чтобы настаивать на заключении контракта, я предложу собранию этого контракта не утверждать, будучи уверен, что он судом ничего не получит. На том и порешили. Мы воспользовались тем, что войска вошли в дом самовольно и предложили им деньги, с тем, чтобы они наняли помещение от себя. Волков затеял было процесс, но неудачно, и все-таки согласился поместить войска по временному найму, чтобы получить что-нибудь. Этим, однако, вопрос о расквартировании войск не кончился. В Москву вводились еще две батареи, которые надобно было разместить. Некоторые уездные города сами просили оставить у них войска, которые доставляли им выгоду; но их оттуда выводили, а на Москву взваливали все новую и новую обузу. Нам в это время предложили нанять закрывшуюся фабрику, которая с некоторыми приспособлениями могла быть обращена в казармы. В нее можно было поместить не только две новые батареи, но и войска, стоявшие в доме Волкова. Помещение было осмотрено и найдено удовлетворительным; но прежде нежели приступить к этому делу, я счел необходимым переговорить с военным начальством. Видя, что преобладающий голос имеет здесь штаб гренадерского корпуса, я в начале лета 1883 года отправился в лагерь к начальнику штаба Маныкину-Невструеву и сообщил ему свои предположения. «Ради бога, не делайте этого, – отвечал он, – вы у нас все расстроите. Мы хотим соединить в одно место все шесть артиллерийских батарей и в настоящее время находимся в переговорах с военным министерством относительно приобретения дома с этою целью. Переговоры уже близятся к концу, а если вы сделаете предполагаемое вами размещение, то от этого надобно будет окончательно отказаться». «Хорошо, – сказал я, – это дело ваше; но только не ставьте нас потом в необходимость пороть горячку и готовить вам квартиры в осеннее время, когда порядком ничего нельзя сделать». Он обещал. Но вышло именно то, чего я опасался. Переговоры с военным министерством не привели ни к чему, и в октябре месяце вдруг Управе предъявлены были требования относительно немедленного расквартирования новых частей. В это время я уже оставил должность, и все хлопоты пали на моего заместителя. Ушаков с отчаянием писал мне: «Вы, конечно, не забыли ту путаницу, которою военный люд способен обставлять касающиеся до него дела; но вы не можете себе представить, до каких размеров довели эту путаницу в настоящее время, когда к концу приходит лагерная жизнь, и две батареи, батальон и целый казачий полк стоят перед нами как кошмары. Просто паутина, как говорится: ни в сказке сказать, ни пером написать. Разве только Щедрин способен изобразить эти дела в лицах и приличных им красках».
Как бесцеремонно военное ведомство обращалось с городом, можно видеть и из длившейся много лет истории с жандармским дивизионом. В Петербурге как помещение, так и содержание этого дивизиона были отнесены на счет казны. Но в Москве он стоял в принадлежащих городу Петровских казармах. Считая его частью войска, городское управление требовало уплаты тех окладов, которые по закону полагались за расквартирование войск. Но военное ведомство отказывалось их платить, ссылаясь на то, что дивизион исполняет полицейскую должность. С другой стороны, если дивизион считался полицией, то на городе, по закону, не лежала обязанность давать отопление и освещение, а между тем, с нас требовали и то и другое. Когда казне нужно было платить, жандармы оказывались полицией, когда нужно было получать деньги, они оказывались войском. Дума принесла жалобу в Сенат, но по обыкновению она лежала несколько лет без рассмотрения. При обсуждении сметы 1883 года, Холмский предложил выкинуть из сметы, с 15 марта, статью об отоплении и освещении жандармского дивизиона, и хотя я стоял за то, чтобы повременить решением до будущей сметы, однако Дума согласилась с Холмским. Но Губернское присутствие кассировало это постановление, и город должен был, по-прежнему, давать даровое помещение, как бы для полиции, и платить за отопление и освещение, как бы для войска. При этом, кажется, он остается и доныне.
Губернское по городским делам присутствие, которое было высшею инстанциею для городского управления, состояло из семи членов, четырех правительственных: губернатора, вице-губернатора, председателя Казенной палаты и товарища прокурора, и трех выборных: городского головы, председателя Губернской земской управы и председателя Мирового съезда. Но каково бы ни было дело, как бы ясны ни были права города, правительственные члены всегда подавали голос за правительственные требования, а так как они составляли большинство, то город никогда не мог добиться справедливого решения. Председатель Присутствия Василий Степанович Перфильев, бывший кирсановский предводитель и земский гласный, был мне приятель. Он был человек чрезвычайно мягкий и даже по направлению довольно либеральный, но перед властью он трепетал и не смел сделать ни единого шага, который мог бы быть поставлен ему в укор. К этому он побуждался личным положением: любя пожить, он растратил не только свое собственное состояние, но и состояние жены, а потому, волею или неволею, должен был держаться службы. Мне рассказывали, что иногда он, заливаясь слезами, говорил, что чувствует себя подлецом, оставаясь на своем месте, терпя всякие унижения от князя Долгорукого, но в виду жены принужден все это переносить. При таких условиях, он, конечно, был покорным исполнителем всякого беззаконного распоряжения. Один только раз вышел довольно забавный случай. Прислан был какой-то министерский циркуляр, нарушавший права города в явную противность закону. Три правительственных члена, разумеется, стояли за исполнение, а три выборных против. Вдруг, к крайнему моему изумлению, Перфильев начинает говорить в пользу города. Я сидел возле него. Наклонившись к нему на ухо, я шепнул: «Что это, Василий Степанович, вы, кажется, хотите сделаться гражданином?». Он мне, также шепотом, отвечал: «А который министр издал этот циркуляр?» «Прежний». «Так топи его!» – воскликнул он, рассмеявшись.
Но Перфильев был, в сущности, последняя спица в колеснице. Главное лицо, от которого все зависело и с которым более всего приходилось иметь дело, был генерал-губернатор, князь Владимир Андреевич Долгорукий.
В Москве было три генерал-губернатора, которые могут служить типическими представителями трех последовательных эпох русской истории. Князь Дмитрий Владимирович Голицын был настоящий вельможа времен Александра Первого, великосветский, просвещенный, либеральный, с некоторыми замашками русского сановника, но допускавший и даже одобрявший независимость суждений в подчиненных. Это был истинный градоначальник старинной барской Москвы. В противоположность ему граф Закревский мог служить полным типом николаевского генерала: крутой, самовластный, считавший опасными для государства всякую независимость мысли и малейшее проявление свободы, сам лишенный всякого образования и нечестный в денежных делах, он назначен был с целью держать в ежовых рукавицах патриархальную Москву и старался, по мере сил, исполнить свое назначение. Наконец, князь Владимир Андреевич Долгорукий представлял собою тот уровень людей, которым после великих преобразований, совершенных Александром Вторым, вверено было управление освобожденной России. Многое в истории нашей общественной жизни объясняется этим явлением. Я говорил иногда, что князь Долгорукий как будто нарочно поставлен был на пьедестал в поучение молодым поколениям. Возвеличивая его, правительство, казалось, говорило:
«Смотрите, вот пример для вас!
Узнайте, молодые люди, что требуется в России для достижения высших почестей и власти: не нужно ни ума, ни образования, ни малейшей доли нравственного смысла, ни звания дела; нужно быть пошляком и подлецом с головы до ног; нужно ползать, любезничать и лгать. И тогда вас осыпают всевозможными почестями, дают вам целую четверть века управлять столициею с безграничными полномочиями, делают вас кавалером всех орденов, верховным маршалом при коронации, вас украшают портретами с бриллиантами; перед вами кувыркаются и великие и малые; в честь вашу называют улицы и заведения; вам устраивают юбилей за юбилеем, с пышными адресами и драгоценными подарками; имя ваше надписывается на мраморной доске на исторических памятниках; и все эти блага накопляются на вас в течение многих лет, пока, наконец, по минутной прихоти самодержавной власти, вас пинком свергнут с высоты, и вы полетите стремглав вверх ногами!»
Умственные способности князя Долгорукого были характеризованы еще в 50-х годах его сродником, известным эмигрантом, который в своем сочинении о России писал, говоря о его брате, тогдашнем шефе жандармов: «Князь Василий Андреевич Долгорукий, который мог бы считаться самым глупым человеком в России, если бы у него не было брата, квязя Владимира Андреевича».[165]165
См. издававшийся кн. П. В. Долгоруковым за границей «Листок» № 7, 19 мая 1863 г.
[Закрыть] Родственник, по своему обыкновению, несколько пересолил. За недостатком ума, у князя Владимира Андреевича была хитрость, которая у ограниченных людей часто служит заменою высших умственных способностей. Но уровень во всяком случае был весьма невысок. Мне он всегда представлялся скорее комическим лицом, нежели человеком, с которым можно вести серьезное дело. Что касается до нравственных его свойств, то о них я знал от своего зятя, почтенного Эммануила Дмитриевича Нарышкина, который громогласно говорил: «C’est la plus grande canaille, quej’ai renconre dans ma vie»[166]166
«Это величайшая каналья, какую я когда-либо встречал».
[Закрыть], и сетовал на то, что во время коронации он должен был подавать руку этому господину.
Нарышкин знал его по опекунским делам. Эммануил Дмитриевич был опекуном Василия Львовича Нарышкина, мать которого Мария Васильевна, рожденная Долгорукая, сошла с ума и состояла под опекою своего близкого родственника, князя Владимира Андреевича. Она жила у него в Москве, в третьем этаже генерал-губернаторского дома. Через год приблизительно после назначения опеки она умерла. Князь Долгорукий представил счет содержания старухи, простиравшийся до ста тысяч рублей. Василий Львович в это время вышел из опеки. Он поступил как вельможа: не возражая ни слова, он заплатил деньги, но порвал всякие сношения с ограбившим его родственником.
Этого мало. У старухи было два знаменитых убора, один бирюзовый, а другой рубиновый. Оба находились на хранении у опекуна. Первый был возвращен; но все бирюзы, кроме одной, оказались фальшивыми. А на счет второго была представлена записка сумасшедшей Марьи Васильевны, по которой она этот убор дарила дочери князя Владимира Андреевича. Василий Львович и это дело оставил без последствий.
Если князь Владимир Андреевич умел извлекать такие выгоды из опекунских прав, то немудрено, что он в тех же видах пользовался и своею генерал-губернаторскою властью. У купцов он брал, что хотел, но платить далеко не всегда считал нужным. Об этом ходили совершенно достоверные рассказы. Был, между прочим, купец Епанешников, который ставил дорогие ковры и самому князю и его фаворитке, танцовщице Собещанской. Долг ему простирался до шести тысяч рублей. Он, разумеется, не дерзал предъявлять ему какое-либо требование, но, наконец, дела его пошатнулись. Деньги нужны были до зарезу. В таком положении он решился отправиться к князю Долгорукому и просить его уплатить хоть часть. Но тот затопал ногами и прогнал его, сказавши, что пришлет ему ответ. Этот ответ никогда не последовал.
А вот и лично мне известное дело. Моему приятелю, художнику Шервуду, князь Долгорукий заказал два своих портрета: один для себя, а другой для конногвардейского полка, в котором он некогда служил. За последний заплатил председатель Городского кредитного общества, сын которого, тоже служивший в конной гвардии, повез с собою этот портрет в Петербург. Второй же портрет так и остался неуплаченным. Князь Долгорукий пригласил Шервуда к себе обедать и счел эту высокую честь совершенно достаточным вознаграждением за работу.
Надобно, однако, сказать, что после его смерти все ожидали, что окажутся громадные долги, но их не нашлось. Дочь его отказалась даже от наследства, но вырученными из продажи имущества деньгами можно было бы с избытком выплатить не только оставшиеся долги, но и разные сделанные в завещании пожертвования. Это объясняется тем, что особенно в последние годы его управления у него был неисчерпаемый источник, из которого можно было покрыть все расходы. Евреи состояли под специальным его покровительством. Если Лазарь Соломонович Поляков ежегодно платил десять тысяч рублей Каткову за молчание, то можно себе представить, что он переплачивал князю Долгорукому, от которого все зависело и под рукою которого, в обход закону, находили приют целые массы евреев. Это было, в сущности, единственное сделанное им добро, хотя и беззаконным и бесчестным путем. За это он и слетел. После его падения последовало позорное для России и для Москвы повальное изгнание евреев из столицы.
Нечистый на руку, князь Долгорукий в пользовании предоставленными ему широкими полномочиями проявлял самый возмутительный произвол. Приведу один из многих случаев, бывших при мне. На Кузнецком мосту существует дом Попова, где нанимал магазин золотых дел мастер Постников. Хозяин был за границею; постоялец не платил за помещение, и управляющий домом счел своею обязанностью ему отказать. Тогда Постников, состоящий под особым покровительством генерал-губернатора, обратился к своему патрону. Тот призвал к себе управляющего и приказал ему оставить квартиру за Постниковым. Тот отвечал, что помещение сдано уже другому, и теперь он уже ничего не может сделать, ибо дом принадлежит не ему, а хозяину, который вверил ему свои интересы. Тогда Долгорукий, в силу данных ему полномочий, в двадцать четыре часа выслал управляющего из Москвы, как человека опасного. При этом известии Попов тотчас прискакал из-за границы; Постников, разумеется, остался в своем помещении, и Долгорукого едва могли упросить, чтобы он вернул управляющего. Подобные дела выходили и в Сенат и в Комитет министров; но это не служило ни к чему. Самые сенатские указы клались под сукно, когда они шли в разрез с видами или интересами генерал-губернатора, и все это ему сходило с рук.
При таком направлении князь Долгорукий естественно окружал себя всякою дрянью, людьми, которые ему льстили и обделывали его делишки. Но он искал и более широкой популярности, старался любезничать со всеми, расточал улыбки и милостивые слова, неизменно являлся на всех публичных и частных торжествах, где он выказывал изумительное для его лет терпение. Он понимал, что только угождая всем, он может держаться на своем месте. И вся огромная масса пошляков, составляющих всякое общество, и русское в особенности, для которых внимание власти представляется манной небесной, польщенные и очарованные, льнули к нему толпою и преклонялись перед его особою. Те, которым он покровительствовал или доставлял незаконные выгоды, превозносили его до небес и кричали, что такого генерал-губернатора в Москве еще не бывало. Каждое пятилетие ему в Москве устраивали юбилей; его клевреты объезжали всех, уговаривая не уклоняться от общего празднества. И по обыкновению, русские люди уклоняться не смели, иные потому, что желали угодить начальству, другие потому, что боялись, что отсутствие их будет принято за демонстрацию. В последние годы даже судебные власти ездили в мундирах встречать и провожать князя на железную дорогу. В Петербурге все были убеждены, что князь Долгорукий пользовался в Москве громадною популярностью; думали, что древняя столица без него жить не может. Какова была эта популярность, в этом я мог удостовериться с самых первых своих шагов на общественном поприще.
Во время первой моей поездки в Петербург явился ко мне русский консул, кажется из Рущука, с просьбою свести его с московскими купцами, в видах заведения торговых сношений между Москвою и Болгарией. Я сообразил, что я только вступил в должность и авторитета не успел приобрести, между тем как князь Долгорукий, двадцать лет управлявший столицею, пользовался несравненно большим авторитетом и мог скорее подвинуть дело. Хотя я лично всегда вращался в обществе, где на князя Долгорукова смотрели с некоторым презрением, но видя постоянные чествования этого сановника, я воображал, что в купеческой среде он пользуется значительным весом.
Я сообщил свои сомнения Аксакову, которого специальностью были болгарские сношения, и он мне сказал, что можно попробовать. Заручившись его согласием, я поехал к князю Долгорукому и сообщил ему, в чем дело. Он был очень польщен и тотчас взялся все устроить. Но когда я заговорил об этом с купцами, они мне сказали: «Что вы наделали? Да ни один из нас не двинет пальцем для князя Долгорукого. Передать ему дело, значит его похоронить». И я принужден был снова ехать к князю и сказать ему, что по собранным мною сведениям дело не уладится, а потому я не смею просить его стать во главе предприятия, которое может иметь неудачный исход. Он был не совсем доволен, но должен был согласиться. Консул приехал в Москву; я адресовал его к разным купеческим тузам. Были частные совещания, на которые являлся и Скобелев, но из всего этого действительно ничего не вышло.
Во всяком деле князь Долгорукий имел в виду только одно: какую роль он может тут разыграть? Собственно дела он не понимал и не старался даже в него вникнуть; но он любил, чтобы про него говорили, чтобы оказывали ему почет и приписывали ему почин или руководство. В этом состояла главная забота его жизни. Это выказывалось у него даже в такой наивной форме, что внутренне нельзя было не усмехнуться. Каждый шаг его не только в Москве, но и во время отлучек, тотчас описывался в газетах. Когда он ездил по России, путешествующий с ним чиновник рассылал телеграммы по всем редакциям, с подробным повествованием о всех его движениях. Однажды случилась с ним даже забавная история. В одной из таких телеграмм, присланных в «Русские ведомости», стояло в конце: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вас уведомить». По оплошности ли типографщика или намеренно, это было напечатано, и секрет раскрылся.
Весь исполненный важностью своей роли, князь Долгорукий очень заботился о собственной своей особе. Маленький, пухленький, с ничего не значащею физиономиею, он до восьмидесяти лет тщательно завивался и красил свои волосы. Каждое утро к нему являлся парикмахер Леон, и князь встречал его милыми шутками: он в халате прятался за драпировку, и когда парикмахер проходил мимо, он вдруг выскакивал из засады и стрелял в него пальцем с восклицанием: паф! И парикмахер, которому все это хорошо было известно, должен был всякий раз пугаться при этом неожиданном нападении. Таковы были невинные забавы сего государственного мужа.
Со мною князь Долгорукий с самого начала рассыпался в любезностях и старался сделать мне все приятное. У меня было литературное имя и положение в московском обществе; я путешествовал с покойным наследником, и он воображал, что я имею опору при дворе. Тут соединялись все условия для того, чтобы быть со мною в хороших отношениях. Я, с своей стороны, заявив о своем желании идти рука об руку с властью, вовсе не хотел становиться в оппозиционное положение, а напротив, старался всякое дело уладить миролюбиво. Я сказал, что еще до вступления в должность я высказал неодобрение оппозиционным решениям Думы в вопросе об обязательных постановлениях, изданных генерал-губернатором на счет дворников и освещения дворов. Этот вопрос имел длинную историю, которая может характеризовать отношения.
Однажды заехал ко мне Перфильев и, не застав меня дома, велел сказать, что очень нужно со мною переговорить. «Что мне делать? – сказал он при свидании; – я не могу пропустить ваших постановлений». «В таком случае внесите их в Губернское присутствие; оно их кассирует, но предупреждаю вас, что может последовать апелляция в Сенат. Постановления Думы могут быть неполитичны, но в них нет ничего противозаконного». «Нет, я не могу вносить их в Губернское присутствие. Пойдут толки, споры; князь Долгорукий отнюдь этого не желает. Я должен отменить их собственною властью». «На это вы не имеете ни малейшего права. Вы поднимете бурю; на вас подадут жалобу в Сенат».
Он старался доказать мне, что есть министерские циркуляры, которые будто бы уполномочивают губернатора кассировать постановления собственною властью. Я, напротив, доказывал ему, что министерские циркуляры, даже при самом широком толковании, не имеют силы закона и не могут дать ему никаких прав относительно Думы. «Да что же мне делать?» – воскликнул он наконец. «Ничего; предоставьте мне это дело; я постараюсь его уладить». Я думал, что я его убедил, как вдруг, несколько дней спустя, я получаю от него бумагу, в которой он собственною властью отменял постановление Думы. Самбул в то время исправлял еще должность товарища. Я показал ему бумагу, заметив, что они непременно хотят поставить Думу на дыбы. Он советовал мне, прежде нежели внести бумагу в книгу входящих, переговорить об этом с генерал-губернатором. В это самое утро у генерал-губернатора был попечительный совет о больницах, которого я состоял членом. Я поехал пораньше и велел о себе доложить. Я показал присланную мне бумагу князю Долгорукому, сказавши, что из этого непременно выйдет скандал, чего он пуще всего боялся. «Оставьте мне бумагу», – сказал он. Вскоре приехал Перфильев; его тотчас позвали в кабинет. Через несколько минут он вышел оттуда красный, как рак; очевидно, он получил нахлобучку. Подошедши ко мне, он шепнул: «Вы записали уже мою бумагу?» «Нет еще». «Так не записывайте».
Дело затихло. Несколько времени спустя, кто-то из рьяных гласных спросил, какой же наконец последовал ответ на ходатайство Думы об отмене обязательных постановлений генерал-губернатора. Я отвечал, что для предъявления ходатайства нужно выбрать удобный момент, а я, по предварительным справкам, увидел, что в настоящую минуту ответ не будет благоприятный, а потому и не счел пока нужным предъявлять ходатайство. Я присовокупил, что, по моему мнению, и обращение к высшей власти за толкованием закона не будет иметь благоприятного исхода, и просил Думу предоставить мне вести это дело по своему усмотрению, на что собрание согласилось.
Все временно успокоилось, как вдруг из полиции получены были новые обязательные постановления, изданные помимо Думы, вопреки закону. Опять поднялись толки и ропот. Я тотчас отправился к князю Долгорукому и представил ему, что такой способ действия возбуждает даже людей, желающих жить в самых мирных отношениях с властью. Обер-полицеймейстером был в это время Янковский, которого Долгорукий недолюбливал. Он называл его не иначе как «мой венецианский мавр». Янковский действительно был смуглый, курчавый и недавно женат на молоденькой и хорошенькой женщине, в которую был страстно влюблен. Долгорукий, по своему обыкновению, видя что дело не ладно, решился взвалить всю вину на подчиненного. На другой день я получил от него в пакете, с надписью: доверительно, следующую любопытную бумагу, в которой генерал-губернатор делал выговор обер-полицеймейстеру за обязательные постановления, которые изданы были по собственному его приказанию:
«Копия с предложения г. московского генерал-губернатора к г. московскому обер-полицеймейстеру от 18 апреля 1882 года за № 2232.
Рапортом от 20 марта сего года за № 537 Ваше превосходительство вошли ко мне с представлением, в котором, указывая на опасность, в пожарном отношении усвоенного московскими фабриками и заводами освещения помещений их керосиновыми лампами, ходатайствовали о том, не признаю ли я возможным сделать распоряжение о замене употребления на помянутых фабриках и заводах керосиновых ламп масляными или свечами.









































