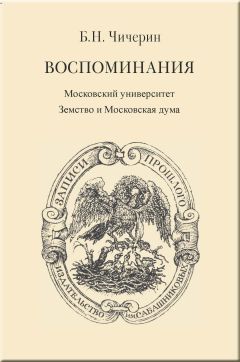
Автор книги: Борис Чичерин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
Попечитель совершенно перешел на нашу сторону. Он увидел, что его кругом обошли. Все его маниловские планы насчет удовлетворения обоих сторон рушились. Лешков не только был утвержден профессором, но и вновь был выбран деканом. Большинство, находя всюду поддержку, закусило удила и считало себе все позволенным. В университете происходили неслыханные скандалы. Против членов Совета, выступающих в защиту закона, делались лживые и оскорбительные постановления, с целью выжить их из университета. Мнения, писанные в подкрепление требований самого попечителя, возвращались с надписью. Этому надобно было положить предел. Но попечитель был тут не главным лицом; окончательно все зависело от министра. И вот, новый министр народного просвещения явился в Москву.
Выстрел Каракозова был сигналом для свержения совершенно неповинного в этом Головнина. Он считался главным виновником общей разнузданности молодежи и пал жертвою возбужденного против либералов общественного мнения. Никто о нем не жалел. Не имея ни ума, ни образования, ни умения распознавать людей и с ними обходиться, чиновник с головы до ног, хотя с либеральным направлением, он все свои усилия устремлял на снискание популярности, но именно ее не нашел. Министр он был никуда не годный. Последние университетские события показали всю его несостоятельность. Он всеми неправдами поддерживал именно тех, кого следовало удалить, как в видах общественной пользы, так и для собственных его выгод. «Московские Ведомости» были его злейшим врагом, а он покровительствовал их клевретам и упрочивал их влияние в университете, прибегая при этом к самым непозволительным ухищрениям. Тупоумие этого человека обнаруживалось здесь вполне.
Теперь предстояло подтянуть слишком будто бы распущенные вожжи. С этой целью призван был обер-прокурор святейшего Синода, граф Дмитрий Андреевич Толстой. Я не имел о нем понятия. Когда Соловьев, кончив преподавание великим князьям, вернулся в Москву, я спросил у него: видел ли он нового министра и какое он на него произвел впечатление. «Как я на него взглянул, – отвечал он – таку меня руки опустились. Вы не можете себе представить, что это за гнусная фигура».
Впечатление было не напрасное. Немного можно назвать людей, которые бы сделали столько зла России. Граф Толстой может в этом отношении стать наряду с Чернышевским и Катковым. Он был создан для того, чтобы служить орудием реакции: человек не глупый, с твердым характером, но бюрократ до мозга костей, узкий и упорный, не видавший ничего, кроме петербургских сфер, ненавидящий всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишенный всех нравственных побуждений, лживый, алчный, злой, мстительный, коварный, готовый на все для достижения личных целей, а вместе доводящий раболепство и угодничество до тех крайних пределов, которые обыкновенно нравятся царям, но во всех порядочных людях возбуждают омерзение.
Граф Толстой воспитывался сначала в Университетском пансионе, а затем в Царскосельском лицее. Рано он стал искать путей, чтобы пробить себе дорогу в высших сферах. Подлаживаясь к Уварову и графу Строганову, он вздумал блеснуть учено-литературным трудом. Еще очень молодым человеком он издал «Историю финансов в России». Мне рассказывали, что все выписки из актов делал товарищ его Джунковский, который, уехав на несколько лет за границу, оставил свои бумаги в его руках, и по возвращении очень удивился, увидев свою работу изданною под именем графа Толстого[64]64
«История финансовых учреждений в России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II». (СПБ, 1848)
[Закрыть]. Думаю, что это не сплетня, ибо, когда мне пришлось самому изучать этот предмет, я увидел тут такие невероятные ошибки, которые могут объясниться только пользованием чужим материалом. Вдобавок это подтверждается проделкой с другим его сочинением: «Историей католицизма в России»[65]65
«Le Catholicisme Romain en Russie» (Paris, 1863–1864).
[Закрыть]. Этим вопросом занимался приятель его Дмитрий Петрович Хрущев, бывший товарищем министра государственных имуществ; он посвятил на это не мало труда, делая выписки из архивов. Толстой упросил Хрущева дать ему просмотреть эти выписки, обещая скоро их возвратить. И что же вышло? Работа приятеля послужила материалом для собственной книги, и Хрущев никогда не мог получить обратно своих тетрадей. Он поднял бурю, взывал к посредникам; все было напрасно. Я знаю эту историю от сына Д. П. Хрущова.
В николаевское царствование граф Толстой, естественно, разыгрывал роль консерватора. Грановский со смехом рассказывал мне, что после посещения Поречья, куда Уваровым приглашен был и граф Толстой, тогда еще молодой человек, последний явился к нему и распространялся о том, что надобно в историю вносить консервативные начала. «Как это в историю вносить консервативные начала? – говорил Грановский, – если они есть, то их нечего вносить, а если их нет, то как же искажать историю?» Ученому казались дикими взгляды молодого карьериста. Но и с переменой декорации этот юный консерватор умел надевать и маску либерала. Одно время он подладился к Константину Николаевичу и приютился в его либеральном министерстве. Скоро, однако, он нашел, что благочестие выгоднее либерализма: он подольстился к обер-прокурору святейшего Синода Ахматову, который вывел его в люди и, по выходе в отставку, рекомендовал на свое место. Как далеко простиралась благочестивая начитанность графа Толстого – это обнаружилось в речи, произнесенной им несколько позднее, во время путешествия по России. На одном из многочисленных обедов, которые устраивались посланными вперед клевретами, но выдавались за самопроизвольное выражение общественного мнения, он сказал: «Французская пословица гласит: нет пророка в своем отечестве». Слова Христа выдавались обер-прокурором святейшего Синода за французскую пословицу. Речь была напечатана, и над нею много потешались.
Обер-прокурор жил тогда в небольшом доме на Невском. Но у графа Толстого подрастала дочь; надобно было давать балы, а для этого квартира была тесна. Представился случай купить на Литейной большой дом Нарышкина. Обер-прокурор убеждал членов святейшего Синода сделать для него это приобретение, но те противились, ибо церковному ведомству новое помещение было вовсе не нужно. Наконец заключена была сделка. В Синоде заседал протоиерей Богословский, человек пользовавшийся общею любовью и уважением, но по своей независимости неприятный другим членам. Графу Толстому предложили удалить Богословского в Москву, и тогда покупка будет совершена. Это и было исполнено. Князь С. Н. Урусов прозвал этот дом «село скудельничье», или «село крови».
Подобные проделки не были новостью для обер-прокурора святейшего Синода. Женатый на дочери Дмитрия Гавриловича Бибикова, он имел весьма хорошее состояние; но жадность его не знала пределов. При освобождении крестьян он хотел ограбить своих мужиков, присвоил себе земли, купленные ими в прежнее время на собственные деньги, но, как водилось при крепостном праве, на имя помещика. Кошелев, который был членом Рязанского губернского присутствия, говорил мне, что они остановили это вопиющее дело. Мировой посредник, помогавший Толстому во всех его грабительских предприятиях, Голубцов, впоследствии был сделан попечителем учебного округа.
Все это Толстому сходило с рук, ибо подлость его была непомерная. Однажды на выходе в Московском дворце, Александр Алексеевич Васильчиков, который сам был придворный и не чужд угодничества, подскочил к Соловьеву со словами: «Что за подлец ваш министр! Он публично поцеловал руку у государя». Но это было еще наименьшее из его прегрешений: граф Толстой унижался не только перед государем, но и перед его любовницами. В то время как петербургское общество, к его чести, чуждалось княжны Долгорукой, впоследствии княгини Юрьевской, граф Толстой не только приглашал ее на свои балы, но встречал ее внизу лестницы и под ручку вводил в зал. Мудрено ли, что он неудержимо лез вверх? И когда он в конце царствования Александра II, при страхе, внушенном заговорами нигилистов, отдан был на жертву всеобщей возбужденной им ненависти, он в новое цаствование, на беду отечества и как бы назло всем честным людям, снова был поднят на высоту и сделался первым человеком в государстве.
Но об этом будет речь впереди. Теперь граф Толстой явился в Москву и старался обворожить всех своею любезностью. Он пригласил меня к себе, и я имел с ним длинный разговор наедине. Ничего путного он не высказал, не расспрашивал ни о чем, заметил только, что он не согласен с моим мнением насчет бумаги Захарьина, но никакого серьезного возражения не представил, а очень долго распространялся о том, что ему, министру, занимающему два таких важных места, некогда заниматься мелочами. Я уехал с впечатлением, что тут нет ни крепкого ума, ни нравственной основы, ни любви к просвещению, а есть только личные цели и темные бюрократические пути. Затем он задал профессорам великолепный обед, на котором разносились двухаршинные осетры, потчевал всех, рассыпался в разговорах и сам на моих глазах подавал стулья даже молодым людям. Но насчет нашего дела толку от него нельзя было добиться никакого. Положение его было действительно довольно затруднительно. Если бы пререкания шли только между нами и большинством Совета, он не колебался бы ни на минуту. Мы были люди известные и в литературе, и в обществе, и при дворе; некоторые из нас были преподавателями покойного наследника и нынешнего. Большинство же, с Баршевым во главе, не представляло ровно ничего такого, чем бы можно было дорожить; к тому же они были кругом неправы и позволили себе неслыханные скандалы. Но за большинством стояла редакция «Московских Ведомостей», газеты влиятельной и в обществе, и в правительстве, а это существенно изменяло дело. Какое бы решение ни принял министр, он неизбежно должен был возбудить против себя неприязнь одной из сторон. Поэтому он попробовал прибегнуть к хорошо известному ему приему: уклониться от всякой ответственности и свалить все дело на плечи подчиненного. Он уехал, не сказавши ни да, ни нет, и предоставил Левшину, самому расправиться с Советом.
После каникул пошла война между попечителем и Советом. Попечитель указывал Совету на неправильные его действия и предлагал отменить сделанные против меня постановления. Большинство, руководимое Леонтьевым, оправдывало свои действия и отказывалось принимать предложения попечителя. При этом предъявлялись совершенно неслыханные притязания. Неприсвоенное никакой коллегии право – возвращать членам их мнения с надписью – выводилось из принадлежащей будто бы Совету дисциплинарной власти над профессорами. Утверждали, что Совет имеет право не только делать своим членам замечания, но и удалять их от должности за всякие действия, которые большинство сочтет неправильными. Ни Дмитриев, ни я, мы не участвовали в этих прениях. После происшедшего скандала мы перестали ходить в Совет и дожидались окончательного решения. Но Капустин подавал особые мнения, которые подписывались и другими.
Наконец, попечитель решил покончить дело, объявив действия Совета неправильными и сделав ему замечание. Но прежде нежели послать эту бумагу, он хотел заручиться согласием министра. С этою целью он поехал в Петербург по случаю бракосочетания наследника. Вернувшись, он мне самому рассказывал, что ему никак не удавалось поймать министра: все как-нибудь ускользнет. «Наконец, – говорил он, – мне удалось изловить его на обеде у Делянова. Я его припер к стене, прочел ему свою бумагу и получил его согласие. Дело, кажется, может считаться улаженным».
Не тут-то было. Видя такой оборот, редакция «Московских Ведомостей» пустила в ход все свои батареи. Против Толстого была пущена язвительная статья, и ему дано было знать, что если дело не будет решено так, как они хотят, то он может ожидать непримиримой вражды «Московских Ведомостей». Толстой очень верно расчел, что поддержка влиятельной газеты ему, в сущности, гораздо нужнее, нежели удовлетворение нескольких профессоров, которые, хотя и пользовались литературным именем, но не имели ни малейшего веса в правительственных сферах. Справедливость, совесть, закон, польза университета, все это ни мало не входило в круг его забот. Ему нужно было держаться на месте, а для этого требовались две вещи: иметь опору при дворе, что обеспечивалось ему угодничеством и низкопоклонством, и заручиться поддержкой влиятельного органа так называемого общественного мнения. Последнее предлагал ему Катков с тем, чтобы он пожертвовал ему университетом. Сделка была заключена. Для совершения ее был послан в Москву товарищ министра народного просвещения Делянов.
Это был клеврет, вполне подходящий к своему патрону. Маленький, толстенький старичок, с совиною армянскою физиономиею и с мягкими, добродушными приемами, он умственно был полнейшее ничтожество, а нравственно совершеннейший подлец, холоп всякого, у кого были сила и власть. Сам он не имел никаких целей и видов, кроме желания держаться, и готов был на всякие пакости, чтоб угодить начальству. Будучи попечителем, он трусил перед студентами, когда они волновались; они заставляли его делать, что хотели, высказывая ему при этом полное презрение. Как товарищ министра, он был чистым лакеем Толстого и употреблялся им на всякие грязные дела. Сделавшись впоследствии сам министром, он был таким же лакеем Каткова, который его посадил и держал его в руках. Капустин остроумно приложил к двум особам, которым в то время были вверены судьбы народного просвещения в России, имена действующих лиц в юмористической испанской трагедии Кузьмы Пруткова. Мы Толстого и Делянова иначе не называли как Дон-Мерзавец и Донна-Ослабелла.
Нам известен был день и час, когда заключена была сделка. У Каткова был обычный еженедельный приемный вечер; но ни он, ни Леонтьев не являлись к гостям. Наконец, в 12 часов ночи, отворился запертый на ключ кабинет Каткова, и оттуда вышли Делянов, Катков, Леонтьев, Баршев и Щуровский. Заседаний Совета не было в течении трех недель, чего никогда прежде не бывало. Ожидали чего-то важного.
Наконец, решающая бумага из Петербурга явилась. Это было утвержденное министром заключение его Совета. Помещаю здесь этот удивительный образчик министерской изобретательности. Бумага обращена была к попечителю.
«Представленные вашим превосходительством от 21 января за № 151 бумаги по делу о возникших в Совете Московского университета недоразумениях вследствие оставления заслуженного профессора Лешкова на службе при университете еще на пять лет, подвергнуты были рассмотрению в Совете министра народного просвещения, в заседании которого 27 января состоялись по этому делу следующие заключения:
1. Недоразумения по означенному делу возникли в Совете Московского университета вследствие заявления со стороны исполняющего должность экстраординарного профессора Дмитриева, который признает распоряжение бывшего министра народного просвещения относительно профессора Лешкова несогласным с законом об избрании профессоров. По буквальному смыслу 78 ст. I тома Свода законов основных, профессор Дмитриев мог считать себя в праве войти с представлением в Совет университета, но он необходимо должен был принять в соображение, что решение министерства по делу о баллотировке профессора Лешкова и об оставлении его на службе уже принято было Советом университета к сведению и надлежащему исполнению и что засим на основании точного смысла той же 78 ст. основных законов вполне зависело от усмотрения Совета дать или не дать протесту профессора Дмитриева законный ход.
2. Ректор не допустил прочтения протеста профессора Дмитриева в присутствии заседания Совета. Большинство членов Совета не воспротивилось этому запретительному заявлению ректора и этим самым одобрило его распоряжение и решило оставить бумагу профессора Дмитриева без дальнейшего движения.
3. Несмотря на столь ясно и положительно одобренное Советом распоряжение ректора, профессор Чичерин счел нужным, с своей стороны, внести в Совет университета особое заявление по поводу этого распоряжения. В этом заявлении он не входит в разбор соображений профессора Дмитриева, которые, как он сам говорит, могли быть совершенно неосновательны, но протестует против недопущения ректором рассмотрения протеста профессора Дмитриева, вменяя, так сказать, в вину одному ректору такое распоряжение, которое усвоено Советом. Сверх того, профессор Чичерин осуждает в этом заявлении и действие ректора, обвиняя его в превышении власти, в стеснении прав Совета, в попытках низвести его на степень слепого орудия и безмолвного исполнителя приказаний начальства.
4. Совет университета, хотя и подвергнул, как объяснено в журнале 28 сентября 1866 года, заявление профессора Чичерина обстоятельному разбору, но в журнале 12 мая большинством 24 голосов против 5 постановил краткую резолюцию: «Бумагу, зачитанную профессором Чичериным, как явно несправедливую и оскорбительную для ректора и Совета, возвратить г. Чичерину с надписью на оной сей резолюции».
Совет министра, сообразив все обстоятельства дела, считает нужным объяснить, что ректор, будучи только председателем коллегии, ни в одном из случаев, указанных профессором Чичериным, не мог действовать и не действовал единолично, по собственному произволу, но всегда совокупно с Советом и не иначе, как с его одобрения. Осуждение ректора за действия и распоряжения, которые он совершил в присутствии членов Совета, при выражении значительным большинством, а иногда и единогласно, полного их к этим распоряжениям сочувствия, Совет министра находит совершенно несправедливым и неуместным, и вполне сознает, что подобным заявлением г. Чичерина Совет университета мог почитать себя оскорбленным. Но, с тем вместе, Совет министра считает полезным обратить внимание, что хотя Совет университета и не был обязан, по несуществованию в общем Уставе университетов 1863 года положительного правила, изложить в протоколе подробно и обстоятельно все причины и основания, по которым он признал мнение профессора Чичерина несправедливым и оскорбительным; но исполнив эту, в существе своем весьма важную, а в данном случае, при взаимных пререканиях, даже необходимую формальность, Совет университета поступил бы и осторожнее и более согласно с общепринятым порядком составления протоколов, так как протоколы должны быть кратким и обстоятельным повествованием не только того, что решено присутствием, но изложением причин, по которым то или другое решение состоялось. Такое краткое и обстоятельное означение соображений Совета поставило бы г. попечителя округа, которому протокол представляется для рассмотрения, в возможность вполне ознакомиться с основаниями, принятыми Советом при обсуждении мнения профессора Чичерина, и затем от него зависело бы или оставить дело без дальнейшего движения или же дать ему надлежащий ход.
Что касается вопросов, разрешение которых г. попечитель Московского учебного округа признает необходимым, в видах предупреждения на будущее время недоразумений, подобных возникшим в Совете Московского университета, то Совет министра, принимая в уважение, что разрешение этих вопросов должно иметь применение и к другим университетам, полагал подвергнуть эти вопросы особому от настоящего дела рассмотрению, в связи с некоторыми другими, в разных университетах и в самом министерстве уже возникшими.
Г. Министр народного просвещения, соглашаясь вполне с вышеизложенным определением Совета министра, присовокупил, «что настоящим определением он признает дело о возникших в Совете Московского университета пререканиях по поводу избрания профессора Лешкова на пятилетие и о обвинении г. ректора в противозаконных действиях совершенно оконченным».
При этом г. министр выразил уверенность, что в недрах Совета не найдется ни одного члена, который не поставил бы процветание Московского университета выше каких бы то ни было личных воззрений, и что со стороны членов Совета будут употреблены все усилия для восстановления в среде университетского Совета того единомыслия и единодушия, которые необходимы для поддержания заслуженного и всеми признаваемого достоинства Московского университета».
Итак, поднятые мною вопросы были найдены столь существенными и важными, что они рассылались для обсуждения во все университеты, а мне, поднявшему эти вопросы, не только не давалось ни малейшего удовлетворения, но я подвергался осуждению на основаниях бессмысленных и даже ложных, ибо в виду у меня были только действия ректора; ни по одному из этих вопросов не было постановления Совета, и не было ни малейшей причины, почему бы он мог считать себя оскорбленным! Кто был нравственно безобразнее, ученая кооперация или министерство?
Попечитель сообщил мне копию с бумаги министра. Я немедленно повез ее Соловьеву, куда созвал и других товарищей, которые действовали с нами заодно. После прочтения бумаги, Соловьев немедленно сказал, что нам не остается ничего более, как выйти в отставку. Присутствовавшие тут Бабст, Капустин Рачинский, Дмитриев и я, – единогласно выразили то же мнение. Действительно, после того как бумага была заявлена Совету, мы все шестеро порознь подали прошение об отставке.
После сцен, которых я был свидетелем, для меня это был желанный исход. Но для других, в особенности для Соловьева, это был подвиг. Соловьев был человек с весьма небольшими средствами, обремененный семейством. Он и материально, и нравственно был связан с университетом, которому он отдал всю свою жизнь. К тому же он к делу вовсе был непричастен; из Петербурга он вернулся, когда в Совете все было кончено. При всем том, он не считал для себя возможным оставаться в университете при таком вопиющем нарушении всякого закона и всякой справедливости. Этот благородный человек ни единой минуты не поколебался пожертвовать всем для долга чести и совести. Столь же мало колебались и другие.
Подавши в отставку, мы сочли нужным написать министру письмо с изложением причин, заставивших нас сделать этот шаг. Копию с этого письма мы распространили в Москве и в Петербурге. Оно было следующее:
«Милостивый государь, граф Дмитрий Андреевич. Решение вашего сиятельства по делу о возникших в Московском университете пререканиях вынудило нас подать в отставку. Считаем долгом объяснить вам в частном письме, почему мы не можем долее оставаться в университете.
В одобренном вашим сиятельством заключении Совета министра признается, что «профессор Дмитриев имел право на основании 78-й ст. Свода законов основных войти с представлением в Совет университета о неправильности утверждения профессора Лешкова бывшим министром народного просвещения». Но профессор Дмитриев осуждается за то, что он хотел сделать свое представление после того, как решение министра было уже принято Советом к сведению и надлежащему исполнению. Между тем, это осуждение основано единственно на неверном представлении фактов. Каждый член каждого коллегиального учреждения имеет неотъемлемое право при решении всякого рода дел высказывать свое мнение и, если большинство голосов оказывается против него, представить свое мнение письменно. Бумага эта заслушивается и затем, если другие члены остаются при своих мнениях, заносится в протокол. Соблюдение этого, установленного законом и признанного всеми, порядка – вот единственное, чего мы домогались с самаго начала и в чем нам постоянно отказывалось. Профессор Дмитриев поступил совершенно сообразно с этими правилами. Он хотел высказать свое мнение не после принятия бумаги министра к исполнению, а при самом ее чтении в заседании Совета; но ему тут же было предложено представить свое мнение письменно. Он на это изъявил согласие. Но когда он в следующее заседание хотел прочесть свою бумагу, чтение это было сначала отложено, а потом и совершенно устранено решением ректора. При этом высказано было не основанное ни на каком законе требование, чтобы письменные мнения членов представлялись ректору на предварительный просмотр, чего никогда не водилось в университете. Ни ректор для самого себя, ни Совет для своего председателя не имеют права собственной властью устанавливать новые права. Получив отказ, профессор Дмитриев объявил, что изложит свое мнение словесно; но и это не было допущено ректором. В этих действиях ректора мы не могли не видеть вопиющего нарушения свободы мнений в Совете. Если бы это было даже решение целого Совета против одного члена, то оно все-таки было бы беззаконием. Никакая коллегия не имеет права заглушать голос своих членов и устранять их мнения. Она может с ними не соглашаться, но она должна их выслушивать. Профессор Дмитриев в этом случае не только действовал в пределах своего права, но исполнял возложенную на него законом обязанность. Всякий член коллегии обязан указывать на то, что он считает законным, и представлять о том, что он считает незаконным. Этим ограждается и собственная его ответственность. Между тем, решением вашего сиятельства осуждается член Совета именно за исполнение своей обязанности и оправдывается очевидное нарушение общих правил относительно подачи голосов. Этим уничтожается свобода мнений в Совете, и мы лишаемся возможности действовать на почве права и исполнять свои законные обязанности. В утвержденном вашим сиятельством заключении Совета министра сказано далее, что распоряжение ректора было одобрено Советом тем, что большинство против этого не протестовало, а профессор Чичерин осуждается за то, что он, с своей стороны, представил протест и при этом поставил в вину одному ректору то, что было усвоено Советом. Но в русских законах существует один только способ решения дел в коллегии: подача голосов, которая заносится в протокол. Решение дел посредством молчания – совершенно новый способ, который не мог быть известен профессору Чичерину, так как он в законах не значится. Протестующий имел перед собою одно только юридически существующее решение ректора, а потому имел право представить только о неправильности этого решения. Далее, в том же заключении Совета министра сказано, что «ректор, будучи председателем коллегии, ни в одном из случаев, указанных профессором Чичериным, не мог действовать и не действовал единолично, по собственному произволу, но всегда совокупно с Советом и не иначе, как с его одобрения. Осуждение ректора за действия и распоряжения, которые он совершил в присутствии членов Совета, при выражении значительным большинством голосов, а иногда единогласно полного к этим распоряжениям сочувствия, Совет министра находит совершенно несправедливым и неуместным и вполне сознает, что подобным заявлением г. Чичерина Совет университета мог почитать себя оскорбленным». Такое изложение дела опять противоречит тому, что действительно было и что значится в протоколах. Ни по одному из пунктов, указанных профессором Чичериным, не было решения Совета ни единогласного, ни значительным большинством голосов. Следовательно, на этом основании Совет не мог считать себя оскорбленным. Но даже, если бы действия ректора были одобрены Советом, то профессор Чичерин, считая их незаконными, имел не только право, но и обязанность сделать о них представление. Каково бы ни было большинство Совета, оно не имеет права нарушать закон и стеснять свободу мнений даже самого незначительного меньшинства. Всякий член, когда он считает те или другие действия председателя или самой коллегии противными закону, обязан об этом представить, и никто не в праве оскорбляться таким исполнением законной обязанности. Вопросы о правах ректора, возбужденные профессором Чичериным, были сочтены даже вашим сиятельством до такой степени сомнительными и важными, что они рассылаются для обсуждения по всем университетам; а, между тем, профессор Чичерин осуждается за возбуждение этих самых вопросов. Его мнение объявляется несправедливым и неуместным. Подобным осуждением, основанным притом на мотивах, несогласных с фактами, члены Совета опять лишаются возможности исполнять свои законные обязанности.
Сочтя себя оскорбленным бумагою профессора Чичерина, Совет университета определил возвратить ему его мнение с надписью. Присутственные места поступают таким образом с посторонними просителями, когда находят их просьбы неуместными и неприличными; но никакой закон Русской империи не дает подобного права никакой коллегии относительно собственных членов. Г. попечитель Московского учебного округа объявил это определение незаконным и назвал подобное действие самоуправством. Решение вашего сиятельства узаконивает это новое право. Совет осуждается лишь за то, что он не изложил подробно мотивов своего решения, хотя и это изложение ваше сиятельство считаете, в сущности, необязательным для Совета. Этим узакониванием неведомого дотоле права опять уничтожается свобода мнений в Совете. Имея в руках такое оружие, большинство коллегии всегда может не только устранить неприятные ему суждения, но и в этой форме подвергнуть наказанию члена, который осмеливается поднять голос против происходящих в Совете злоупотреблений. Совет московского университета, раз решившись на такую меру, пошел далее по этому пути. Профессору Чичерину возвращена была и другая бумага, в которой он, соглашаясь с предложением г. попечителя, считал неправильным удержание ректором мнения профессора Захарьина по поводу избрания доцента Зайковского. Это мнение было принято в Совете, но не представлено начальству, как требует Устав. Совет, с одной стороны, признал требование г. попечителя законным, ибо решил впредь посылать ему все отдельные мнения членов, с другой стороны признал правильным и удержание г. ректором мнения профессора Захарьина. Но профессор Чичерин, пользуясь законным своим правом, объявил, что не может с этим согласиться и подаст об этом особое мнение. И эта бумага была возвращена ему, как оскорбительная для ректора и Совета.
Наконец, вашему сиятельству не угодно было обратить внимание на дальнейший ход дела. Мнение профессора Чичерина было в самом заседании Совета названо доносом, о чем он просил занести в протокол. Профессор Никольский произнес речь, которую потом изложил письменно, с дополнениями. Эта бумага была такого свойства, что самое большинство не сочло возможным допустить прочтение ее в Совете; она была без огласки приложена к протоколу. В самом Совете произошла неслыханная и невообразимая сцена, о которой и вспомнить совестно. После этого профессор Чичерин, которому предстояло подать новую бумагу о неправильном удержании мнения профессора Захарьина, не решился прочесть ее сам в Совете, но послал ее к ректору с запискою, в которой объяснял, что делает это для того, чтобы не подать повода к новым оскорбительным выходкам. Эта записка была внесена г. ректором в Совет с тем, чтобы иметь повод сделать определения, которые бы заставили выйти из университета члена, осмелившегося поднять голос против действий ректора. Предлогом послужило выражение «оскорбительные выходки», употребленное профессором Чичериным в записке к ректору. Совет определил и внес в протокол, что профессор Чичерин употребил неприличное и непозволительное выражение. Затем большинство Совета решилось официально сделать заведомо ложное постановление, определивши, что в Совете не происходило ничего, что бы уполномочило профессора Чичерина употребить подобное выражение. Очевидно, профессору Чичерину оставалось или выйти немедленно из университета или представить все обстоятельства дела на суд начальства. Гражданский долг требовал не оставлять этого дела без попытки добиться восстановления правды и закона. И его просьба, и протоколы Совета, которые служат здесь документом, находятся в руках вашего сиятельства. Весь ход событий вам вполне известен. Между тем, вы не сочли нужным дать по этим обстоятельствам какое бы то ни было решение и объявили все дело поконченным. На это мы не можем смотреть иначе, как на отказ в правосудии. После этого никакой член Московского университета, как бы ни нарушались его права, каким бы он ни подвергался оскорблениям, не может надеяться найти защиту и законное удовлетворение от начальства. Большинство может все себе позволить и на него нет ни суда, ни расправы. Безнаказанность и в этом случае принесла уже свои плоды: в Совете, после того, происходили новые выходки, которые повели к форменному протесту десяти членов против нарушения приличия, протесту, разумеется, столь же бесполезному, как и все предыдущие. Для личности членов в Совете нет никакой гарантии.









































