Текст книги "Литературные биографии"
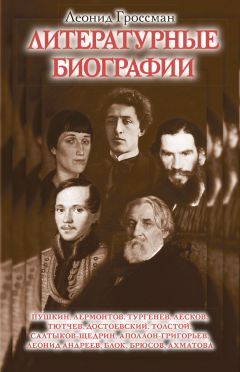
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
В России сонет появляется в XVIII веке. Неутомимый работник над созданием литературных форм русской поэзии, Тредьяковский дает у нас первый образец сонета, переводя в 1735,г. стихотворение французского поэта Де-Барро:
Grand Dieu, tes jugements sont remplis d’йquitй!
В 1759 г. он печатает в «Трудолюбивой Пчеле» «Сонет из речи добродетель почитающих». Вслед за ним Сумароков дает очень недурной сонет, ошибочно приписываемый Державину:
Не трать, красавица, ты времени напрасно.
Любися: без любви все в свете суеты;
Жалей и не теряй прелестной красоты,
Чтоб больше не тужить, что век прошел несчастно.
Любися в младости, доколе сердце страстно:
Как младость пролетит, ты будешь уж не ты.
Плети себе венки, покамест есть цветы:
Гуляй в садах весной, а осенью ненастно.
Взгляни когда, взгляни на розовый цветок,
Тогда, когда уже завял её листок:
И красота твоя подобно ей завянет.
Не трать своих ты дней, доколь ты не стара,
И знай, что на тебя никто тогда не взглянет,
Когда, как розы сей, пройдет твоя пора.
В сонетной форме упражняются мало известные стихотворцы, как С. В. Нарышкин и Александр Тиняков, «лейб-гвардии Семеновского полку сержант», издававший в 1768 году «Воображения Петрарковы или письмо его к Лоре». Впрочем, форма оригинала мало интересует переводчика. Его сонет написан без рифм и значительно превышает количеством строк установленную норму.
Все это относится к подготовительной поре русского сонета, когда он в значительной степени является случайным эпизодом, совершенно затерянным в других жанрах и формах и не вызывающим особого внимания к себе. Тем не менее сонетный канон правильно понят и почти все его ранние образцы у нас несравненно строже и классичнее многих позднейших опытов (особенно эпохи 80-х годов, т.-е. Надсона, Чюминой и др.).
С начала прошлого столетия сонет заметно развивается. В 1806 г. Жуковский дает шутливое посвящение «К Лиле» («За нежный поцелуй ты требуешь сонета»…), очевидно, в подражание старинному французскому мадригалу:
Doris qui sait qu’aux vers quelquefois je me plait
Me demande un sonnet et je m’en desespиre…
Вслед за Туманским (1819) ряд превосходных сонетов дает Дельвиг, как бы признанный в знаменитом терцете Пушкина основателем русского сонета. «Вдохновение», «Языкову», «В Испании Амур не чужестранец» и др. (в небольшом литературном наследии Дельвига имеется шесть сонетов) до сих пор не утрачивают значения высоких образцов жанра. Это едва ли не наиболее близкий к классическому канону тип русского сонета: Дельвиг неизменно верен пятистопному ямбу, катрены у него всегда написаны на опоясанные рифмы, каждая строфа замкнута, нет повторения главных слов, выдержан особый сонетный ритм с его плавностью и некоторой напевной замедленностью.
Младой певец, дорогою прекрасной
Тебе итти к Парнасским высотам.
Тебе венок – поверь моим словам —
Плетет Амур с Каменой сладкогласной.
От ранних лет я пламень не напрасный
Храню в душе, благодаря богам,
Я им влеком к возвышенным певцам
С какой-то любовию пристрастной.
Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и грусть и наслажденье,
И первый я его услышал пенье
И за себя богов благословил,
Певца «Пиров» я с музой подружил
И славой их горжусь в вознагражденье.
Такова ранняя эпоха русского сонета, достигающая в опытах Дельвига высокой степени зрелости и законченности.
IVСонеты Пушкина, превосходные по стройности строфических ритмов, уже несравненно менее строги и допускают ряд вольностей, отсутствующих у Дельвига. Автор «Мадонны», видимо, не особенно любил эту форму и мало прельщался ее своеобразным очарованием. Возможно, что он разделял даже неприязнь Байрона к этому «педантичному и скучному» виду. Поэт не без нотки осуждения говорит в одном из своих сонетов о его «стесненном размере». Уже в 1833 году, дав все три опыта в этом роде, он обращается к тени Буало:
…Дерзаю за тобой
Занять кафедру ту, с которой в прежни лета
Ты слишком превознес достоинства сонета…
Во всяком случае канон не был принят Пушкиным целиком и сводился для него к внешнему рисунку 14-строчного стихотворения, разбитого на катрены и терцеты с одинаковой рифмовкой начальных строк. При этом нигде не выдержан классический тип опоясанных рифм, и единство принципа в рифмовке обеих строф обычно не соблюдается (за исключением сонета «Суровый Дант», где рифмы катренов все же перекрестные). В двух других опытах – «Поэту» и «Мадонна» мы имеем смесь опоясанной и перекрестной рифмовки.
Принцип богатой или редкой рифмы, очевидно, не преследовался поэтом. В сонете «Суровый Дант» имеется пять глагольных рифм, что для сонета должно быть признано при любом контексте все же чрезмерным; к тому же терцеты воспроизводят рифмы катренов, что безусловно недопустимо. Однородность рифменной формы (сонета, Макбета, света) здесь менее всего желательна. Между тем такая же однотипность рифм, при отсутствии заботы об их полнозвучности, имеется и в сонете «Мадонна».
Пушкин широко допускает «запретный прием» повторения слов – часто в смежных строках и даже в пределах одной строки:
Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум.
Ты им доволен ли, взыскательный Художник?
Доволен?
Чистейшей прелести чистейшей образец.
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня…
В сонете «Мадонна» трудно оправдать enjambement второго катрена на первый терцет. В этом месте сонетная композиция требует четкой демаркационной линии и паузы. Строгость формы не приемлет и таких обычных сочетаний, как «жар любви», «суетный свет», «восторженные похвалы». Позволительно подвергнуть сомнению в этой форме, существенный признак которой – безупречность, такие явно «наполняющие» строки, как:
У нас его еще не знали девы,
или такие синтаксические образования, как усовершенствуя (при предыдущем «иди» и последующем «не требуя»). Все это, вполне допустимое в обычном стихотворении, нетерпимо в сонете, который решительно отводит от себя всякую поэтическую вольность, намеренно увеличивая и усложняя трудности.
Это старинное правило вполне согласовано с основным стилем сонетного искусства, отвечает его природе и должно быть сохранено. Так же незыблемы и заключительные положения «поэта-законодателя»:
D́éfendit qu’un vers faible y put jamais entrer,
Ni qu’un mot déjа mit osa s’y remontrer.
Игнорирование этих трудностей в сущности лишает стихотворение сонетной формы, даже при соблюдении принципов строфического сечения и катренарной рифмы начальных строф, И в этом смысле «сонетность» пушкинских опытов может быть подвергнута сомнению. Поэт П. Д. Бутурлин, напр., определенно заявил, что «сонеты Пушкина – не сонеты». Такой приговор представляется все же чрезмерно суровым. Несмотря на указанные выше нарушения канона, все три опыта Пушкина обладают замечательным качеством, всемерно сохраняющим за ними право именоваться сонетами: это поразительно выдержанные сонетные ритмы, плавно катящиеся и торжественно приподнятые, медлительно важные и целостные во всех своих переходах. Уже первая строка каждого стихотворения настраивает на этот тон и уверенно намечает его:
Не множеством картин старинных мастеров…
Поэт, не дорожи любовию народной…
Суровый Дант не презирал сонета…
Так же удачны у Пушкина и сонетные ключи – завершающие строки («Гекзаметра священные напевы»; «Чистейшей прелести чистейший образец»; «И в детской резвости колеблет твой треножник»).
Вот почему сонеты Пушкина, сохраняя главную virtus своего искусства, должны быть признаны «вольными», как и сонеты Шекспира или Бодлера (хотя и по другим основаниям). В эволюции русского сонета это замечательные опыты, но у некоторых преемников Пушкина и даже у его предшественника Дельвига мы находим более совершенные и классические типы.
VВокруг Дельвига и Пушкина создается некоторый культ сонета, особенно у Подолинского и Деларю. Жуковский и Туманами, как мы видели, отдали дань этой форме. К ней же обращаются в тридцатых годах Катенин, Щербина и Яков Грот. Боратынский называет сонетом стихотворение совершенно свободное: «Мы пьем в любви отраву сладкую» (при первых изданиях этой элегии).
Следующая эпоха русской поэзии не оставляет этой формы, но и не проявляет к ней особенной любви. Развитие сонета сказывается и на появлении особых шутливых его форм. Таков, например, юмористический сонет А. С. Соболевского и М. Н. Лонгинова «Гр. А. Ф. Ростопчину». В небольшом количестве пишут сонеты Лермонтов, Каролина Павлова, Бенедиктов, затем Фет, Полонский; у Майкова находим только переводные данеты. Тютчев озаглавил этим термином четверостишие из Микель-Анджело. Аполлон Гржорьев культивировал эту форму и даже пользовался ею, как строфой, в своей поэме: «Venezia la bella».
Переходная эпоха 80-х годов отмечает явный упадок сонета; им пользуются, но чрезвычайно небрежно, повидимому, совершенно не отдавая себе отчета в сущности и законах этой формы.
Но в эту эпоху затишья подлинный культ сонета утверждает в своем творчестве рано умерший русский парнасец П. Д. Бутурлин. Он оставил после себя целую книгу сонетов, в большинстве случаев строгого типа.
Отметим среди них «Японскую фантазию», «Андре Шенье», «Август», «Родился я»…
Бутурлин набросал и ряд теоретических соображений о сущности жанра. «Я от всей души желаю, – писал он в 1891 г., – чтоб сонет сделался, наконец, одной из обыденных форм нашей поэзии. Наши писатели почему-то боятся его, и я хорошо помню, как однажды в Ялте Надсон мне сказал, что он не пишет сонетов потому, что их следует начинать с последней строчки. Нечего греха таить: у нас сонет не только считается трудным, но и, что хуже и несправедливее всего, он считается фокусом. Виновата в этом отчасти наша поверхностная культура, которая еще имеет довольно неправильное понятие о красоте. Она, правда, живо интересуется мыслью литературного произведения, достигнутою целью; но способ достижения цели – форма ее почти не занимает, а она уж никакого внимания не обращает на согласование между мыслью и формой, на равновесие произведения»… Поэт задает вопрос: «Последует ли русская поэзия примеру Петрарки? Другими словами: настанет ли у нас пора сонета? Думаю, что да. Но вряд ли русская поэзия помирится вполне с сонетом; вряд ли будет у нас когда-либо национальный сонет, как он есть в Италии, во Франции, в Англии».
А между тем «пора сонета» уже была не за горами. В поэзии старших символистов сонет достигает нового расцвета. Валерий Брюсов чеканит такие превосходные его образцы, как «Ассаргадон», в котором ассирийская надпись выражена с отчетливостью клинописных письмен и словно сохраняет тяжесть каменной плиты надгробья. В таких сонетах, как «Женщине», «К портрету Лермонтова» и других, характерный стиль символизма находит отчетливое выражение в классической сонетной форме. Бальмонт, отступая от канонического типа, придает неожиданную текучесть и некоторую воздушность русскому сонету. Несомненным мастером жанра является Вячеслав Иванов, давший такие шедевры, как «Собор св. Марка». «Латинский квартал», «Поэт», или «Сфинксы над Невой». Приведем для образца последний сонет:
Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя-дива из стовратных Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?
Какая тайна вам окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн не меркнущий разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?
Так в час, когда томят нас две зари
И шепчутся, лучами дея чары,
И в небесах меняют янтари,
Как два серпа, подъемля две тиары.
Друг другу в очи – девы иль цари
Глядите вы улыбчивы и яры.
Такое же мастерство в сонетном искусстве выявляют Максимилиан Волошин (циклы: «Париж», «Кимерия»), и Сергей Соловьев («Венера» и «Анхиз», «Сергей Радонежский», «Иоанн Креститель»). Примечательные опыты символического сонета имеются также у Сологуба, Гиппиус и особенно у Иннокентия Анненского («Мучительные сонеты», «Пока в тоске»…, «Бронзовый поэт»…).
Сонет заметно уходит из творчества младших символистов – Андрея Белого, Блока. Но ряд законченных опытов находим у Валериана Бородевского («Медальоны», «Портрет в кабинете»), Юрия Верховского и Василия Комаровского. Некоторые поэты реалистического направления, – как, например, Бунин, – напротив, проявляют заметное влечение к этой форме. Безукоризненные сонеты мы находим у некоторых акмеистов (Гумилева, Кузмина, Мандельштама), но культ сонета, столь характерный для Вячеслава Иванова, уже не определяет излюбленных форм этого поколения (так, у Анны Ахматовой мы находим лишь один образец этого вида). Новейшие поэты продолжают эпизодически обращаться к сонету, хотя лозунги деформации, выбрасываемые поэтическими школами последних лет, менее всего способствуют культивированию этой «строгой формы».
Народится ли у нас особый тип «русского сонета», о котором мечтал Бутурлин? Условия рифмовки русского языка менее располагают к этому, чем обилие рифм на французском или итальянском. В силу этого многие виды «поэм с точной формой» у нас не получали достаточного развития, как, например, рондо или старинная баллада, лишь эпизодически разрабатывавшиеся наиболее изощренными мастерами стиха.
Тем не менее, как мы видели, сонетная форма начинает привлекать наших поэтов уже в XVIII веке, т.-е. в пору возникновения у нас книжной лирики; на протяжении всего прошлого столетия эта форма лишь с небольшими перерывами разрабатывается различными поэтами – особенно в эпоху Пушкина – и получает, наконец, в начале XX века, благодаря символистам, полный расцвет у нас. Русский сонет сформировался, определился, выявил свои особенности.
Сравнительно с романской поэзией он часто являл большее стремление к свободным формам сонетного искусства, но в процессе своего развития выработал свой строгий канон. Согласно этой традиции сплошная женская рифмовка, обычная для итальянской поэзии, и, в частности, для Петрарки, чужда русскому сонету. В нем заметно проявляется тенденция к полнозвучной рифме – особенно в случаях мужских рифм, где опорная согласная утверждается как правило. Терцеты, вопреки новейшему канону, нередко пишутся на две рифмы. Ямб признан обязательным размером, обычно в своем пятистопном виде, хотя допускает и формы шестистопные. Со времен символистов угадан и особый сонетный ритм, из прежних поэтов свойственный только Дельвигу и Пушкину, – плавный, замедленный, не лишенный некоторой торжественности, при чем внутренние переходы ритмовых волн склонны особенно напрягать и гнуть стих. Если сонет у нас и не стал «национальной формой», он достиг большой законченности, и многие его опыты от пушкинской плеяды до новейших поэтов могут стать в ряд с лучшими образцами европейского сонета.
1923
Тургенев
Портрет Манон Леско
1. Он рос в заповедной усадьбе, учился в Московском университете первых шеллингианцев, слушал лекции в Берлине гегелевской поры, затем скитался по свету, к чему-то готовился, что-то искал, чего-то нетерпеливо ждал от судьбы. И вот, с поседелыми висками и обветшалыми надеждами, не свершив подвига, не открыв новой правды, не найдя даже личного счастья, одинокий, утомленный и равнодушный, он возвращается в пустынный отчий дом. Книжная мудрость успела выветриться по дорожным харчевням и столичным бульварам, и только безнадежный гётевский завет «Испытывать лишения ты должен» (цитата из «Фауста», 1, 3) погребальным звоном сопровождает усталые раздумья его позднего возврата.
Запах родного гнезда неожиданно освежает его. Материнской врачующей лаской веет от дедовской мебели и ветхих украшений патриархальной обстановки. Среди пузатых комодов с медными бляхами и белых кресел с овальными спинками, под гранеными хрусталиками старозаветной люстры, долголетний странник покорно готовится к безбурному и бесцветному жизненному этапу.
«На стене я приказал повесить – пишет он старому Другу, – помнишь, тот женский портрет, в черной раме, который ты называл портретом Манон Леско. Он немного потемнел в эти девять лет; но глаза глядят так же задумчиво, лукаво и нежно, губы так же легкомысленно и грустно смеются, и полуощипанная роза так же тихо валится из тонких пальцев…»
В этой новелле, кажется, весь Тургенев. Эта щемящая боль уходящих жизненных сил, смягченная прелестью архаических форм быта, эта глухая тоска скитальческого бесплодия, замирающая в успокоительной отраде позднего возврата, и, наконец, эта терпкая горечь жизненных отречений, отходящая перед очарованием выцветающих полотен Левицкого или Фрагонара, – в этом самая подлинная, исконная, глубинная сущность тургеневского творчества.
Какой-то глубоко личный, быть может, самый интимный аромат его души легким облаком исходит от этой вянущей розы, осыпающей свои ослабевшие лепестки сквозь тонкие пальцы задумчивой дамы, с лукавой усмешкой устремившей на нас свой печальный взгляд из овальной рамы фамильной галереи.
2. Рококо заворожило Тургенева. Предания об эпохе пудры и мушек обвеяли атмосферу его детства и навсегда сохранили для него прелесть первых волшебных сказок. Через всю его жизнь проходит это видение иной блестящей и праздничной поры, сквозь все его позднейшие впечатления просвечивают эти личные воспоминания о современниках Екатерины и Павла.
До конца у него всюду звучат отголоски его раннего знакомства с людьми минувшего столетия, их изысканной речью и жеманными манерами, их книгами, картинами, нарядами, мебелью и всеми ажурными безделушками капризного, вычурного и пленительного стиля. Уже в своей первой поэме он роняет мимоходом признание:
Люблю я пышных комнат стройный ряд
И блеск и прихоть роскоши старинной.
Этот блестящий уклад жизни до конца служил Тургеневу художественной моделью. Тончайший изобразитель внешнего мира, он прежде всего стремился раскрыть в предметах их живописную ценность. Недаром до сих пор цветут, поют и дышат его пейзажи, пронизанные звездной дрожью, криками вальдшнепов и запахом утренней сырости.
Но бесцветный и расплывчатый фон середины столетия, словно избегающий в своем торопливом ходе красочных озарений и резких контуров, не мог насытить этой тоски художника по четким очертаниям и праздничной расцвеченности форм.
Вот почему от вокзальных перронов и ресторанных кабинетов, от мещанских гостиных и редакционных приемных, от банков, контор и клубов Тургенев так охотно переносит своих героев в среду, еще хранящую следы минувшего очарования: в рамку русской усадьбы или старого готического городка.
Но эта тонкая уловка любовного созерцателя старины не могла успокоить его художнической тоски. И часто – из самого центра текущих интересов, из котла злободневных запросов и модных тем – Тургенев открыто обращался к напудренному прошлому. В какой-нибудь шумной кофейне Пале-Рояль, среди цилиндров и сюртуков, темных галстуков и дымчатых очков, среди лысин, эспаньолок и банкенбард, он вспоминал камзолы и букли, эмалевые табакерки, изогнутые лорнетки и длинные трости с резными набалдашниками.
За мраморными столиками парижских ресторанов или баденских кафе, перед витринами универсальных магазинов, под густыми пучками газовых рожков, ему грезились экраны и ширмы, гоблены и канделябры, точеные безделушки искусных ювелиров, разбросанные по лакированным столикам будуаров, или искристые змеи сигнальных ракет, рассыпающиеся огненным бисером над зеркалом бассейнов и стрижеными купами дремлющих парков.
И часто над тусклыми литографиями дешевого еженедельника или типографскими иллюстрациями газетного листа, спешно воспроизводящего бородатые физиономии прошумевшего депутата или почившего финансиста, он прозревал смеющийся облик лукавой и нежной дамы, сыплющей лепестки вянущей розы на золотые аграфы своих атласных туфель.
Вот какие драгоценности поблескивают сквозь дымчатость тургеневского рисунка. Из деловой и суетливой среды своего времени он любил уноситься в атмосферу женственного, чувственного и иронического столетия. Он знал и любил его дух, остроумие, его порочные наклонности и умственные моды, его рисунки и бюсты, его музыку, сады, веера и миниатюры.
С жадным вниманием искусного расказчика, понимающего всю художественную ценность житейских контрастов, он следил за всеми противоречиями, порожденными странной прививкой этой утонченной учтивости и упадочной изысканности к сырому, корявому и жесткому стволу старорусского крепостного быта. Он любил отмечать все возникающие отсюда курьезы самодурств и мучительные драмы, все то смешное и трагическое, что неразрывно слито с пышными и унылыми формами русского рококо.
И все свои эскизы и полотна современной жизни, свои очерки, новеллы и романы, он хоть на мгновение озарял вспышкой этих старинных драгоценностей. Под искусными ударами его тонких кистей серое полотно деловой эпохи земских реформ неожиданно загоралось алмазным блеском старого мадригала или вольнодумного афоризма, забытым анекдотом о Екатерине или таинственной цитатой из новиковского журнала о загробной жизни и нетленности души.
Во все эпохи своего творчества Тургенев невольно влекся к этим реликвиям старого стиля и сознательно культивировал в себе эту любовь. Недаром его безупречная, блестящая и изысканная французская речь напомнила однажды Тэну l’art de converser парижских салонов восемнадцатого века.
В тургеневском творчестве это самый устойчивый лейтмотив. Скрытый подчас текущими темами, заслоненный запросами идейного дня, затуманенный шумом злободневных споров, не звонкий и не кричащий, он проходит матовым тоном через всю основную мелодию его романов.
За всеми жалобами, укоризнами и вздохами его искателей и скитальцев, за всеми исповедями уездных Гамлетов и степных Лиров далеким и воздушным отзвуком иного мира звенит клавесин и поют флейты пасторалей.
3. Он начал с реставрации старых полотен. Один из его ранних рассказов, почти что дебют его в художественной прозе, – это «Три портрета». Здесь подлинное начало его творческого пути. Он открывает свой долгий художнический подвиг обработкой одной семейной драмы XVIII века, промелькнувшей перед ним в осенний вечер – перед пылающим камином, под пристальным взглядом трех запыленных портретов.
В их застывших чертах он сразу почуял драму. Эта молодая женщина в белых кружевах и высокой прическе, этот добродушный напудренный толстяк в алом кафтане с большими стразовыми пуговицами и, наконец, этот надменный гвардеец в белом камзоле под зеленым мундиром, небрежно опершийся на трость с золотым набалдашником, – портрет, так странно проколотый трехгранной шпагой, – все это говорило о сильных страстях и возвещало их трагический конфликт.
Фамильная хроника увела Тургенева в самую глубь столетия. Свидетели царствования Елизаветы прошли перед ним торжественной походкой вельмож старого двора, тяжелые колымаги проколыхались по густым липовым аллеям помещичьих парков, вдоль извилистых озер и китайских беседок. На фоне беспечного времени, «когда все дворяне носили шпаги при пудре», перед ним промелькнули картины барских празднеств, прогулки верхом, фейерверки и катания ночью по реке с факелами и музыкой.
И острыми деталями нарастающей трагедии врезались в соотношения действующих лиц два предмета ушедшей обстановки: тонкая и гибкая французская шпага с трехгранным лезвием и маленький медальон, хранящий в своей золотой оправе портрет черноглазой женщины с лицом сладострастным и смелым.
Новый тон зазвучал в русской литературе. С появлением «Трех портретов» намечается новая борозда на полях нашей художественной прозы. Впервые в ней проделывается опыт творческой реставрации русского XVIII века не в форме исторического романа или протокольной хроники, а в виде сжатого и крепкого экстракта из культурного быта и любовных нравов эпохи.
Так начался Тургенев. В этой новелле «Петербургского сборника» уже четко сказалось его авторское лицо. На нем уже никогда не сотрется задумчивое выражение пытливого созерцателя старинных портретов.
Через три года в Париже, среди новых впечатлений, лиц, чтений и замыслов, Тургенев дает тот же тон. Он завален книгами. Аристофан, Кальдерон, Лессаж, Паскаль, Жорж Санд и Мюссе сменяют друг друга на его рабочем столе. Но только один маленький томик, вышедший за столетие перед тем в Амстердаме, заставляет его взяться за перо и внести творческую тревогу личных вдохновений в монотонное ремесло переводчика. «Я перевожу Манон Леско», – сообщает Тургенев в своих письмах.
Это значительный момент его трудов и дней. Он брался за переводы лишь самых близких, дорогих и глубоко пленивших его созданий. Если не считать мелких стихотворных переводов и сказок Перро, только создания его духовных наставников побуждали его сочетать лингвистическую работу с художественной. В молодости его обращал к этому Гёте, на склоне лет – Флобер. Только для них этот «страстный гётеанец», этот строгий теоретик прозы, признавший высшим художественным критерием формулу «Флобер сказал», мог отрываться от ига и радостей непосредственного творчества.
Маленькая книжка аббата Прево должна была сильно взволновать Тургенева, если он взялся за перевод французского текста в самом разгаре работы над «Записками охотника» и первыми комедиями, между «Бирюком» и «Нахлебником».
Но эта книжка – квинтэссенция духа и нравов пленившей его эпохи. В ней вся атмосфера, весь трепет и жизнь века Казановы и Жан-Жака. Этот юный философ маленького романа, мальтийский рыцарь и богослов, мечтающий о мудрой и чистой жизни в уединенном домике рядом с лесным ручьем, среди избранных книг и немногих друзей, выражает – мимоходом – этическую мечту целого поколения страстных читателей «Новой Элоизы». Его неодолимое влечение к наслаждениям, его изнуряющая страсть к телу великолепной куртизанки, эти метания по залам богачей и игорным притонам, этот угар шулерства, беспутства, вечного риска, опасностей, похищений и бегств – разве не самый тип жизни авантюристов испорченного и ветреного века запечатлен в бурной истории злосчастного кавалера?
И наконец, каким ароматом веет от этой легкомысленной, беспечной, неблагодарной, изменчивой и непобедимо чарующей грешницы, захваченной жаждой упиться во что бы то ни стало каждым жизненным мгновением и превратить в сплошное празднество коротенькую пору своего жизненного цветения! Кажется, вся женственность жеманного и трагического столетия воплотилась в этой изящной и хрупкой человеческой статуэтке, от которой так непроизвольно исходят вечные спутники земной красоты – страсти, смерть и преступление.
Неудивительно, что через семь лет, в своем Спасском, Тургенев вспомнил первое впечатление от очаровательной грешницы старого Парижа и окрестил пленительный образ в надтреснутой раме ласкающим именем Манон Леско.
4. Это был момент затишья. В усадебном уединении, накопив обильные впечатления от путешествий, встреч и увлечений, Тургенев отдается пересмотру прожитых годов для выбора новых целей в своих житейских скитаниях. Над старыми заблуждениями и шатаниями повелительно возникает идея долга, и кажется, зыбкая жизнь беспочвенного мечтателя готовится завязать первые узлы оседлости и жизненного строительства.
Но среди этих новых планов и настроений, сквозь наслоившиеся залежи разнообразнейших запросов и интересов, по-прежнему струится звенящий ключ тургеневских влечений к веку иронической мудрости и философского сенсуализма.
Его занятия пронизаны отблесками старинной культуры. Он зачитывается мемуарами г-жи Роллан, он собирает материалы для статьи об Андре Шенье и обнаруживает в своих письмах тонкую эрудицию по всем вопросам минувшего столетия. Он вносит поправки в журнальные статьи о Бомарше и Людовике XV и готовит для «Современника» этюд об одном язвительном друге Гёте, послужившем ему прототипом для Мефистофеля.
Но особенно насыщает эту тоску по прошлому любимое искусство Тургенева – музыка. Глюк, Гайдн и Моцарт находятся среди его излюбленных композиторов. Их имена служат ему абсолютными показателями совершенства. Падением искусства кажется ему появление Россини, «после Моцарта и Глюка». В музыкальной рецензии о мейерберовском «Пророке» высшей похвалой звучит сближение одного из «необыкновенно грациозных» дуэтов оперы с моцартовскими мотивами.
Из журнальных статей он переносит это имя на свои романы и продолжает между двумя диалогам и занятие музыкального критика:
«– Моцарта любите?
– Моцарта люблю.
Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта… Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой посреди пленительной веселости беспечного напева внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби…»
И недаром герои Тургенева напевают арии из «Волшебной флейты». Это его собственная потребность. В спасском уединении он уходит «по горло в Моцарта». После нескольких месяцев затишья, истосковавшись по музыке, он прежде всего просит Тютчеву сыграть ему финал из «Дон Жуна». И гораздо позже, уже за три года до смерти, он противополагает Моцарта Рихарду Вагнеру и признается, что мелодия старинного и вечно юного композитора льется для него как прекрасный ручей или источник.
И конечно, он никогда не мог забыть того парижского отпевания, когда «Реквием» Моцарта прорыдал над раскрытым гробом Шопена в торжественной скорби похоронного оркестра, в глубоких вздохах органа и трагическом голосе Полины Виардо.
Но кажется, еще сильнее Тургенев любил огненные жалобы Глюка. Он высоко ценил эту встревоженную музыку, прорезавшую такой пронзительной скорбью все беспечные звоны «легкой радости земной».
«Хорошо ли вы знаете Глюка? – спрашивает он еще в молодости. – Помните его арию из „Ифигении“: „О malheureuse Iphiqenie“, или схождение в ад Орфея? Рекомендую вам также малоизвестную сцену из „Армиды“ – между Армидой и богиней Ненависти, к которой она приходит, чтобы искоренить из сердца свою любовь к Ринальду. Это одна из самых удивительных вещей, которые я только слышал».
Под старость он дает тот же отзыв. «Я восторгаюсь от глюковских речитативов и арий, – пишет он Стасову, – потому что у меня от первых их звуков навертываются слезы».
И незадолго до смерти он грезит о том, как стройные тени на Елисейских Полях беспечально и безрадостно проходят под важные звуки глюковских мелодий.
Кажется, аккомпанементом этой старинной музыки сопровождаются тургеневские страницы. Словно ясновидец тягчайших душевных драм тешит себя этими воздушными отзвуками. Он словно заворожен формами старинного искусства. Письма, возведенные в эпоху оживленнейшей корреспонденции королей и философов в степень тончайшего словесного мастерства, облекают исповеди его степенных неудачников. Признания, сомнения и покаяния этих расплывчатых и блуждающих сердец словно заостряются и звучат напряженнее в свежей непосредственности эпистолярной формы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































