Текст книги "Литературные биографии"
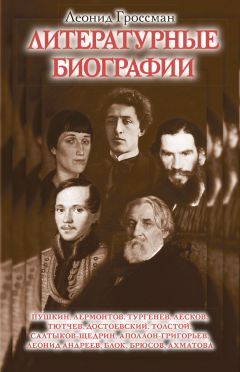
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
Стихотворения в прозе были написаны главным образом в 1878 году (тридцать шесть стихотворений) и 1879 году (12 стихотворений). К ним были прибавлены одно стихотворение в 1881 году («Молитва») и одно в 1882 году («Русский язык»).
Таким образом, последняя поэма Тургенева писалась постепенно. План ее не был обдуман и разработан заранее. Он только смутно предчувствовался Тургеневым, когда он набрасывал первые стихотворения всего цикла. Так, в эпоху работы над первой главой «Онегина» Пушкин еле различал «сквозь магический кристалл» план, действие и перспективу своего романа. В обоих случаях в процессе работы вызревал и определялся ее внутренний строй. И так же, как годы, потраченные Пушкиным на писание «Онегина», отражали на романе текущие впечатление поэта, постепенно уясняя план всего произведения, так и эпоха написания «Стихотворений в прозе» беспрестанно отлагала на них следы новых раздумий и жизненных фактов, уясняя и общий план намеченного цикла.
В результате эти заметки из записной книжки писателя равномерно расположились вокруг основных замыслов последней тургеневской философии. Этим определилась композиция «Сенилий», придающая собранию отрывков и заметок характер, смысл и значение цельной философской поэмы.
Каждая основная тема получает здесь три разработки. Стихотворения в прозе группируются по три вокруг главных замыслов. Получаются законченные триптихи. Главные из них: «Россия», «Христос», «Конец света», «Рок», «Природа», «Любовь», «Смерть», «Безверие» и «Друг».
Проследим преломление основных тем в этой трехгранной призме художественной разработки.
Первый триптих: «Россия». Он состоит из стихотворений «Деревня», «Сфинкс», «Русский язык». Это триптих основной. К нему относятся первое и последнее стихотворения всего цикла. Обработками этого замысла открывается и завершается вся рубрика «Сенилий». В первом стихотворении дана поразительная по свежести своей живописи картина: «…на тысячу верст кругом Россия – родной край…» Вторая часть триптиха – «Сфинкс». Это раздумье о вечной загадочности облика и характера русской нации, далеко еще не разгаданной славянофильством. Наконец, третья часть – классические шесть строк о русском языке. Духовное творчество нации – ее язык – свидетельствует о величии ее призвания даже в дни тягчайших раздумий о судьбах родины.
Второй триптих: «Христос». В тени тургеневского творчества росла эта тема его вечных раздумий. В последней поэме она раскрыла триптих о Христе:
Я видел себя юношей,
Почти мальчиком,
В низкой деревенской церкви.
Красными пятнышками
Теплились перед старинными образами
Восковые тонкие свечи.
Радужный венчик
Окружал каждое маленькое пламя.
Темно и тускло было в церкви…
(«Христос»)…
И вот подходит Христос: «…лицо, как у всех, – лицо, похожее на все человеческие лица». Такое лицо у полунищего мужика, принявшего в дом сироту племянницу ценою отказа от соли на похлебку («Два богача»); такое лицо и у солдатика Егора, идущего на виселицу по оговору шалой бабы со словами: «Скажите ей, ваше благородие, чтоб она не убивалась. Ведь я ей простил» («Повесить его!»).
Третий триптих: «Природа». Глубокое равнодушие великой зиждительницы ко всем ее созданиям и равенство всего живущего перед ее лицом – вот тема трех стихотворений: «Природа», «Морское плавание», «Собака». «Все твари – мои дети, и я одинаково о них забочусь и одинаково их истребляю» – таковы слова величавой женщины в зеленой одежде. Для нее равноценны беседующий с ней Тургенев и спасающаяся от удара блоха, грустящий писатель на палубе парохода и жалобно прижавшаяся к нему маленькая обезьянка («Морское плавание»), старый мыслитель и его верный пес, одинаково прислушивающиеся к ропоту бури за стеною («Собака»).
Четвертый триптих: «Судьба». Это прежде всего резко высеченный барельеф «Necessitas – Vis – Lidertas» – группа из трех фигур: бессильно мечущаяся зрячая девочка Свобода в тисках слепой силы и железной необходимости. Это затем «Два брата» – видение двух ангелов: Любви и Голода, – общая цель которых: «Нужно, чтобы жизнь не прекращалась». Это, наконец, трагическая миниатюра «Щи»; да, нужно, чтобы жизнь продолжалась: «Вася мой помер – с живой с меня сняли голову, а щам не пропадать же…» Такова бытовая иллюстрация к барельефу о необходимости.
Пятый триптих: «Любовь». В центре его – дифирамб Полине Виардо, некая песнь торжествующей любви: «Стой!» Ей сопутствуют две маленькие поэмы – «Голуби» и «Воробей», раскрывающие всю глубину той любви, что сильнее смерти и страха смерти.
Шестой триптих: «Античные песни». Он открывается видением «Нимфы» – новым сказанием о том, как боги уходят. Он развивается в фантазии о древнейшей поре счастья, о лазурном царстве, и завершается женским обликом, проходящим по жизни, как тени в Елисейских Полях «под важные звуки глюковских мелодий» (H. H.).
Во всех трех очерках чувствуется то влечение к древности, которое сказалось в раннем стихотворении Тургенева «К Венере Медицейской» и в его поздней статье о пергамских раскопках.
Седьмой триптих: «Безверие». Три фрагмента составляющие его: «Монах», «Молитва», «Что я буду думать?». Это три записи постоянных раздумий Тургенева о безответности молитвы и загробной пустоте.
Восьмой триптих: «Старость». Он составлен из трех фрагментов на тему о необходимости уйти на склоне лет в свои воспоминания, в минувшую, все еще пахучую и свежую жизнь: «Но будь осторожен, не гляди вперед, бедный старик»! («Старик»). Та же тема проходит через стихотворения «Камень» и «Как хороши, как свежи были розы».
Девятый триптих: «Смерть». Ужасная старуха толкает к черной яме; если ты остановишься, приползет к тебе под макабрский смех страшной спутницы («Старуха»). Но смерть примиряет: высокая тихая белая женщина сводит снова руки Тургенева и умирающего Некрасова («Последнее свидание»). И наконец, третья створка триптиха – «Насекомое»: жуткое изображение обреченных на смерть, не ведающих о своей участи.
Десятый триптих: «Апокалипсис». Три картины гибели человечества: гениальный очерк «Конец света», напоминающий леденящие видения апостола Иоанна на Патмосе; торжественная и медленная гибель земли под царственной пеленой вечного снега («Разговор») и третья – «Черепья» – бредовое видение о живых людях с обнаженными черепами вместо лиц.
Таковы основные темы этой поздней поэмы. По принципу таких триптихов располагаются и остальные стихотворения. Получается пять новых трилистников: Три драмы («Маша», «Роза», «Памяти Вревской»), Три портрета («Довольный человек», «Дурак» «Эгоист»), Благодетельность («Нищий», «Милостыня», «Пир у Верховного Существа»), Три сатиры («Восточная легенда», «Два четверостишия», «Враг и друг»), Житейская пошлость («Корреспондент», «Услышишь суд глупца», «Житейское правило»).
Пять стихотворений не вошли в эти триптихи. Но они к ним близко примыкают. «Соперник» собирает и углубляет рассеянные по другим отрывкам черты и предчувствия о загробной жизни. Диалог «Чернорабочий и белоручка» намечает глубокий разлад теоретиков всеобщего счастья и косной простонародной массы, приближаясь к раздумьям о народе-сфинксе. Краткая заметка «Завтра! Завтра!» – размышление о вечных иллюзиях и обманчивых надеждах на будущее – как бы дополняет старческий догмат Тургенева о необходимости жить исключительно настоящим. «Мы еще повоюем!» – бодрый, мужественный вызов вечному призраку Смерти. И наконец, «Посещение» – гимн творческой фантазии, духу красоты, искусства, созидательных радостей, той высшей жизненной истине, которая в самые тягостные минуты спасала Тургенева от отчаяния[16]16
Из двух не вошедших в окончательный цикл стихотворений (см. у М. Гершензона «Русские Пропилеи», III, 52–53) «Порог» наиболее близок к триптиху «Россия», а «С кем спорить» – к «Трем сатирам».
[Закрыть].
Так раздумья предсмертных годов определяли план этого лирического интермеццо. Здесь Тургенев дает окончательные ответы на возникавшие уже в его ранних созданиях вопросы и недоумения. Замечательно, что уже в его первых поэмах наметились темы, прозвучавшие такой завершающей мудростью в песнях его старческих раздумий.
Первое из «Стихотворений в прозе», «Деревня», отдаленной прелюдией звучит уже в первой поэме Тургенева:
О, Русь! Люблю твои поля,
Когда под ярким солнцем лета,
Светла, роскошна, вся согрета,
Блестит и нежится земля.
Люблю бродить в лугу росистом,
Весной, когда веселым свистом
И влажным запахом полна
Степей живая тишина…
Эта тема проходит через все «Записки охотника», осложняется философскими спорами в романах Тургенева и завершается тремя фрагментами «Сенилий», отмечающими с изумительной полнотой, сосредоточенностью и четкостью три основных мотива вечного творческого помысла Тургенева. Россия. Конкретная любовь к пейзажной, осязательно-прекрасной, солнечно-степной Руси затемняется тяжелым раздумьем о загадочном облике народа-сфинкса, чтоб окончательно утвердиться на вере в высокое духовное творчество нации.
С этой темой близко связана другая, вечно увлекавшая Тургенева: Природа. Здесь сосредоточилась своеобразная драма его духа. Тургенев вечно переживал безнадежную любовь к природе, считая ее безответной и бездушной. Уже в ранних поэмах он свежими, живыми, подлинно творческими словами говорит о том, как
Здоровая земля блестит и дышит
И млеет и зародышами пышет.
Но рядом с этим какое сознание бездушности этой красоты, какая грусть перед ее вечным молчанием:
Боже мой!
Как равнодушна, как нема природа!
Таков в ранней поэме Тургенева мотив одного из его последних отрывков.
Таким же завершающим звеном в целой цепи долголетних раздумий служит триптих о Христе. Замечательно, что первые напечатанные страницы Тургенева – его отчет о книге «Путешествие к святым местам русским» – были проникнуты тем евангельским духом, который сказался впоследствии в «Живых мощах» и «Христе».
И наконец, даже тема Апокалипсиса, разработанная трижды в «Стихотворениях в прозе», привлекала Тургенева и в молодости. Еще в 1846 году он переводит замечательный отрывок из Байрона «Тьма» – описание медленного умирания земли:
И мир был пуст,
Тот многолюдный мир, могучий мир
Был мертвой массой, без травы, деревьев,
Без жизни, времени, людей, движенья.
То хаос смерти был…
В своей последней поэме Тургенев дает ответы на все возникавшие перед ним ранее вопросы, как бы разрешает сомнение всех своих прежних исканий. Не приходится, конечно, настаивать на том, что и остальные темы последних триптихов – Любовь, Смерть, Судьба, Старость – занимали и мучили Тургенева на протяжении всего его творческого пути.
Такова архитектоника поэмы. Разложить ее накопляющиеся постепенно строфы-песни по основным линиям своего последнего мировозрения, сгруппировать художественные фрагменты вокруг нескольких доминирующих тезисов своей поздней философии, руководясь преимущественно стройностью троекратных вариаций каждой главной темы, – таков выработанный Тургеневым в процессе написания «Сенилий» органический закон их внутренней композиции.
Каковы же эти основные линии и господствующие темы? Какие центральные стержни поддерживают разветвления этой архитектуры? Другими словами – в чем сущность последней философии Тургенева?
III. Философия1. Абрис последней философии Тургенева четко вычерчивается в набросках его «Сенилий». За отдельными образами, эпизодами, лицами и видениями здесь в отчетливых схемах выступают господствующие думы его позднего исповедания.
Это прежде всего ужас перед мировой пустынностью. Бездушие космоса, его полное безучастие к томящейся личности и невозмутимое безразличие пред острейшими драмами духа вызывали в Тургеневе чувство смертельной тоски и потребность ответить презрительным молчанием на вечное равнодушие неведомого.
Но помимо его воли ужас охватывал его перед бесплодными пустынями мировых пространств. Horror vacui – вот его вечное ощущение при мысли о незаселенной бесконечности. С годами это смешанное чувство испуга, возмущения и отчаяния не переставало сгущаться, и в «Сенилиях» явственно прозвучал стон одного из любимых трагических мыслителей Тургенева: «Linfini de ces espaces sans bornes m’effraye…»
Но уйти за тесную ограду человеческой среды от этой ледяной бесконечности и равнодушия стихии Тургенев не мог. Он остро чувствовал неприглядность сгрудившейся людской массы и слишком явственно различал уродливые пружины ее движений и действий. С обидой и болью он слышал «суд глупца и смех толпы» – как отзвук современников на свои творческие поиски, раздумья и достижения. Он видел вокруг расхлеставшуюся волну тупости, клеветы, себялюбия и хищной хитрости, превратившихся в обычай, ставший житейским правилом. И в глубоком унынии, разворачивая темное полотно своей последней поэмы, Тургенев зачерчивал типические фигуры глупца или самодовольного себялюбца как колоритные и показательные экземпляры своего вида и своей среды.
Но на фоне этой космической пустоты и людской неприглядности Тургенев различал те абсолютные ценности, ради которых стоило влачить свое тело через положенные десятилетия трудностей, мучений и дрязг. Какие-то значительные компенсации предоставлялись судьбою всем обездоленным и разочарованным. Да, мир пуст, и Бога нет в нем, но облик Христа высветляет до конца этот темный путь. Пусть природа слепа и бездушна, но искусство полно высшей одухотворенности, вещих прозрений и утешительных радостей. Пусть человеческая масса уродлива и мелка, но зато какая неугасимая красота, какой очищающий смысл и творческая сила в облике любящей женщины. К ней молитва Тургенева: «Урони в душу мою отблеск твоей вечности!»
Этими ценностями утверждалось мировоззрение Тургенева. Сложное явление представляет собою христианство этого атеиста, как и самое неверие его, граничащее с мистицизмом. Приняв в качестве путеводного начала своих философских исканий господствовавшую в его зрелую пору веру в точное знание, Тургенев ощущал всегда глубокую неудовлетворенность перед окончательными выводами этого учения. Сочувственный читатель Revue Positiviste и почитатель Литтре, он постоянно влекся за точные грани системы, сжимавшей и урезывавшей какие-то главные устремления его духа. Это недоверие к высшей мудрости опытной науки с годами росло и углублялось в нем, все настойчивее обращая художественную озабоченность Тургенева к миру неразгаданного и иррационального. Религиозная проблема стояла всегда, независимо от своего разрешения, в центре его духовных запросов. И кажется, самым показательным в этом отношении остается его заявление: «В мистицизм я не ударился и не ударюсь; в отношении к Богу я придерживаюсь мнения Фауста:
Wer darf ihn nennen.
Und wer bekennen:
Ich glaub’ ihn:
Wer empfinden
Und sich unterwinden
Zu sagen: Ich glaub ihn nicht»[17]17
Письмо к Герцену, 28 апр. 1862 г. «Кто решится его назвать // Или сказать: „Я верю в него“, // Кто воспримет его своим чувством // Или осмелится сказать: // „Я в него не верю?“» (нем.; «Фауст», ч. I, «Сад Маргариты», сцена II).
[Закрыть].
В этом скорее сказывается драма неверующего, но религиозно настроенного духа, чем исповедание подлинной веры. Таким и было основное настроение Тургенева во все периоды его внутренней истории с некоторыми перевесами в ту или иную сторону.
Этим определились и его отношения к Христу. Здесь Тургенев оказался близок к Ренану, которого лично знал. Благоговейное отношение к личности Спасителя и непризнание Его Божественности, преимущественное приятие евангельской этики в ущерб мистике – вот какими чертами знаменуется тургеневское христианство.
Оно рано дало о себе знать. Еще семнадцатилетним подростком Тургенев открывает свои писания – как уже отмечалось выше – глубоко евангельскими страницами. Многозначательны эти ранние строки: «Какое неизъяснимо-величественное явление представляет нам история христианства! Двенадцать бедных рыбаков, не ученых, но сильных верою в Спасителя, проповедуют Слово Божие – и царства, народы покоряются всемогущему призванию, с радостью принимают Святое Евангелие, и через три столетия после того мгновения, когда совершилось великое дело искупления, уже по лицу почти всей тогда известной земли воздвигаются алтари истинному Богу…»
Этих первых строк Тургенева не вытравить из его литературного наследия. В своей первой статье он с глубокой любовью говорит о древних обителях и островных пустынях, о монастырях и пещерах, о подвигах отшельников и чудесах святителей. Он с благоговением приводит рассказ монастырского игумена о святом царевиче Иоасафе и выписывает песнь валаамских иноков о радости невечерней.
Поэтичность религиозных явлений всегда привлекала Тургенева. Пение церковной музыки, иконописные тона житий чуятся за его страницами о Касьяне, Лизе или Лукерии. Рим поднимал в нем эстетикой культа религиозное настроение. «Ни в каком городе, – пишет он в своих римских письмах, – вы не имеете этого постоянного чувства, что Великое, Прекрасное, Значительное – близко, под рукою, постоянно окружает вас и что, следовательно, вам во всякое время возможно войти в святилище».
Но эта возможность не осуществилась для Тургенева: он не вступил в святилище. Он навсегда остался на его пороге с обнаженной головой, ищущим взглядом и безмолвными устами.
Его «Сенилии» полны свидетельств об этой трагедии атеиста, тоскующего по молитвенному дару. Перед открывающейся пустотой загробного мира, перед невозможностью молитвы, перед вечным отсутствием или молчанием Божества, Тургенев чувствует великую возрождающую силу в облике и слове Христа. Он до конца очеловечивает Спасителя и в этом видит смысл и величие Его явления в мире.
К таким же высшим ценностям бытия относил Тургенев и всю сферу человеческого творчества. Религия искусства была его подлинным, ничем не омрачаемым исповеданием. Полотна старинной живописи, выглядывающие из всех его созданий архитектурные шедевры итальянских зодчих, разбросанные по глохнущим усадьбам его романов, музыка Моцарта, Глюка, Бетховена или Гайдна, постоянно звучащая с его страниц, – вот та обедня, которую Тургенев никогда не устает служить своему богу.
В его «Сенилиях» длится эта месса. Здесь звучит гимн «Богине-Фантазии», здесь говорит он о жителях того города, в котором отсутствие новых прекрасных стихов считалось общественным бедствием, вызывающим траур, слезы и молитвы на площадях. Наконец, здесь раздаются слова о преображающем действии музыки, преодолевающем косность всех законов необходимости. Пока звенит в воздухе «последний вдохновенный звук», раскрывается до конца тайна поэзии, жизни, любви. «Вот оно, вот оно бессмертие! Другого бессмертия нет – и не надо…» Обновленное и взволнованное сознание приемлет мгновенный отблеск вечности.
Так высшее для Тургенева искусство – музыка – приобщает к бессмертию, как любовь, побеждающая «жало смерти». Через последнюю поэму Тургенева снова проходит тема «Песни торжествующей любви».
И снова с преображающей тайной музыки сливается тайна победоносной любви. В фрагменте «Стой!» дан мгновенный портрет Полины Виардо, чей образ открыл Тургеневу третью великую ценность бытия.
Так разворачивается эта завершающая его жизненный опыт философия: бездушие космоса и неприглядность человечества заслоняются лишь евангельской действенностью или радостями творчества и цельной любви.
2. Два умственных увлечения Тургенева способствовали к концу его жизни кристаллизации этой мудрости: дружба с Флобером и чтение Шопенгауэра.
В 70-х годах приятельские отношения Тургенева и Флобера перешли в тесную дружбу. Письма Флобера полны в эту эпоху упоминаний о «великом Тургеневе», «славном Тургеневе», «добром московите». Они полны рассказов о совместных поездках обоих писателей к Жорж Санд или Виардо, о их постоянных беседах, встречах и чтениях. В своих письмах Флобер восхищается «Вешними водами» и «Несчастной».
«Я провел вчера, – сообщает Флобер в одном из писем к Жорж Санд, – прекрасный день с Тургеневым, которому я прочел 115 уже написанных страниц „Святого Антония“. После этого я ему прочел приблизительно половину „Последних песен“. Какой слушатель! и какой критик! Он поразил меня глубиною и четкостью своего суждения. Если бы все те, которые берутся судить о книгах, могли бы его слышать – какой урок они бы получили! Ничто не Ускользает от его внимания. К концу поэмы в сотню стихов он помнит слабый эпитет! Он дал мне относительно „Святого Антония“ два-три превосходных указания о некоторых подробностях».
В этих постоянных беседах, как и в письмах своих, Флобер должен был разворачивать целую философию безотрадности, близкую к последним воззрениям самого Тургенева. Это те же основы мизантропии, пессимизма, безверия и единственно возможной религии – культа искусства.
Люди вызывают в творце «Бувара и Пекюше» глубокое отвращение: «Непоправимое варварство человечества наполняет меня черной тоской»; «В воздухе столько глупости, что становишься свирепым»; «Никогда еще я не испытывал такого колоссального отвращения к людям! Я затопил бы человечество под своей рвотой!..»
С годами он чувствует себя все более одиноким. Единственное утешение среди надвинувшейся старости – уйти в воспоминания: «О будущем у меня нет видений, но зато прошлое встает передо мной словно в золотой дымке…»
Он глубоко чувствует «маккиавелизм природы», как он пишет Ренану, и полную покинутость мира; перед лицом этих фактов бесплодными кажутся ему религия и метафизика.
И все же он не может оторваться от психологии святых, он даже чувствует в себе натуру священника, он преклоняется перед обликом Христа и завершает одну из своих прекраснейших легенд иконописной фреской, изображающей вознесение великого грешника в объятиях лучезарного Спасителя.
Тайна бесконечного тревожит его. Первопричины мироздания фатально непознаваемы: «Чем совершеннее будут телескопы, тем многочисленнее окажутся звезды. Мы осуждены влачиться в темноте и в слезах. Когда я гляжу на одну из звездочек Млечного Пути, я говорю себе, что Земля не крупнее подобной искорки. И я, пребывающий одно мгновение на этой искорке, – что представляю я собой, что представляем все мы?.. Бесконечность поглощает все наши замыслы…».
Но над всем господствует у Флобера культ прекрасного. Его религия сводится целиком к служению Богу-Красоте. Нужно всем пожертвовать искусству. Нужно добровольно отказаться от личного счастья и все свои силы отдать творчеству. Таково окончательно сложившееся исповедание флоберовской старости.
И часто, под непосредственным впечатлением таких бесед, Тургенев заносил в свой творческий дневник раздумья, вошедшие впоследствии в цикл его последних элегий.
Увлечение Шопенгауэром подвело прочное основание под эти личные настроения стареющего художника, мечтавшего в молодости о кафедре философии и даже подписавшего одну из своих ранних статей: «кандидат философии Иван Тургенев». Еще в 1862 году он пишет Герцену по поводу грядущих судеб России: «Шопенгауэра, брат, надо читать поприлежнее, Шопенгауэра». Из книги, в которую жадно вчитывался в последнюю эпоху Тургенев, из «Мира, как воля и представление», он узнал, что и глазам мудреца жизнь представляется беспрерывным и мучительным обманом, странной смесью глупости, злости и случайности. Голод, смерть, половой инстинкт – вот господствующие силы жизни. Пред лицом взаимно поедающих друг друга живых существ Шопенгауэр считает бесчестным говорить о мудром и благом Боге.
Мизантропия Тургенева получила здесь могучее подкрепление. Человеческий род, по Шопенгауэру, это только почва, на которой пышно расцветает торжество ошибки, глупости, эгоизма, злости и всякой мерзости. Отравление Сократа и распятие Христа – вот показательные черты человеческой совести.
«Главный источник величайших зол, поражающих человека, – это сам человек: homo homini lupus («человек человеку волк»). Кто понял этот последний закон, для того мир представляется преисподней, более ужасной, чем дантовский ад, ибо здесь каждый осужден быть дьяволом своего ближнего… Несправедливость, крайнее неравенство, грубость, даже жестокость – вот чем обычно определяются взаимные человеческие отношения; противоположные начала – исключение».
Ужас жизни повышается сознанием неизбежной смерти. Страх конца поддерживает в борьбе за существование. «Жизнь – море, полное скал и водоворотов, которые человек избегает с величайшей предосторожностью и бдительностью, хотя он и знает, что, если даже удастся со всем напряжением и искусством миновать их, он с каждым шагом приближается к ужаснейшему кораблекрушению, самому полному, неизбежному и непоправимому, но к которому он все же не перестает грести – к смерти; в ней последняя цель мучительного странствия, более ужасная, чем все обойденные скалы» (I, 368–369).
Основной тон книги Шопенгауэра глубоко созвучен голосу «Сенилий». Тезисы обеих философий совпадают. Чувствуется, что стареющий Тургенев должен был с особенным вниманием вчитываться в главу «О тщетности жизненных страданий».
«Пробужденная из ночи бессознательного к жизни, личная воля находит себя в бесконечном мире, среди бесчисленных людей, ищущих, страдающих, заблуждающихся, – и словно пройдя через тягостный сон, она возвращается к прежнему бессознательному состоянию… Жизнь раскрывается как вечный обман в великом, так и в малом. Она не сдерживает своих обещаний, за исключением лишь тех случаев, когда она хочет показать, насколько желаемое нами было мало достойно желания.
…Иллюзия расстояния показывает нам подчас поля блаженных, которые исчезают при нашем приближении, как оптический обман. Счастие находится всегда в будущем или в прошлом, а настоящее подобно маленькому темному облачку, гонимому ветром над освещенной солнцем долиной: все перед ним и за ним блещет светом, только оно не перестает отбрасывать тень. Настоящее всегда кажется недостаточным, будущее неверно, а прошлое непоправимо» (II, 654–655).
Не художественными ли комментариями к этим страницам служат отрывки из «Призраков», «Довольно» и последних элегий в прозе?
Но и утверждающие начала тургеневского мировоззрения укреплялись этой философией. И в ней красота и сострадание признаются освящающими началами, а гений и святой – искупителями мирового ничтожества. Даже бездушная природа, не признающая нравственного мира, враждующая с человеческой моралью (I, 331; II, 645), оправдана своей творческой способностью разукрашивать с мудрым вкусом каждый клочок земли, свободный от косолапых прикосновений «великого эгоиста» (II, 460).
Но высшая ценность – в искусстве. В нем все существующее достигает совершенного развития и полного цветения, очищаясь, сосредоточиваясь, углубляясь: «Наслаждение всем прекрасным, утешение созданиями искусства, восторг художника, заставляющий его забыть муки жизни, – вот великое преимущество гения, вознаграждающее его и за большее страдание, растущее пропорционально прояснению его сознания, и за пустынное одиночество среди несхожей с ним толпы. Все это основано на том, что сущность жизни, воля, само бытие есть сплошное страдание, жалкое или ужасное; но, созерцаемое в чистоте представления или сквозь искусство, оно освобождается от мучительности и представляет зрелище, полное глубокого смысла» (I, 315).
Это особенно относится к музыке. Одинокое и великолепное искусство, «самое свободное и могущественное из всех», раскрывает внутреннее ядро явлений и возносит свою значительность над всеми паясничаниями и муками жизни.
Так же глубоко и полно освящается жизнь состраданием. Это основное начало любви и первый импульс нравственности. Отсюда громадное жизненное значение христианства. В этике Шопенгауэра Евангелие занимает центральное место, как действенная философия добродетели. Образ Спасителя вызывает в скептической мудрости франкфуртского пессимиста глубокое благоговение и вносит озаряющие страницы в его угрюмую книгу. Сам Шопенгауэр отмечает родство своей системы с христианской догматикой в вопросах о наследственной вине, об искуплении, о грехе и возрождении, о вечной противоположности Адама и Иисуса.
И какие прекрасные, торжественные и проникновенные слова находит он, чтоб говорить «о христианском Спасителе, этом высоком образе, исполненном жизни, глубочайшей поэтической истины и высочайшего значения, который, при совершенной добродетели, святости и возвышенности, стоит перед нами в положении высочайшего страдания».
Для нашего поколения Шопенгауэр перестал быть настольной книгой. Но людей тургеневской поры он захватил, увлек и подчинил себе, как великое откровение новой жизненной мудрости. «Зa me va», – пишет скептический отрицатель Флобер об этом «пессимисте или, скорее, буддиcте». Рихард Вагнер требует, чтоб философия Шопенгауэра легла в основу будущей духовной культуры. У нас Толстой разделяет это преклонение своих современников, долгое время находится под впечатлением учения Шопенгауэра о половой любви и заполняет свой «Круг чтения» отрывками из его трактатов. Страхов признает его книгу одним из истинных чудес германского глубокомыслия, выражающим тайну человеческой души с незабываемой силой и ясностью. Фет проводит годы над переводом книги «Мир, как воля и представление».
Но, быть может, Тургенев оказался одним из самых преданных адептов Шопенгауэра. Его последняя философия ковалась под тяжкими ударами этого безотрадного исповедания, и многие фрагменты «Сенилий» кажутся заметками на полях Шопенгауэра.
Так определилось мировоззрение Тургенева в его последней поэме. Перед безнадежной пустотою неба, перед равнодушием природы и ужасом смерти, перед слепыми силами судьбы и ничтожеством людской среды жизнь получает смысл лишь от глубокой душевной привязанности, от евангельской правды, от создания новой красоты. Любовь, кротость, творчество – вот что надписывает Тургенев на своем светлом барельефе против пасмурного: Necessitas – Vis – Libertas.
Вот почему под тяжким бременем хаоса жизнь все же прекрасна. Окруженная жуткой стихией неведомого, жестокого и бессмысленно истребляющего, она таит в себе силу какой-то скрытой правды и непонятного очарования. В этой огромной космической пустыне среди ужасов, гибелей и зол расцветает хрупкий, но магически прекрасный Цветок человеческого бытия, полный огненных красок и пряных ароматов. Он еле держится на своем тоненьком стебельке, он создан на мгновение и часто гаснет еще быстрее, – и все же эта мерцающая искорка в ледяных потемках вселенского провала оправдывает его существование и сообщает ему искупительный смысл.
Такова последняя философия Тургенева, медленно вызревавшая в его новеллах, романах и драмах, чтоб с окончательной четкостью запечатлеться в гениальных сокращениях его предсмертной поэмы. Нужны были во всей их полноте впечатления этой богатой жизни и труднейшая художественная школа, пройденная Тургеневым, чтоб отлить заповеди этой отстоявшейся мудрости в их кристаллически твердую и чистую форму. Только ценою такого сложного опыта эти последние заветы о преображении житейской мути и космического ужаса в высшие категории активной кротости, душевной страстности и творческой красоты облеклись прекраснейшими страницами ритмической прозы во всей русской литературе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































