Текст книги "Литературные биографии"
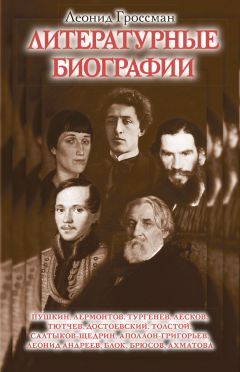
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
Наряду с новым судом бдительное внимание власти привлекала и русская либеральная печать. К этому весьма робкому способу создать в России подобие общего мнения Победоносцев относился с величайшей подозрительностью и предвзятым осуждением: «Пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени». Любой уличный проходимец «может, имея деньги, основать газету и с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность». Победоносцев особенно нападает на «корреспонденции из разных углов», равносильные анонимным пасквилям, и яростно клеймит «гнусный промысел шантажа», свивающий себе гнездо в недрах современной газеты.
В полном согласии с этими воззрениями правительственной реакции на печать охранительный роман-памфлет создает бродячий тип газетного деятеля, отмеченного всеми указанными свойствами. Образ прогрессивного, журналиста, являющего в жизни черты моральной нечистоплотности, бытует в консервативных романах Лескова. Таков уездный учитель Зарницын в «Некуда», посылающий обличительные заметки в катковские «Московские Ведомости», Тишка Кишенский в «На ножах», мелкий газетчик и полицейский сотрудник, открывающий кассу ссуд и участвующий в трех разных газетах противоположного направления, Варнава Препотенский в «Соборянах», посылающий в Петербург «резкие статейки» о жизни своего захолустья и наконец попадающий в столицу, где он становится редактором большого органа. Таков же в «Панурговом стаде» Крестовского литератор-провинциал Ардальон Полояров, пишущий статьи «о немецко-татарском деспотизме петербургского царизма» и продающий богатым откупщикам за крупные суммы пасквили, написанные на них. Черты маски однородны: продажность, карьеризм, крайняя неразборчивость в средствах, доходящая до уголовщины, при демонстративном исповедании «прогрессивных идей». Достоевский зачертил мимоходом этот тип в «Идиоте», изобразив здесь боксера Келлера, который помещает в «еженедельной газете из юмористических» (очевидно в «Искре») статью пасквильного и шантажного характера под заглавием «Пролетарии и отпрыски, эпизод из дневных и вседневных грабежей. Прогресс! Реформа! Справедливость!» Достоевский полностью воспроизводит в романе эту статью, давая в ней сгущенную и резкую пародию на обличительную корреспонденцию 60-х годов.
В «Братьях Карамазовых» этот тип представлен «семинаристом-карьеристом» Ракитиным. Это попович, ставший сотрудником столичных изданий. Он посылает в журнал корреспонденцию о процессе Дмитрия Карамазова, охотно играя на прогрессивной теме «застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений». Он, по замыслу и выполнению Достоевского, оказывается хищником, сводником, торгашом своими мнениями. Сотрудник радикальной прессы, он пишет брошюры, издаваемые епархиальным начальством «с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному»[33]33
А. В. Амфитеатров отметил, что в фигуре Ракитина Достоевский смешал слухи, «ходившие в ретроградных кругах о прошлом Елисеева и Благосветлова».
В одном анонимном фельетоне «Гражданина» 1878 г. приводится выдержка из статьи А. С. Суворина в «Новом Времени»: «Если б г. Елисеев продолжал попрежнему писать такие сочинения, как «Жизнеописания святителя Григория, Германа, Варсонофия Казанских и Свияжских» и посвящать эти сочинения архиепископам с таким обращением: «приношу сию малую лепту моего деланья. Высокосвященнейший владыко, примите со свойственным вам снисхождением мое скромное приношение, да вашим снисхождением ободрится к большим трудам недостоинство трудящихся». [Примечание редакции «Нов. врем.»: «Это подлинные слова г. Елисеева из посвящения его книги архиепископу Казанскому и Свияжскому Владимиру; г. Елисеев был тогда баккалавром Казанской духовной академии»] Если б г. Елисеев продолжал свою литературную деятельность в этом тоне и направлении, то никогда бы не сделался сотрудником ни «Современника» ни «Отчественных Записок»… Я не знаю, когда г. Елисеев был искренним человеком, тогда ли, когда в нем кипела юношеская кровь и он писал «малые лепты», или теперь, когда опыт жизни умудрил его и он пишет внутренние обозрения…» Независимо от указанных здесь материалов В. С. Дороватовская-Любимова в статье «Достоевский и шестидесятники» (М., 1928, стр. 4–16) показала, что Ракитин в ряде черт списан Достоевским с публициста Г. З. Елисеева.
Отметим, что Достоевский лично знал Елисеева. В письме к жене из Эмса 21 июля (и августа) 1876 г. он между прочим сообщает: «Здесь вчера утром на водах я встретил Елисеева (обозревателя «внутренних дел» в Отеч. Записках); он здесь вместе с женой, лечится и сам подошел ко мне. Впрочем не думаю, чтоб я с ними сошелся: старый «отрицатель» ничему не верит, на все вопросы и споры, и главное совершенно семинарское самодовольство свысока». (Ф.М. Достоевский.»Письма» под ред. А. С. Долинина, М.-Л., 1934, III, 233). В письме от 30 июля (11 августа) отзыв гораздо резче (там же, 240).
[Закрыть]. Сам он излагает Алеше меткую характеристику, данную ему Иваном: «примкну к толстому журналу», «буду его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком», «но держа ухо востро, то-есть, в сущности, дружа нашим и вашим», «пока не выстрою капитальный дом в Петербурге»… Алеша подтверждает, что «это, пожалуй, как есть все и сбудется».
В программе реакционеров особое внимание уделялось вопросам народного просвещения в целях ограждения подрастающего поколения от «революционной заразы». Имена соответственных министров – «классика» Толстого и врага «кухаркиных детей» Делянова – надолго сохранились в памяти русской интеллигенции. Победоносцев в статьях о народном просвещении пытался оберечь русскую школу от «лукавой диалектики современных просветителей». Охранительный роман, отвечая на эту задачу царского правительства, вводил в круг своих персонажей учащуюся молодежь (стриженые курсистки, студенты-естественники и пр.). Особую «маску» представляет здесь гимназист-обличитель, рано приобщившийся к революционной доктрине. В «Панурговом стаде» гимназист Шишкин бредит «дарованием новых прав и диктатурой над русской землею»… Аналогичная фигура выведена и в «Мареве» Клюшникова – гимназист, «известный в свете под именем нигилиста «Коли»; «дерзко заявляющий почтенным гражданам: «Я вас в ведомостях обличил да еще в воровстве».
Этому типу соответствует в «Братьях Карамазовых» мальчик Коля Красоткин, видимо революционер в зародыше, подросток-гимназист, заявляющий о себе «я социалист», считающий себя знатоком народа, цитирующий Белинского и Вольтера, заявляющий Алеше, что «христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс»… Достоевский изображает его без обычной злобной иронии, но не без тенденции указать на «больное явление» русской действительности и раннюю зараженность подрастающего поколения гибельными революционными теориями.
Наконец в романе «катковской» школы обычно выводятся положительные образы русского духовенства, как бы в противовес всем представителям бесовских ратей и «панурговых стад». Здесь сосредоточивается моральный пафос обличительной сатиры. Евангел («На ножах»), Иосаф («Панургово стадо»), игуменья мать Агния («Некуда») – вот те опорные пункты, откуда раздаются голоса поучения и проповеди.
В романах Достоевского образы Тихона и Зосимы выполняют ту же композиционную функцию в общей системе изображения новых людей, и недаром часть романа, озаглавленную «Русский инок», Достоевский считал краеугольным камнем всей эпопеи.
Есть в «Братьях Карамазовых» один образ, словно вобравший в себя в максимальном напряжении весь запас гневной ненависти автора к разрушителям алтаря и престола. Для окончательного поругания и посрамления идейного врага – материализма, атеизма, космополитизма и теории борьбы и разрушения – все эти мятежные течения, идущие войной на ветхий мир старорусского деспотизма, косности и невежества, воплощены в отвратительной фигуре Смердякова.
Лакей распутного вольнодумца Федора Павловича Карамазова, сын его от идиотки Лизаветы Смердящей, эпилептик, отцеубийца, моральное чудовище и духовный труп, разлагающийся на глазах читателя, – вот в какой синтетической фигуре олицетворяет Достоевский всех новейших представителей «левого доктринерства» и «европействующей интеллигенции». Смердяков представлен в романе крайним западником, ненавидящим царскую Россию и желающим ей погибели. Это – по-своему тончайший аналитик и диалектик, рассекающий своей элементарной, но не лишенной гибкости мыслью все церковно-национальные и государственно-патриотические предания, которые стремится сохранить и сберечь в своем предсмертном романе Достоевский.
VIIОбличение нигилизма шло в «Братьях Карамазовых» и по национальному признаку – Достоевский был одним из сторонников реакционной легенды, что все социально-революционное зло исходит от еврейства. Несмотря на его осведомленность в социалистической литературе 40-х годов в лице французских по национальности авторов – Фурье, Консидерана, Прудона, Луи Блана, несмотря на его личное участие в кружке Петрашевского, где не было ни одного еврея, вопреки наконец его пристальному вниманию к таким фигурам русской революции, как Герцен, Бакунин, Огарев, Нечаев, Каракозов, Чернышевский, – автор «Бесов» поддерживал утверждения Мещерских и Сувориных о юдаистической природе социализма в теории и действии. В этом отношении характерно письмо Достоевского к редактору «Гражданина» В. Ф. Пуцыковичу от 29 августа 1878 г. «о Лассалях, Карлах Марксах» и пр.
В письме мимоходом названы поляки – главная тема воинствующего шовинизма Каткова. Польский вопрос был одной из наиболее больных и острых тем тогдашнего правительства. После восстания 1863 г. в Западном крае проводится жестокая руссификаторская политика, вызывающая естественное возмущение коренного населения. Русская правофланговая беллетристика вводит в круг своих привычных персонажей шаблонную фигуру героя-поляка, подрывающего основы русской государственности. Лесков выводит в «Некуда» студента Костана Слободзиньского и старого офицера бывших польских войск Владислава Ярошиньского, который оказывается переодетым иезуитом. В «Панурговом стаде» Крестовского фигурируют в тех же предательских ролях полковник Пшециньский и ксендз Кунцевич. В «Мареве» Клюшникова действуют граф Владислав Бронский, провокатор, приветствующий крестьянские восстаниями тайно пересылающий оружие в Польшу. Он литографирует для подпольных кружков Фейербаха и состоит на секретной службе у губернатора. Среди студенческой оппозиции здесь выступают товарищи Пшиндишкевич, Джемпиковский. Вшисцинский. Bce это карикатурные персонажи традиционного и условного порядка.
Следуя этому канону, Достоевский выводит гротескные фигуры «полячков» на тризне по Мармеладову и намечает аналогичный образ в «Бесах». Об этом имеется беглое указание в начале романа: «Привел было Липутин ссыльного ксендза Слоньцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали». Фигура эта не получила дальнейшего развития. Но в «Карамазовых», уже в полном согласии с традицией реакционного романа, выведены поляки Муссялович и Врублевский, засаленные проходимцы, намеренно коверкающие на польский лад русские слова. Достоевский мимоходом вносит в их характеристику легкий политический штрих. Паны отказываются поддержать тост Мити за Россию и, в виде любезности, поднимают стаканы «за Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года». В дальнейшим они оказываются шулерами. Эпизодические фигуры, они выдержаны в характерном стиле «катковского» романа.
Националистические тенденции реакционных романистов сказываются и в откровенном антисемитизме. В «Панурговом стаде» выведен «губернаторский чиновник по особым поручениям, маленький черненький Шписс (вероятнее всего из могилевских жидков)». Здесь же фигурирует и богатый студент еврейского типа, выступающий против «беложилетников-аристократов»… У Лескова в «На ножах» действует литератор-ростовщик, иудей Тишка Кишенский. Среди героев «Некуда» имеется Нафтула Соловейчик, выдающий себя «за озлобленного представителя непризнанной нации». У Писемского во «Взбаломученном море» выведен крупный делец, коммерции советник Эммануил Галкин в ермолке и шелковом сюртуке. Эта традиция памфлетического романа мимоходом сказывается у Достоевского в персонаже «жидка Лямшина» (в «Бесах») и получает в «Братьях Карамазовых» заметное развитие.
Резкие националистические выпады, которыми так изобилует «Дневник писателя», имеются и в последнем романе Достоевского (см. например места о пребывании Федора Павловича Карамазова в Одессе, о спекуляциях Грушеньки и пр.). Особенно показателен в этом отношении, диалог Лизы Хохлаковой с Алешей: «Вот у меня одна книга, я читала, про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, и потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эк скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался…» И на вопрос истерической девицы любимейший из героев Достоевского дает ошеломляющую экспертизу: «Алеша, правда ли, что жиды на пасху детей крадут и режут?» – «Не знаю».
По своему обыкновению Достоевский вводит здесь в роман тему текущей публицистики. В эпоху написания «Братьев Карамазовых» царское правительство было как раз занято очередным «ритуальным процессом» – так назыпяамыи «Кутаисским делом». В апреле 1878 г., как водится в таких случаях, в самые кануны еврейской пасхи исчезла из закавказского селения девочка-грузинка. Вопреки всем обстоятельствам следствия и даже медицинской экспертизе, девять евреев были преданы суду по ритуальному обвинению. Правая печать оживилась для пропаганды кровавого мифа и обработки общественного мнения к предстоящему процессу. Из архивов секретных канцелярий были извлечены старинные упражнения царских чиновников в кровавых наветах.
В «Гражданине» рядом с фельетоном Достоевского «Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова» появляется статья «Сведения об убийствах евреями христиан для добывания крови (составлено тайным советником Скрипицыным, директором департамента иностранных исповеданий, по распоряжению министра внутренних дел графа Перовского для императора Николая I, наследника-цесаревича, вел. князей и членов гос. совета)», а в одном из следующих номеров «Подробное изложение фактов об убийствах евреями христиан для добывания крови». Продолжением этих публикаций в начале следующего года явилась статья «Жиды-изуверы и их защитники. По поводу дела о новом убийстве христианской девочки для добывания крови». Как характеризовала сама редакция, это – ряд статей, в коих изложены на основании официальных данных ужасающие читателя подробности обо всех убийствах христиан, преимущественно детей, жидами для добывания христианской крови»… («Гражданин» 1879, № 4).
Причины такого усиленного внимания «Гражданина» к этой теме вскоре разъяснились. В начале 1879 г. журнал Мещерского сообщал: «Мы еще не кончили статей по этому вопросу, как уже в Кутаисе назначено к слушанию новое, самое, так сказать, современное, весьма интересное дело в этом роде: несколько жидов обвиняются в убийстве малолетней христианской девочки с целью добывания христианской крови». («Гражданин» 1879, стр. 60).
Все это естественно вызвало широкие общественные отклики и протесты. Недаром адвокат Александров (незадолго перед тем защищавший Веру Засулич) заявил на суде, что Кутаисское дело – первый гласный процесс по обвинению евреев в ритуальных преступлениях и что обязанность судебного деятеля не только защищать подсудимых, но и способствовать разъяснению вопросов, представляющих исключительный общественный интерес.
Против выдвинутых обвинений одновременно раздались энергичные возражения в печати. По словам самого «Гражданина» (1879, стр. 60) «на-днях появилось решительное опровержение этих нескольких вековых, международных обвинений против евреев – уже не со стороны самих евреев, а со стороны г. Спасовича, известного присяжного поверенного, писателя и бывшего профессора уголовного права». Оказывается Спасович заявил в печати: «по своему глубокому убеждению, дела, подобные настоящему, доказывают только непомерную живучесть легенд прошлого времени, как бы нелепы эти легенды ни были». Орган Мещерского ответил знаменитому криминалисту жестокими издевательствами над его адвокатской деятельностью.
В этой тревожной и разгоряченной атмосфере, среди напряжённых споров и борьбы за истину, малейшее колебание которой повлекло бы осуждение невинных и может быть неисчислимые кровавые последствия, великий писатель, к которому страстно прислушивались широкие читательские круги, поднялся и произнес свое «не знаю». В религиозно-философском романе о «раннем человеколюбце» он счел возможным использовать злобствующую кампанию «Гражданина». В печатавшихся Мещерским «сведениях об убийстве евреями христиан» автор «Карамазовых» почерпнул материал для своего комментария к Кутаисскому процессу. В статьях «Гражданина» в огромном количестве приводились дикие измышления о еврейских «изуверствах» вроде таких якобы признаний: «одного ребенка я велел привязать к кресту, и он долго жил; другого велел пригвоздить, и он скоро умер» («Гражданин» 1878, № 2–25) и проч. Сведения эти почти буквально повторяет в романе Лиза Хохлакова перед безмолвствующим Алешей.
Приходится отметить, что даже суд оказался в эту трудную минуту выше печати: обе инстанции вынесли всем обвиняемым оправдательные приговоры. В Тифлисской судебной палате прокурор даже отказался поддерживать обвинение. Но «Братья Карамазовы», писавшиеся в этой атмосфере яростного националистического похода правой печати, отчетливо отражают это течение и совершенно недвусмысленно примыкают к нему. Внешне пассивный и по существу момента убийственный ответ Алеши Карамазова на вопрос Лизы звучит в полном согласии с кампанией официозов и поддерживает кровавый миф, наново обработанный царскими чиновниками и правительственными публицистами в целях обоснования погромной политики царизма.
Таковы были общие тенденции романа. В традициях «Панургова стада» и «На ножах» строятся здесь, образы, обличающие нигилизм, или возвеличивающие русскую церковность и монархическую государственность; в духе крайней политической реакции трактуются больные и острые темы тогдашней общественности, якобы ведущей страну к разрушению и гибели. Богоборческая философия Ивана Карамазова и вся его критика евангелия, являя высочайшие вершины интеллектуальных бунтов, не могут поколебать прочных позиций политической реакции, глашатаем которой выступает в своем последнем романе Достоевский. Своей жестокой эпопеей многогрешной, но богоспасаемой России умирающий писатель стремится дать новый решительный отпор «бесовским ратям» очнувшейся революции. Недаром отдельные образы и эпизоды романа обсуждались до написания в кабинете Победоносцева, который с таким пристальным вниманием следил за публикацией «Карамазовых». Основные выводы предсмертной хроники Достоевского неощутимо охвачены безотрадными поучениями его последнего друга, вкрадчиво излагавшего ему своим витийственным слогом непререкаемые каноны самодержавной программы о беспощадном повороте вспять Российской империи, расшатанной реформами и истощаемой революциями. И кажется грозные выводы синодального обер-прокурора об «омерзительном лабиринте» российской современности выражает в паническом финале своего обвинения прокурор романа, вызывая перед слушателями образ бешено скачущей тройки, вселяющей омерзение и ужас в сторонящиеся от нее народы.
Во всяком случае не подлежит сомнению, что Достоевский занес отголоски этих бесед в свой последний роман. Осмеяние в «Карамазовых» прогрессивной печати и общественного суда, вражда к «иноверцам» и провозглашение теократии высшей формой государственного бытия для России – вот те подводные течения романа, которые в движении и лицах, в драме и образах так выпукло отражали сущность разделяемой его автором официальной программы.
Такова была книга, которую 16 декабря 1880 г. Достоевский лично представил в Аничков дворец в собственные руки его высочества наследника. Направление романа вполне оправдывало такое высокое подношение. По своим политическим установкам это была в полном смысле книга ad usum dauphini, особенно же того российского дофина, который через два месяца стал Александром III.
VIII«Бесы» писались в эпоху Парижской коммуны. «Братья Карамазовы» создавались в накаленной атмосфере народовольческого наступления, под выстрелы, взрывы и казни последних лет царствования Александра II.
Политическая программа Достоевского в последний год его жизни отражает возникшие колебания правительственного курса. С большой пристальностью следит он за событиями, готовясь снова приступить к ведению своего «Дневника писателя». По свидетельству современников, он радовался «замирению» (т. е. «диктатуре» Лорис-Меликова).
В праздник 25-летия Александра II, т. е. через несколько дней после объявления нового курса, он был необыкновенно весел; он говорил «Вот увидете, начнется совсем иное». Покушение на жизнь начальника «верховной комиссии» его смутило. «Сохрани бог, если повернут на старую, дорогу»… Он чрезвычайно интересовался, какими людьми окружает себя Лорис. «Я ему желаю всякого успеха», повторял он.
Самый монархизм Достоевского приобретает в эту эпоху новый оттенок. Непоколебимый сторонник самодержавия и враг конституции, он в полном согласии с правительственными видами высказывается за патриархальные формы совещания с «землею»; об этом, как известно, он говорит в последнем выпуске «Дневника писателя»: «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, и они скажут вам правду». Но это отклонение отнюдь не было уступкой либерализму. В том же выпуске «Дневника писателя» Достоевский с обычной неприязнью отзывается о «европейских русских», мечтающих об «увенчании здания», о «говорильнях» и пр. Работая над этим последним выпуском «Дневника писателя» за десять дней до смерти, Достоевский говорит «о земском соборе, об отношениях царя к народу, как отца к детям», при чем конституцию он называл «господчиной» и особенно настаивал на том, что свобода в России установится по особому, не по западному образцу – «без всяких революций, ограничений, договоров». Соочувствие новому правительственному курсу нисколько не свидетельствовало о внутренних политических «сдвигах» Достоевского. Диктатура Лорис-Меликова была установлена по мысли реакционнейшего наследника цесаревича (вскоре Александр III)[34]34
Переписка Александра III с Лорис-Меликовым свидетельствует не только о глубоком интересе будущего царя к деятельности Лорис-Меликова, но и о сочувствии его либеральным планам «диктатора». Последний же прямо заявлял своему высокому корреспонденту: «С первого дня назначения моего на должность главного начальника верховной распорядительной комиссии я дал себе обет действовать не иначе, как в одинаковом с вашим высочеством направлении, находя, что от этого зависит успех порученного мне дела и успокоения отечества» (9 апр. 1880 г). «Красный архив» 1925, кн. I (VIII), стр. 101.
Вполне сочувственным к Лорису было и отношение целого крыла «правых». Уже по выходе Лорис-Меликова в отставку в мае в 1881 г. Иван Аксаков в «Руси» поместил хвалебную статью о «высокочтимом графе», «который оставляет по себе блестящий след» и «много истинно полезного успел совершить в краткий период своего нахождения у дел». Мещерский перепечатал целиком отзыв Аксакова о Лорис-Меликове в своем «Дневнике».
[Закрыть], проект «диктатора» о привлечении к управлению страной представителей земств и городов был принят и одобрен Александром II; наконец крупнейший публицист монархии Катков горячо поддерживал все мероприятия начальника верховной комиссии. Сочувствие Достоевского к Лорису и его проекту совещания с землею нисколько не выводило «Дневник писателя» из высочайше одобренного круга правительственных мероприятий. Так хотели при дворе, в этом направлении поддерживали правительство «Московские Ведомости».
В 1880 г. правительственная партия вынуждена взять либеральный курс, она скрепя сердце высказывается за реформы, за увенчание здания, за привлечение населения к управлению страной. Сам Катков сочувственно приветствует мероприятия Лорис-Меликова, а на пушкинских торжествах в Москве произносит покаянную и примирительную речь с прогрессивными намеками («…все шире и шире будет становиться область, в которой люди разных мнений могут сходиться мирно и даже дружно»)[35]35
«Голос» по этому поводу писал: «Катков публично на обеде, в присутствии всех, у всех же просил прощения, молил о забвении, протянул руку, но никто не пожал этой руки». «Тяжелое впечатление производит человек, переживающий свою казнь и думающий затрапезною речью искупить предательства двадцати лет» («Голос» 1880 г., № 158). Тургенев, как известно, отвернулся от протянутого ему «кающимся» Катковым бокала.
[Закрыть].
В атмосфере растущего революционного террора за конституцию высказываются великие князья, влиятельнейшие сановники, вожди охранительной печати, сам царь. Руководящие круги понимают практическую целесообразность этого правительственного маневра для успокоения общества и изоляции революционеров. Достоевский произносит свой призыв «серых зипунов» не вразрез с высочайшими предначертаниями, а среди сочувственного хора высокопоставленных единомышленников. В полном согласии с правительственным оркестром он выражает высочайшую волю накануне ее официального изъявления. Здесь не только нет и намека на оппозицию, но, как и во всем «Дневнике писателя», прокламируется и пропагандируется дело власти. При этом правительственные круги даже оказались фактически левее Достоевского, шире его понимая объем и пределы народного представительства. В то время как Валуев, Меликов и даже Константин Николаевич предлагают в разных вариантах призвать к управлению выборных от земств и городов и Александр II соглашается принять один из этих вариантов, Достоевский считает вполне достаточным опросить народ на местах. В то время как правительственные проекты открывают путь интеллигенции к участию в «комиссиях», Достоевский тщательно оговаривает устранение интеллигентов от предстоящего совещания с предоставлением в нем голоса одному крестьянству и даже его наиболее реакционным слоям.
Из всех «конституций» 1880 г. проект Достоевского – самый робкий, умеренный и консервативный. «Как ни кургузы были предложения Лориса, Константина и Валуева, они все же призывали к участию в управлении выборных представителей города и деревни, от чего тщательно предостерегает петербургскую власть «Дневник писателя».
Революционный террор ставит в эти дни перед Достоевским опаснейшую этическую проблему о праве «предупреждать» политические покушения. Его исключительно волнуют все террористические акты у нас и на Западе – Вера Засулич, выстрел в германского императора, выступления анархистов в Европе. Об его отношении к убийству шефа жандармов Мезенцова мы можем судить по его сочувствию к поминальной речи на эту тему московского проповедника Амвросия, в которой говорится о «невинной жертве, закланной за благо отечества» и о ворах, «расхитивших наше лучшее достояние». События политического дня вырастают в эти годы для Достоевского в мучительную проблему личного долга, жертвы и подвига. Суворин оставил интереснейшую запись о своей беседе с Достоевским 20 февраля 1880 г. (т. е. через две недели после халтуринского взрыва в Зимнем дворце и в самый день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова), свидетельствующую о величайшем смятении в душе писателя. «…Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве, или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?» – «Нет, не пошел бы»… «И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас! Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода… Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые бы мне не позволяли это сделать. Это причины – прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком»… и пр. Если сравнить эти колебания Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной позицией на политических допросах 1849 г., придется пожалеть об упавшей политической морали великого романиста. Он словно не замечает, что «предупреждение» неизбежно повлечет казнь нескольких революционеров («причины прямо ничтожные»). Он не чувствует, что вполне уподобляется столь ненавистному ему Петру Верховенскому, задающему на собрании у Виргинского свой коварный вопрос: «если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая событий…»
В таком состоянии тревоги и растерянности Достоевский вырабатывает последний вариант своей политической программы, ни в чем не меняющий ее основных положений. В своем проекте реформы (опрос правительством крестьянства на местах) Достоевский исходит из представления об особом виде патриархального монархизма с преимущественной заботой царя о крестьянах. Это одно из положений правого славянофильства, в исповедании которого Достоевский ближе всего к Тертию Филиппову.
Но вообще он не доверял народу. Во время политических выступлений наших, он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. – «Вы не видели того, что я видел, – говорил он. – Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи». Вероятно Достоевский, говоря так, вспоминал убийство своего отца крестьянами или некоторые эпизоды своей каторжной жизни.
Во всяком случае предполагаемая им «свобода» не выходила за пределы семейственной идиллии верховной власти и населения. В своем последнем «Дневнике» он призывал даже не к земскому собору, не к крестьянскому съезду или сходу, а к всероссийской сельской анкете: «не нужно никаких великих подъемов и сборов: народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам», Только не допускать к этому делу интеллигенцию, – «высказаться должен один только заправский мужик»[36]36
«Никто решительнее, энергичнее Достоевского не восставал на европейский либерализм русской интеллигенции, – писал 7 февраля 1881 г. Ив. Аксаков: – он в душе своей был искренним врагом всякой политической формальной свободы, которая бы могла лишь усилить власть и значение нашей европействующей интеллигенции и исказить органический саморост русскаго народа, своеобразность и свободу его духовного развития».
[Закрыть]. «Правда, – продолжает Достоевский, – с мужиком проскочит кулак и мироед, но ведь и тот же мужик, и в таком великом деле даже кулак и мироед земле не изменят и правдивое слово скажут – такова уже наша народная особенность». Вот о каком «земском представительстве» думал в свои свободолюбивые минуты умирающий Достоевский!
Произнесенная за полгода до смерти знаменитая речь о Пушкине понималась самим автором как провозглашение партийной программы. К этому отчасти обязывало его выступление от имени Славянского общества. Мы уже видели, что в письме к Победоносцеву от 19 мая 1880 г. Достоевский признавал речь о Пушкине написанной в самом крайнем духе своих – «наших, то-есть осмелюся так выразиться, убеждений». Почти накануне произнесения речи А. Г. Достоевская пишет мужу: «ничего бы так не желала, как торжества вашей партии, а вместе и твоего» (из письма А. Г. Достоевской от 3 июня 1880 г.).
На приветствия А. Суворина после произнесения речи Достоевский отвечает: «А, каково? наша взяла!» По свидетельству жены Суворина, «Алексей Сергеевич передавал это с восторгом, так как сам был всегда националистом и русским до глубины души. Я это совершенно не понимала и удивлялась, что даже у таких громадных людей бывает такое тщеславие. Но мой муж объяснил, что это вовсе не тщеславие, а торжество их взглядов, их идей. Торжество закончилось апофеозом Достоевского, и все перед ним побледнело» (А. И. Суворина. «Воспоминания о Достоевском»). Так же воспринял речь о Пушкине и Победоносцев. С высоты своего государственного поста он приветствует Достоевского за то, что ему удалось отодвинуть назад безумную волну, которая готовилась захлестнуть памятник Пушкина»; «радуюсь за вас и особливо за правое дело, которое вы выручили».
Мы видим, что знаменитую пушкинскую речь 8 июня произносил представитель определенной партии. Исключительный дар изложения и свойственное Достоевскому умение «коснувшись одних струн души заставлять звучать все остальные» совершенно скрыли от слушателей эту программную тенденцию его слова. Впрочем иные из них, как Глеб Успенский и Салтыков, отнеслись скептически к проповеди «всечеловеческой» любви, пока Победоносцев и Суворин приветствовали победу своего единомышленника. Заключительный литературный триумф Достоевского оказался одновременно и одним из его крупнейших политических успехов[37]37
Ряд интересных, сообщений о впечатлении от речи о Пушкине сообщает Е. П. Леткова: «Левая молодежь «сразу встала на дыбы» от первых же слов речи Достоевского, увидела в ней ряд «выпадов против западников», осудила его за то, что он явился на пушкинский праздник «не как писатель Достоевский, один из славных потомков Пушкина, а как представитель Славянского благотворительного общества». Об известном месте «Речи о Пушкине» (о том, что современные Алеко «ударяются в социализм» и пр.) мемуаристка отмечает: «это было сказано с тончайшей иронией», кроме насмешки над «русским скитальцем», его резкие выпады против западников, проповедь «смиренного» общения с народом и личного совершенствования в христианском духе рядом с презрительным отношением к общественной нравственности определенно поставили Достоевского вместе с врагами того движения, которое владело в эту эпоху всеми симпатиями молодежи»… (Е. Леткова. «О Ф. М. Достоевском». – «Звенья», 1, 459–477). Сам Достоевский писал 8 июня жене о своем выступлении: «Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!» («Письма Достоевского к жене», ред. Н. Ф. Бельчикова и В. Ф. Переверзева, М.Л., 1926, стр. 304).
[Закрыть].
Сохранившиеся воспоминания о беседах с Достоевским к концу его жизни свидетельствуют о сгущающейся мрачности его политического пессимизма, затемняющего даже его обычно безошибочные художественные оценки. В последние годы Достоевский принимает для своей поэтики опаснейший и весьма спорный принцип, который, к счастью, ему не удается полностью приложить к своему творчеству, но который весьма плачевно отражается на его читательских вкусах и отзывах: «я ставлю занимательность выше художественности».
Великий мастер романа, до конца не знавший поражений в своем искусстве, Достоевский пережил некоторую эпоху упадка в своей литературной эстетике. Это снижение было обусловлено и политическими соображениями. Писатели и журналисты реакционного лагеря становятся его любимцами, разночинная литература с гневом отвергается. Он чрезвычайно хвалит роман Мещерского «Граф Обезьянинов на новом месте», считая, что эту книгу надо пропагандировать[38]38
«Граф Обязьянинов на новом месте. Фантастический этюд в пяти частях. Продолжение сочинения «Один из наших Бисмарков». Соч. кн. В. Мещерского. СПБ., 1879».
[Закрыть]. Бесцветного нововре-менского беллетриста Н. К. Лебедева-Морского, автора романов «Содом» и «Аристократия гостиного двора», Достоевский признавал очень большим талантом и видел в нем «своего прямого преемника в разработке известных литературных задач». Он ценит и неоднократно цитирует в «Дневнике» фельетоны «всем известного Незнакомца» и лично завязывает дружеские отношения с А. С. Сувориным. Не лишено характерности, что в эту эпоху Достоевский особенно ценит Буренина, считая его и Страхова «единственными у нас серьезными и талантливыми критиками». В противовес этому он с величайшей враждой отзывается о представителях левого направления: «Семинаристы, вот кто погубил Россию – Чернышевский, Добролюбов и т. д.» Когда его собеседник удивился его словам, он сказал, что «когда-то был петрашевцем, но давно излечился и от души ненавидит всех революционеров».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































