Текст книги "Литературные биографии"
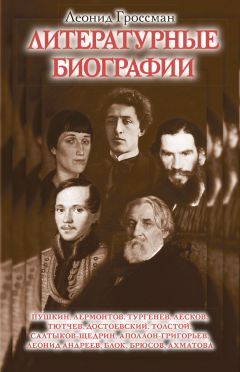
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Вскоре после их знакомства Победоносцев начинает направлять Достоевского и по трудному пути придворной карьеры. Еще не занимая высших государственных должностей, он уже умело действует за кулисами верховной политики и пользуется несомненным влиянием при дворе наследника. Вскоре это начинает сказываться и на биографии автора «Бесов».
Нужно думать, что Победоносцев, дававший царям ряд советов в области их культурных интересов и отношений, подал мысль Александру II пригласить Достоевского для бесед со своими младшими сыновьями. С начала 1878 г. начались собеседования писателя с вел. князьями Сергеем и Павлом, продолжавшиеся и в последующие годы. Достоевский уже после первой встречи нашел, что «они обладают добрым сердцем и недюжинным умом» (что впрочем не нашло подтверждения в будущей деятельности «героя Ходынки»). Вскоре после этого Достоевский, по приглашению брата царя генерал-адмирала Константина Николаевича, выступает в той же роли перед его сыновьями Константином (будущим «К. Р.») и Дмитрием.
Воспитательное значение этих встреч всячески подчеркивалось свыше. Знаменитый писатель призывался раскрывать великим князьям их роль в современной истории, морально наставлять и политически направлять их.
По-особому слагались отношения с наследником Александром Александровичем, которому Достоевский подносит «Бесы», «Дневник писателя», «Братья Карамазовы». Первые подношения сопровождаются разъяснительными письмами, последний роман подносится лично. Выражение преданности наследнику достигает апогея в 1876 г., когда Достоевский, спрашивая разрешения на поднесение великому князю «Дневника писателя», пишет ему: «Я давно думал и мечтал про себя о великом счастьи представить скромный труд мой В. И. В., которого я столь люблю и за которого часто и много молюсь и малейшее внимание Ваше, еслиб я имел счастье возбудить его, ценю как величайшую честь себе и как величайшую радость мою… Ваш благодарный, Ваш верный и Вас беспредельно любящий слуга Ваш Ф. Д.» (Цитируем по черновику.)
Личное знакомство не заставило себя ждать. На одном из закрытых вечеров, где Достоевский читал «Братьев Карамазовых», присутствовала вел. кн. Мария Федоровна, на которую это чтение произвело сильное впечатление.
Анна Григорьевна сообщает, что в доме графини Менгден 22 декабря 1880 г. Достоевский «был приглашен во внутренние комнаты, по желанию императрицы[26]26
Описка А. Г. Достоевской: Мария Федоровна в это время еще не была императрицей.
[Закрыть] Марии Федоровны, которая благодарила Федора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала».
Сохранились свидетельства, что в декабре 1880 г. «их высочества» оказали писателю «милостивый прием»: характерно, что «Достоевский, бывший в эту эпоху глубоким монархистом, не пожелал следовать придворному этикету и держал себя во дворце так же, как он имел обыкновение вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, встал, когда нашел, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с царевной и ее супругом, оставил дворцовый зал, как гостиную своих друзей»… Александр III якобы не был этим шокирован и впоследствии отзывался о Достоевском с достаточным уважением.
После этого представления Достоевскому оставалось переступить еще одну только последнюю ступень, чтоб восхождение его по лестнице придворных сближений было завершено: ему оставалось еще знакомство с самим царем. Но через месяц после приема у наследника, нестало Достоевского, через два месяца – Александра II. Автор «Дневника писателя» ушел в самую горячую минуту; среди террористических актов, беспомощных попыток к реформам и великой растерянности верховной власти, словно предчувствующей неизбежность подступавшего 1 марта.
Вообще близость Достоевского к правительственным кругам заметно сказалась в момент его смерти. С утра 29 января, т. е. уже через 12–15 часов после смерти Достоевского, правительством принимается ряд мер, имеющих целью отметить его участие в событии. Наследник сообщает К. П. Победоносцеву на его запрос: «Гр. Лорис-Меликов уже докладывал сегодня утром Государю об этом и просил разрешения материально помочь семейству Достоевского». Утром 29 января от министра внутренних дел передают вдове писателя сумму на похороны и объявляют ей, что дети Достоевского будут воспитываться на казенный счет. На следующий день министр финансов извещает А. Г. Достоевскую, что ей назначена государем вдовья пенсия в две тысячи рублей. «Русский царь, – умиленно отмечало «Новое Время», – становится во главе того почета, который оказывается памяти русского писателя». На панихидах присутствовали гофмейстер Н. С. Абаза, адъютант граф Н. Ф. Гейден, в. кн. Дмитрий Константинович. Принцесса Ольденбургская прислала на гроб Достоевского венок, великая княгиня Александра Иосифовна – сочувственное письмо вдове.
Из-за границы приходят соболезнующие телеграммы от Сергея, Павла и Константина. Министр народного просвещения вместе с обер-прокурором Синода идут за гробом писателя.
Таким образом момент смерти Достоевского как бы вызывает демонстрацию благоволения к нему царствующей династии, признавшей нужным откликнуться на кончину писателя в лице самого царя, его министров, его детей и племянников.
Опекунство над малолетними Достоевскими принимает на себя «наставник царей» – сам К. П. Победоносцев[27]27
В архиве А. Г. Достоевской сохранилась следующая справка: «К. П. Победоносцев состоял опекуном над малолетними Достоевскими, сыном и дочерью Ф. М. Достоевского. Как опекун, он проверял отчеты издательницы полного собрания сочинений Федора Михайловича, издаваемого его вдовой Анной Григорьевной Достоевской, и весной, при отъезде ее из Петербурга, принимал от нее на хранение квитанцию от процентных бумаг, принадлежавших изданию. Квитанции эти в запечатанном его печатью конверте Константин Петрович вкладывал в несгораемый ящик кассы св. Синода с правом получить конверт мне в любое время. Этот конверт относится к 26 мая 1885 г. – Вдова Федора Михайловича Анна Достоевская». Справка эта приложена к конверту с надписью (рукою А. Г. Достоевской): «Тридцать две росписки Государственного Банка на различные % бумаги на сумму шестьдесят девять тысяч 500 рублей (по номинальной стоимости), принадлежащие кассе по изданию п. с. сочинений Ф. М. Достоевского, 25 мая 1885 года». Тут же надпись К. П. Победоносцева: «Прошу сохранить до осени и возвратить мне или Анне Григорьевне Достоевской. К. Победоносцев. 26 мая 1885 г.»
[Закрыть].
Правительственная печать отразила полностью эти отношения «сфер» к событию. Правые органы уделили, исключительное внимание смерти Достоевского, превратив некрологи и поминальные статьи в сплошной дифирамб ушедшему «патриоту». Правдивые ноты глубокого признания великого художника вместе с критическим отношением к его политическому исповеданию раздались лишь в немногих оценках умершего. Приведем одну из них как голос ясного суждения среди обычного хора условных и внешних похвал.
«Страстная ненависть к лучшим идеям нашего времени, которая так часто проявлялась в произведениях Достоевского, не вызывает в нас обидного чувства. Достоевский по своей глубокой натуре и не мог иначе чувствовать. Чему он верил, он верил со страстью, он весь отдавался своим мыслям; чего он не признавал, то он часто ненавидел. Он был последователен и, раз вышедши на известный путь, мог воротиться с него только после тяжелой, упорной борьбы и нравственной ломки»…[28]28
«Молва» 1881, № 31.
[Закрыть] Но такого внутреннего кризиса Достоевский в 70-е годы не переживал. Открыто выйдя в начале десятилетия на путь борьбы с «европействующими» течениями русской мысли, он уже до конца не слагал оружия, не сдавал позиций и не знал возврата к политическим идеям и социальным верованиям своей «фурьеристской» молодости[29]29
Оставив редактирование «Гражданина» в апреле 1874 г., Достоевский продолжал в нем сотрудничать почти до самой смерти. Его участие сказывалось преимущественно в отделе еженедельного фельетона «Последняя страничка», который велся коллективно самим Мещерским, Достоевским, Порецким и вероятно Пуцыковичем. Один фельетон из указанной серии («Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова»), напечатанный в Гражданине» 1878 г., был давно известен и неизменно включался во все посмертные собрания сочинений Достоевского. На другой фельетон Достоевского в том же отделе (о ветлянской чуме и конституции) указал редактор «Гражданина» В. Ф. Пуцыкович в «Берлинском Листке» 1906 г., № 2; фельетон этот действительно напечатан в «Последней страничке» «Гражданина» 1879 г., № 2–3. В третьем фельетоне той же серии («Гражданин» 1877 г., № 2) находим почти буквальные совпадения с «Дневником писателя», 1876, дек., по вопросу об участии Достоевского в журнале «Свет» проф. Н. П. Вагнера. Исходя из этих трех фельетонов «Последней странички» и обращаясь ко всей серии (110 фельетонов), мы на каждом шагу находим здесь темы, вопросы и имена чрезвычайно характерные для публицистики Достоевского. Ряд фактов весьма показателен и в автобиографическом отношении. Имеются литературные и чисто стилистические совпадения (образы, диалоги, описания, цитаты, синтаксические и интонационные ходы фразы). В авторстве Достоевского относительно части фельетонов «Последней странички» не приходится сомневаться. Это отчасти подтверждается и личной перепиской Достоевского. Так В. Ф. Пуцыкович сообщает ему, что «Катков в восхищении от летних номеров «Гражданина» и «Последнею страничкою» тоже доволен». Весьма существенна также выраженная Достоевским готовность сотрудничать в берлинском «Русском гражданине» Пуцыковича в 1879 г. Подробная статья об этих «неизвестных фельетонах Достоевского» сдана нами редакции сборников «Звенья».
[Закрыть].
Таково в основном было человеческое окружение стареющего Достоевского.
Мир «властителей и судей», к которым он обращал в молодости гневные инвективы державинского псалма, стал его миром. Он вошел в этот круг и превратился в одну из сильнейших его опор.
Нужно признать, что российский монархизм на закате царствования Александра II сделал величайшее идеологическое приобретение, завоевав для своего дела перо Достоевского. Он это сделал с максимальной искусностью, не превратив Достоевского в редактора правительственного официоза и сохранив за ним видимость литературной независимости, обеспечивающей столь нужную верхам популярность писателя в широких кругах молодого поколения[30]30
Об этом признании своего писательского дела современной молодежью Достоевский писал Победоносцеву 13 сентября 1879 г.: «Мое литературное положение (я Вам никогда не говорил об этом) считаю я почти феноменальным; как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя навеки Бесами, т. е. ретроградством и обскурантизмом – как этот человек, помимо всех европействующих их журналов, газет, критиков – все-таки признан молодежью нашей, вот этою самой расшатанной молодежью, нигилятиной и проч.?
Мне уже это заявлено ими, из многих мест, единичными заявлениями и целыми корпорациями. Они объявили уже, что от меня одного ждут искреннего и симпатичного слова и что меня одного считают своим руководящим писателем. Эти заявления молодежи известны нашим деятелям литературным, разбойникам пера и мошенникам печати, и они очень этим поражены, не то дали бы мне они писать свободно. Заели бы, как собаки, да боятся и в недоумении наблюдают, что дальше выйдет» («Красные архив» 1923, II, 246).
Об этом же признании Достоевского молодежью Победоносцев писал 29 января 1881 г. наследнику: «Смерть его – большая потеря для России. В среде литераторов он едва ли не один был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к отечеству. Несчастное наше юношество, блуждающее, как овцы без пастыря, к нему питало доверие, и действие его было весьма велико и благодетельно. Теперь некому заменить его…»
[Закрыть]. В отличие от правительственных публицистов типа Каткова и Мещерского, Достоевский сохранял до конца более свободную позицию правого славянофила, философски идеализирующего царизм и православие. Его реакционная публицистика 70-х годов в целом не перешла еще границ самостоятельного изложения его государственной философии и, к счастью для его памяти, не превратилась в официальное оружие российской императорской системы. В этом направлении на него только возлагались надежды, его исподволь готовили к предстоящей миссии и лишь отчасти испытывали к ней, осторожно направляя его перо публициста и постоянно напоминая ему о благосклонном внимании к его деятельности высочайших особ и их ближайших сподвижников. И если Достоевский к концу жизни и не стал придворным писателем, иные страницы его общественных записей подготовлялись в официальных кругах и инспирировались их вождями.
Вот почему политическая позиция Достоевского в 70-е годы представляет значительный интерес, проливая свет на высшую правительственную механику конца царствования Александра II и одновременно освещая пути мысли и истоки тем воинствующего автора «Дневника писателя».
Не превращая свой единоличный ежемесячник в официозный орган, Достоевский в эту эпоху выступает все же активным реакционным публицистом.
Следует отказаться для последнего периода биографии Достоевского от обычного представления о том, якобы рядом с реакционером в нем уживался революционер, а публицистика его одновременно отливает и черным и красным. Взгляд этот, как известно, был высказан Д. С. Мережковским в его статье «Пророк русской революции», где впрочем имелась в виду только революция 1905 г.: «Достоевский – пророк русской революции, – писал Мережковский, – но, как это часто бывает с пророками, от него был скрыт истинный смысл его же собственных пророчеств… Он был революцией, которая притворилась реакцией…» Статья Мережковского представляла собою модный в те годы вид субъективного этюда, построенного на положениях, отражающих личное воззрение автора, не подкрепленное объективной системой доказательств. Но мысль Мережковского, эмоционально и импрессионистски выраженная, разрабатывалась и позднейшими исследователями, которые впрочем не подвели под этот парадоксальный тезис достаточной документальной аргументации[31]31
Мы считаем правильным основной вывод А. Г. Цейтлина в его статье «Достоевский и революция»: «Свой творческий и жизненный путь Достоевский кончает на крайне правом фланге тогдашнего общества… Глубочайшим образом неверен взгляд на Достоевского как на революционера и реакционера в одно и то же время, как на писателя, глубочайшей пропастью отделенного от реакционеров 60-х годов, как на пророка современной нам революции. Авсеенку, Крестовского и Лескова с Достоевским объединяла (а не разъединяла) ненависть к революции, которая только получила у последнего гораздо более острое и художественное выражение» («Литературная газета» 1931, № 8/107).
[Закрыть].
Между тем установление политической позиции Достоевского в 70-е годы представляет первостепенный интерес для его биографии, для истории его творчества, для изучения русской литературной, общественной, и журнальной мысли 70-х годов. Это – большая и ответственная тема, требующая от исследователя прежде всего фактических доказательств и документального подкрепления своих выводов. Обращение же к источникам здесь неизбежно опрокидывает все заманчивые и обманчивые теории о скрытой революционности стареющего романиста. Достоевского-жертву и Достоевского-заговорщика следует решительно оставить при изображении последнего десятилетия его жизни. Данных к этому нет, а в прикрасах он не нуждается. Постараемся же из уважения к его творческому облику с возможной точностью установить последнюю стадию его политической эволюции.
Исходя из особого «христианского социализма» 40-х годов, Достоевский в дальнейшем стремился строго диференцировать эти два начала своего раннего исповедания и первым победить второе. «Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством, – пишет он в «Дневнике писателя», – и принимался лишь за поправку и улучшение последнего сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 1848 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей».
Достоевский и был в молодости приверженцем того «зарождавшегося социализма», который через тридцать лет представлялся ему «розовым и райски нравственным». Но только теперь, на склоне своей жизни, он признает, что эта благодушная идиллия представляла собой по существу «мечтательный вред» и готовила человечеству «мрак и ужас в виде обновления и воскресения его». Теперь «христианский социализм», пленивший его в конце 40-х годов, представляется ему величайшей опасностью и гибельнейшим соблазном именно потому, что, баюкая мысль привычными гуманистическими идеалами, он приводит к безбожию и крови.
Один из героев «Братьев Карамазовых» замечает, что среди революционеров есть несколько особенных людей: «это в бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты… Это страшный народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-бeзбoжникa.
Едва ли этими словами Достоевский не произносит осуждения своему собственному политическому исповеданию 40-х годов.
Защитники теории о революционных течениях в творчестве стареющего Достоевского указывают обычно на «Сон смешного человека» как на доказательство социализма писателя и в последнюю эпоху его жизни.
Между тем «Сон смешного человека» – одна из последних попыток Достоевского развенчать «утопистов», «теоретиков всеобщего счастья», «устроителей человечества». Рассказ этот во многом перекликается с «Записками из подполья». «Сон смешного человека» есть отрицание социализма как вредной утопии, как гибельной мечты с провозглашением необходимости для человечества объединиться единственно на основе евангельской этики. В духе своего последнего учения Достоевский зовет здесь к объединению не в науке и равенстве, а только в церкви и христианстве. Центральная глава рассказа – это новая сатира Достоевского на утопический социализм. Безгрешных и счастливых людей «золотого века» развращает «современный русский прогрессист и гнусный петербуржец». Именно он, этот современный прогрессист, приобщает совершенных и блаженных людей к разлагающему знанию, лжи, сладострастью, кровопролитию.
«Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Утратив счастье, они стали поклоняться идее всеобщего счастья и думать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе, как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего».
Так преломляются в сновидении смешного человека реминисценции ранних увлечений Достоевского фурьеризмом и родственными ему учениями.
В земной рай социализма Достоевский не верит и открыто говорит об этом устами своего героя («…не бывать раю ведь уж это я понимаю»), а выход из тупика истории он намечает теперь только в христианстве, очищенном от всякого социализма: «главное – люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться». Таким поучением завершается рассказ о счастливом человечестве, утратившем свое счастье. Вскоре в «Братьях Карамазовых» этот принцип христианской этики отольется в отчетливую формулу теократии: «Церковь должна заключать сама в себе все государство». Так в последней стадии мировоззрения Достоевского христианство, некогда незаконно приобщенное к учению теоретиков-утопистов, окончательно очищено от всякой примеси социализма. Последний роман Достоевского возвещает об этой полной победе теократического идеала над ранней формацией его утопического миросозерцания.
VНи по своей композиции, ни по своим тенденциям «Братья Карамазовы» не могут считаться лучшим созданием Достоевского, хотя в ряде страниц мастерство романиста и проявляет себя здесь в полной силе. Но великий мастер романа Достоевский вообще не может быть признан непогрешимым. Напротив, своеобразнейшая черта его дарования – это право на ошибку, обеспечивающее ему свободу, непосредственность и горячность его художественной речи. Последний его роман, несмотря на исключительные творческие подъемы, не свободен от перебоев как в идейном, так и в художественном плане. Изучение писателя не может обходить и замалчивать этих сторон его творчества, нередко раскрывающих самые основы его проповеди. Анализ шедевра не исчерпывается панегириками в его честь, но требует пристального рассмотрения всего произведения, не исключая из поля зрения и его патологических тканей. Не ловить ошибки великого художника собираемся мы, а только осветить подлинную природу его последнего создания для правильного понимания творческой и мировоззренческой драмы умирающего Достоевского.
Обширный, многопланный и многоликий роман о карамазовщине далеко не равноценен в своих частях и компонентах. Необычайная острота, характеристик, напряженный трагизм изображенных страстей и пороков, отточенная диалектика бесед и споров, гениальная богословская критика в поэме о Великом инквизиторе – все это заслоняет от нас политическую природу романа. Между тем по основной тенденции своей последнее произведение Достоевского мало чем отличается от «Бесов», а кое-чем даже превосходит их по мрачности и безотрадности своего жесткого обличения. Вопросы государства и церкви, суда и печати, школы и национальностей, словом, почти все основные проблемы внутренней жизни самодержавной России здесь разрешаются в строгом духе официальной программы и нередко воплощаются в традиционные маски романистов-обличителей из «Русского Вестника». Для правильного понимания «Братьев Карамазовых» необходимо всмотреться в эту политическую основу всего произведения и ощутить за волнующим уголовным сюжетом, за образами исключительной силы и жизненности, за исповедями горячего сердца и бунтами возмущенной совести идеи и тенденции того правительственного круга, с которым постоянно общался Достоевский в эпоху написания своей последней эпопеи.
В сопроводительных письмах при посылке рукописей романа в «Русский Вестник» Достоевский раскрывает до конца эти публицистические устремления своего эпоса: он называет бунт Ивана Карамазова «синтезом современного русского анархизма» (т. е. революции): «Современный отрицатель, из самых ярых, прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что это вернее для счастья людей, чем Христос. Нашему русскому, дурацкому, но страшному социализму (потому что в нем молодежь) – указание, и кажется энергическое: хлебы, Вавилонская башня (т. е. будущее царство социализма) и полное порабощение свободы совести – вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист.
Разница в том, что наши социалисты (а они не одна только подпольная нигилятина, – вы знаете это) – сознательные иезуиты и лгуны, не признающиеся, что идеал их есть идеал насилия над человеческою совестью и низведение человечества до стадного скота, а мой социалист (Иван Карамазов) – человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом «Великого Инквизитора» на человечество, и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле. Вопрос ставится у стены: «Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?»
В одном из этих писем Достоевский прямо заявляет, что считает задачу свою в «Братьях Карамазовых» (разбитие анархизма) «гражданским подвигом».
Попытаемся проследить основные этапы публицистической работы Достоевского в его последней хронике.
В эпоху Александра II одной из больных проблем внутренней политики являлся новый суд, вызывавший непрестанную тревогу правительства слишком свободными формами судоговорения и английским принципом общественных судей. В знаменитом совещании высших государственных чинов 8 марта 1881 г., предопределившем направление всей внутренней политики Александра III, Победоносцев в программной речи, подводя свои неутешительные итоги только что закончившемуся царствованию, между прочим заклеймил своим осуждением и новые судебные учреждения, эти «говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния остаются безнаказанными». Это характерная точка зрения для реакционера 70-х годов, требующего пересмотра реформ начала царствования и в частности яростно нападающего на суд присяжных как на некоторую форму народного представительства в отправлении государственных обязанностей.
Эту точку зрения усваивает себе понемногу и Достоевский. Сторонник судебной реформы в начале 60-х годов, он в 70-е годы выступает решительным противником присяжной адвокатуры и общественных судей. Уже в № 2 «Гражданина» 1873 г. он возражает против института присяжных (якобы испытывающих «ощущение самовластия» и одержимых «манией оправдания») и дискредитирует деятельность адвокатов («лжет против своей совести» и пр.). К этой теме он возвращается в «Дневнике писателя» 1876 г., критикуя выступление Спасовича («юная школа изворотливости ума и засушения сердца») и пр.
К концу жизни Достоевский успел и художественно оформить эту критику русского суда. В заключительной книге романа, в изображении дела Митеньки Карамазова, Достоевский развертывает в тончайших деталях ироническую картину состязательного процесса по судебным уставам 1864 г. При этом он не идет легким путем изображения кричащих отрицательных явлений, поражающих своим уродством или отсталостью. Все дано в образцовых формах. Раскрывается механизм как бы некоторого совершенного трибунала. Выдающийся адвокат, поражающий умом, эрудицией, красноречием; достойный соперник его в лице талантливого прокурора; образованный и гуманный председатель суда, человек «самых современных идей»; чуткая и внимательная медицинская экспертиза, настроенная всецело в пользу подсудимого, тончайшая система судебного следствия, блещущая остроумием и находчивостью приемов, наконец возбуждение к процессу общественного внимания всей России, всячески повышающее качество этого турнира талантов. И в результате не только преступление остается нераскрытым, но вся эта сложнейшая машина усовершенствованного судопроизводства приводит к нелепой и трагической ошибке: невинного человека признают виновным в отцеубийстве, лишают его «малейшего снисхождения» и приговаривают к двадцати годам, каторжных работ. Как же это происходит? На чьей стороне вина?
Ответ Достоевского совершенно точен: виною всему – суд присяжных. Эффектная казуистика адвоката, этого «прелюбодея мысли», для которого всякое явление – палка о двух концах. Но главное – самый институт присяжных судей, выбранных от населения, вмешательство малосведущих представителей общества в принадлежащую государству и церкви функцию суда и кары над виновными. Кто судил Митю Карамазова? – четыре мелких чиновника, два купца и шесть городских крестьян и мещан. «Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение таким судьям?» – вполне разделяет это тревожное недоумение публики на карамазовском процессе сам Достоевский.
Случайные члены населения, неподготовленные к общественным делам, выполняют верховные и самые ответственные функции государственной власти. Они только и могут, что «прикончить нашего Митеньку» вместо вынесения ему ожидаемого всеми «неминуемого» оправдательного приговора. Невольно вспоминаются слова Победоносцева о том, что суд «родит толпу адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии, чтобы действовать на массу»; в лице присяжных «в нем действует пестрое смешанное стадо, собираемое или случайно или искусственным подбором из массы, коей недоступно ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки».
Нужно помнить, что в эпоху написания романа вопрос об общественном суде стоял особенно остро: только что была оправдана присяжными Вера Засулич и политические дела изъяты из ведения суда присяжных. Случай карамазовского процесса – но в обратном смысле – имел место на знаменитом политическом процессе 1878 г.: несмотря на неминуемый» обвинительный приговор, тщательно подготовленный правительством, присяжные оправдали террористку. Правая печать признала приговор, освободивший Веру Засулич, «чудовищным делом», и органы Каткова и Мещерского открыли яростную кампанию против суда присяжных. В процессе Митеньки Карамазова Достоевский отражает этот поход правительственной прессы против общественного суда.
Нетрудно заметить, что в изображении пореформенного трибунала Достоевский, присутствовавший среди представителей печати на разборе дела Веры Засулич 31 марта 1878 г., использовал ряд бытовых деталей знаменитого процесса. Дело Дмитрия Карамазова тоже «получило всероссийскую огласку», «потрясло всех и каждого»: в суде присутствовало «несколько знатных лиц», «сановные старички со звездами на фраках» (на процессе Засулич – канцлер Горчаков, государственный секретарь Сольский, А. Г. Строганов, А. А. Абаза, сенатор Арцимович, петербургский губернатор и несколько членов Государственного совета). Здесь впрочем близость к действительности могла бы вызвать некоторые возражения: вполне понятно присутствие сановников в столичном суде на разборе политического, дела о покушении на петербургского градоначальника; но откуда им взяться в глухом захолустном Скотопригоньевске на разборе частно-уголовного случая?
Близки к обстоятельствам процесса 1878 г. и другие черты описания Достоевского. «Особенно много оказалось дам» (в воспоминаниях А. Ф. Кони сохранился длинный перечень представительниц сановного Петербурга, получивших билеты на процесс); большое количество юристов. Председатель суда на карамазовском деле – «человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей», имеющий связи и состояние, интересующийся делом как «продуктом наших социальных основ», но довольно безразличный к личной трагедии его участников, весьма напоминает председателя на процессе Засулич А. Ф._Кони. Болезненно-восприимчивый прокурор Митеньки «самолюбивый наш Ипполит Кириллович, произнесший умную и дельную речь», вероятно был срисован Достоевским с обвинителя Веры Засулич. Из воспоминаний Кони мы знаем, что товарищ прокурора Кессель был угрюмым и строптивым человеком, отличавшимся болезненным самолюбием. Речь свою он построил умело и тактично. Защитник Александров начал с похвалы «благородной сдержанной речи товарища прокурора» и заявил о своем согласии «со многим из того, что сказано им».
Еще явственнее черты защитника Веры Засулич Александрова в лице адвоката карамазовского процесса Фетюковича[32]32
Мы отмечали в свое время, что прототипом Фетюковича мог быть и В. Д. Спасович, о котором Достоевский неоднократно писал в «Дневнике писателя». В настоящее время мы думаем, что на первое место здесь следует поставить Александрова, имея в виду, впрочем, что множественность прототипов для отдельного художественного образа – обычное явление в творчестве Достоевского.
[Закрыть]. Выдающееся мастерство слова, художественная литературность речи, высший подъем красноречия, ошеломляющее впечатление на слушателей – все это так же характерно для защитника Митеньки, как отдельные места речи Александрова: «то был суд правый, отклик суда божественного, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл»; «теперь по отрывочным рассказам, по догадкам, по намекам нетрудно вообразить и настоящую картину экзекуции». Речь произвела исключительное впечатление и была единодушно признана блистательной. «Александров, – свидетельствует один из очевидцев, – был неподражаем. То он извивался, как змея и вливал свой смертоносный яд в нанесенные им раны, то он вздымался, как орел, и сверху вниз наносил своей жертве неотразимые удары…» Все эти приемы уловлены в портрете Фетюковича; «он все как-то изгибался спиной»; в первой половине речи – критика и сарказм, во второй – высокая патетика, от которой восторженно трепещет зал; буквально воспроизводится и вмешательство Кони в рукоплескания публики по адресу Александрова, нарисовавшего яркими красками картину экзекуции (в романе: «председатель, заслышав аплодисмент, громко пригрозил очистить залу суда»…).
Осуждение европейски-либерального суда присяжных в последних главах «Карамазовых» производится во имя положения, высказанного в начале романа: «суд церкви есть суд, единственно вмещающий в себе истину». Характерно, что философ романа Иван Карамазов выступает в печати со статьей о церковно-общественном суде. Достоевский затрагивает по этому поводу одну из главных тем реакционного исповедания эпохи.
Краеугольным камнем своей программы Победоносцев считал вопрос о церкви и государстве. Борьбу этих начал он признавал знаменательнейшим явлением своего времени, утверждая, что «церковь как общество верующих не отделяет и не может отделять себя от государства как общества, соединенного в гражданский союз». Иван Карамазов развивает аналогичное положение, в котором Достоевский сходится с Победоносцевым и Тертием Филипповым: «церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол». Монахи в романе утверждают, что не Рим и, не Лютер, а православие обратит государство в церковь. В плане этих обсуждений в роман вводится эпизод, вызвавший целую главу в «Дневнике писателя», весьма одобренную Победоносцевым: о русском солдате Фоме Данилове, умерщвленном азиатами за отказ перейти в магометанство; на эту тему, как известно, развивает свою скептическую «контроверзу» Смердяков.
Во всяком случае заканчивая роман, Достоевский в письме к Победоносцеву просит его обратить особое внимание на сентябрьскую, книжку «Русского Вестника», где кончается 4-я и последняя часть «Карамазовых»: «в этой Сентябрьской книге будет суд, наши прокуроры и адвокаты – все это выставлено будет в некотором особенном свете». Но и без этого свидетельства мы знаем, что сатира на современный суд в карамазовской «Судебной ошибке» вполне соответствует церковно-юридическим воззрениям знаменитого цивилиста, возглавлявшего с весны 1880 г. святейший Синод.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































