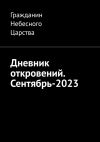Текст книги "Если бы я была королевой… Дневник"

Автор книги: Мария Башкирцева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
– Жюлиан, – сказал при всех Робер-Флёри, – я только что похвалил и поздравил мадемуазель Башкирцеву: у нее отменные способности.
Жюлиан, казалось, порхал по воздуху, несмотря на свою грузность. Дело в том, что Робер-Флёри не на жалованье и проверяет наши работы просто по дружбе; поэтому, если мэтр выказывает интерес к ученикам, Жюлиан счастлив. <…>
Понедельник, 25 марта 1878 года
У нас конкурс. Натурщица немного похожа на Круазетт[114]114
Софи Круазетт (1848–1901) – актриса «Комеди Франсез».
[Закрыть].
Место у меня неплохое, и дело, по-моему, ладится. Впрочем, не собираюсь изнурять себя, засиживаясь допоздна. <…>
Кассаньяк прислал билеты с запиской, вот она – прикалываю ее к странице.
<…>
Я твердо решила оставить его в покое, тогда и все мои тревоги улягутся. Утешусь в мастерской, если понадобится утешение; во всяком случае, там найдет себе занятие мой мятущийся дух, который, когда он ничем не поглощен, может натворить бед. Мастерская для меня – ответ на все мои тревоги: на мое нетерпение, на мою требовательность, на мои горести. <…>
Я, конечно, чудовище, а все-таки слава богу, что я такая умница и ни по ком не сохну. Влюбись я – убила бы себя со злости.
<…>
Четверг, 4 апреля 1878 года
Пришла в мастерскую пораньше, узнала решение жюри: решение совершенно нелепое и потрясло все умы. Медаль получила Вик (что вполне естественно). Потом идет Мадлен (она почти всегда получает медаль), а следом я. Я так изумлена, что даже не радуюсь.
Это настолько поразительно, что Жюлиан пошел к Лефевру[115]115
Жюль Лефевр (1836–1912) – исторический живописец и портретист; преподаватель в Академии Жюлиана.
[Закрыть] (которому жюри Салона присудило первое место) и спросил, почему тот распределил места таким образом. А Лефевр и ученики снизу сказали, что третье место мне присудили потому, что у меня в рисунке есть чутье. А рисунок Бреслау испорчен излишним «шиком». Она сидела далеко от натурщицы, и у нее заметна некоторая расплывчатость: преподаватели же вообще предубеждены против женщин, вот они и решили, что это «шик».
Мне повезло, что не было Робера-Флёри, судили только Лефевр и Буланже[116]116
Гюстав Буланже (1812–1888) – художник, главным образом ориенталист; впоследствии преподавал в Школе изящных искусств.
[Закрыть], а не то сказали бы, что мне присудили третье место по протекции Робера-Флёри.
<…>
Суббота, 6 апреля 1878 года
Робер-Флёри что-то уж слишком меня ободряет, он нашел, что третье место досталось мне по праву, и это его нисколько не удивило. Все разозлились: до чего глупо.
Ходила в Люксембург, а потом в Лувр с Шеппи.
Как подумаешь, что Мюльтедо, выйдя от нас, пойдет, скорее всего, домой и будет мечтать о моих руках, обо мне… и думать, что я, наверное, думаю о нем… а я, раздетая, неприбранная, с растрепанными волосами, сбросив туфли на пол, принялась ломать себе голову над тем, достаточно ли я его очаровала, достаточно ли обольстила, и, не довольствуясь собственным мнением, допрашивать Дину, и мы принялись вместе прикидывать что да как. Это в самом деле возмутительно или просто гадко.
<…>
Подумать только, что значит молодость; два года назад я бы вообразила, будто это – любовь. Теперь я сделалась рассудительна и понимаю, как это забавно – чувствовать, что заставила кого-то себя полюбить. Вернее, забавно видеть, как кто-то в тебя влюбляется. Любовь, которую внушаешь к себе, – это совершенно особое чувство, которое ты сам испытываешь, а я раньше путала его с обычной любовью.
Господи, господи, а я-то воображала, будто люблю Антонелли, а он такой же носатый, как Мюльтедо! Фу, стыд какой! Как я рада, что нашла себе оправдание! Как рада! Нет, нет, я никогда не любила… И если бы вы могли себе представить, до чего я себя чувствую счастливой, свободной, гордой и достойной… Того, кто непременно придет!
<…>
Пятница, 12 апреля 1878 года
<…>
Вчера Жюлиан встретился в кафе с Робером-Флёри, и тот сказал, что я в самом деле интересная и удивительная ученица и что он многого от меня ждет. Вот за что мне надо держаться, особенно в минуты, когда весь мой рассудок объят необъяснимым и тягостным ужасом и я чувствую, как безо всякой серьезной причины погружаюсь в бездну сомнений и всевозможных мук!
Последнее время у меня то и дело горят три свечи – это к смерти. Уж не мне ли предстоит покинуть этот мир? Наверно, мне. А мое будущее, а слава? Что ж, пропадут и они.
Если бы в пределах моей видимости был хоть какой-нибудь мужчина, я бы подумала, что я еще влюблена, – до того мне неспокойно; но мало того что нет никого, у меня еще и ни малейшей охоты нет… А почему? Фантазии – ведь это так удобно… но они меня унижают. Однако бывают дни, когда мне кажется, что нет никакого преступления в том, чтобы потакать своим капризам; напротив, не желая себя неволить, мы доказываем свою гордость и презрение к другим. Да, но они все такие низкие, недостойные, что я ни единой минуты не способна ими заниматься. Во-первых, у них у всех мозоли на ногах, а я не простила бы этого и королю! Вообразите себе, чтобы я принялась мечтать о человеке, у которого на ногах мозоли! Наверное, у Мюльтедо мозоли. <…>
Начинаю верить, что всерьез предана своему ремеслу, это поддерживает меня и утешает. Ничего другого мне не нужно; я слишком от всего устала, чтобы думать о чем-нибудь еще.
Если бы не это беспокойство, не этот страх – я была бы счастлива! <…>
Помню, в детстве у меня бывали почти такие же предчувствия и страхи; мне казалось, я никогда не выучу никакого языка, кроме французского, что другие языки у меня не учатся. И что же? Сами видите, ничего подобного. А ведь я терзалась самым настоящим суеверным страхом, вот как теперь.
Авось этот пример меня поддержит. <…>
Я думала, что в «Поисках абсолюта»[117]117
«Поиски абсолюта» – одно из главных произведений Бальзака (1834). Герой этого романа одержим страстью к науке, вытесняющей у него понятия семьи и чести.
[Закрыть] все будет совсем не так, потому что я ведь тоже ищу абсолют. Но только я ищу его в чувствах и вообще во всем. Потому и вынуждена в мыслях и работе двигаться ощупью, пробовать тысячи раз то одно, то другое и в конце концов делаю успехи, но добиваюсь всегда не совсем того, чего хотела.
Суббота, 13 апреля 1878 года
<…>
Погодите, погодите, я тоже должна добиться того, чтобы стать великой, мне девятнадцать, для всех мне восемнадцать, поэтому будем считать восемнадцать. Хорошо же, к двадцати двум годам я или прославлюсь, или умру.
Ни то ни другое. Ему (т. е. Кассаньяку. – Е. Б.) тридцать восемь, мне двадцать два, и я известна только великосветским газетам. Там меня чуть ли не гениальной художницей называют, но это не то, на что я надеялась.
<…>
Вы, может быть, полагаете, что в нашей работе участвуют только глаза да пальцы? Вы, обыватели, никогда не узнаете, сколько нужно неослабного внимания, постоянных сопоставлений, расчета, чувства, раздумий, чтобы чего-нибудь достичь! <…>
Мюльтедо совсем не богат. Это точно.
Только что мы подверглись самому настоящему нападению. Явился г-н Жорж с толпой людей, таких же пьяных, как он сам. Они ломились больше четверти часа. Трифону наконец удалось от них отделаться. Но уверяю вас, что положение было не из веселых. Ну да ладно.
Вечером – г-н Морган, Мюльтедо и Гольдсмит. Мюльтедо воображает, что я его люблю. Дурачок. Но я не отказываюсь от этой чести и – в иные минуты – принимаю знаки его любви, но это чисто физическое, предупреждаю вас, чтобы вы ничего не опасались.
Ах, если бы это был не он, а кто-то другой…
Мюльтедо небогат, что же вы от меня хотите? Как я над ним издеваюсь и как мне нравится играть эту комедию и над ним издеваться!! Он, возможно, думает, что это он надо мной издевается… но это заблуждение, он запутался… а может быть, он думает, что я очень богата… Но я разуверила его, нашла случай сказать ему, что я не богата.
Воскресенье, 14 апреля 1878 года
<…>
Бедный дедушка, все ему интересно, он так страдает оттого, что не может говорить. Я понимаю его лучше всех, нынче вечером он так радовался: я читала ему газеты и мы все беседовали у него в комнате. Меня переполняли и мука, и радость, и умиление.
А сейчас я в такой досаде, в таком бешенстве и отчаянии, каким нет выражения в языке человеческом!!! Если бы я рисовала с пятнадцати лет, я была бы уже знаменита!!!
Понимаете?..
Четверг, 18 апреля 1878 года
<…>
Надо бы мне познакомиться с господином Гамбетта́[118]118
Леон Мишель Гамбетта (1838–1882) – в то время депутат от Двадцатого округа Парижа и председатель Финансовой комиссии. Он был виднейшим представителем республиканской партии; в 1881–1882 гг. был премьер-министром и министром иностранных дел Франции. Пока он возглавлял оппозицию, М. Б. несколько раз ему писала, пытаясь с ним встретиться, но безуспешно.
[Закрыть]. С ним бы я вела себя серьезно… ну почему он в оппозиции! Ах, подумаешь, все равно это был бы могущественный друг… Ах, господи, если бы это было возможно! Бывало, что женщины добивались всего только благодаря своему уму. Значит, я дурочка? Княгиня Трубецкая[119]119
Елизавета Трубецкая – урожденная княгиня Белосельская-Белозерская, в 1852 г. вышла замуж за князя Петра Никитича Трубецкого; была хозяйкой политического салона, в котором бывал Гамбетта.
[Закрыть] – дурочка, но она княгиня Трубецкая, а еще говорят, что за неимением ума она обладает даром к интриге, какого хватило бы двум умнейшим женщинам вместе. Гамбетта достался ей в наследство от г-на Тьера. Мне бы страшно хотелось с ним познакомиться, он урод, так что никто ничего не скажет и я не буду чувствовать себя неловко. Подождем его возвращения и попробуем с ним подружиться – хотя бы затем, чтобы досадить Кассаньяку, который не оценил меня; уверяю вас, что в соответствующих кругах я бы чего-нибудь да стоила. Что до любви, то она хороша в шутку, а теперь я серьезна… Может быть, я сама виновата: только и знала при нем, что шутить.
<…>
Суббота, 20 апреля 1878 года
Вчера вечером, убирая дневник на место, открыла шестьдесят вторую тетрадь, прочла несколько страниц и в конце концов наткнулась на письмо Антонелли. Долго мечтала над ним, и улыбалась, и снова мечтала. Легла поздно, но это время не потерянное: такие потерянные для дела минуты невозможно пережить, когда сам того пожелаешь, – они даются только в молодости; нужно не упускать их, ценить и наслаждаться ими, как всем, что посылает нам Бог. Те, кто молод, не умеют ценить свою молодость, ну а я, точно старушка, всему знаю цену и не желаю упустить ни единой радости. <…>
Среда, 24 апреля 1878 года
<…>
Кассаньяк женится… Встречаю эту новость ропотом, это вполне естественно, но мне было бы почти все равно, если бы мама так не разъярилась. <…>
Понедельник, 29 апреля 1878 года
С восьми утра до шести вечера, за вычетом полутора часов на обед. Ничего нет лучше постоянной работы.
Но какой ад у нас дома!
К чему сводятся впечатления, мнения, чувства?? Еще несколько дней назад Поль де Кассаньяк был богом, теперь он уже почти и не человек.
Что до всего прочего, то скажу вам, что я, как мне кажется, никогда не влюблюсь по-настоящему. В каждом мужчине, в каждом, я непременно обнаруживаю что-нибудь смешное, и тогда уж пиши пропало. То это странность какая-нибудь, то неуклюжесть, глупость, нудность – но что-нибудь да есть, кончик уха торчит.
– Вам нужен кто-нибудь умнее вас, – говорит Блан.
– Да, конечно.
– Да, но это невозможно.
– Полно вам!
– Вероятно, есть мужчины более серьезные, есть такие, что лучше разбираются в каких-то материях, но таких, чтобы в общем были умнее, остроумнее, хитрее, – ручаюсь вам, шутки в сторону, таких нет. А вы, пока не почувствуете интеллектуального превосходства… и т. д. и т. п.
Правда: пока я не встречу своего повелителя, не поддамся ни на какие чары; страсть выискивать в людях недостатки не позволит мне увлечься никаким Адонисом… Как глупы люди, которые ездят в Булонский лес, – просто не могу понять их пустого, бездумного существования!
<…>
Суббота, 4 мая 1878 года
<…>
Я словно боюсь чего-то.
Обожаю простоту во всем – в живописи, в чувствах и т. д. – во всем. Мне самой никогда не давались простые чувства и никогда не будут даваться: они немыслимы там, где есть сомнения и страхи, основанные на предыдущем опыте. Простота чувств возможна, когда люди счастливы, или в деревне, в неведении всего того, что… Характер у меня от природы въедливый, и по причине избытка проницательности, и из-за самолюбия, пристрастия к анализу, тяги к истине, страха избрать ложный путь, потерпеть неудачу.
Так вот, когда разум или сердце терзаются всем этим, результаты получаются вымученные; они могут обернуться неудержимыми успехами, но зато подвержены странным превратностям, болезненным взлетам, падениям, – словом, совершенно неровны, мучительно неровны; в конечном счете, это лучше однообразия, которое, как известно, утомляет. При однообразии невозможны изысканные нюансы, дарящие высшее наслаждение утонченным, вкрадчивым натурам, которые во всем великом и даже в возвышенном ищут тонкости; без нюансов этих никогда не достичь воистину сильных живописных эффектов…
Можно подумать, что я что-то об этом знаю. А я знаю только одно: пишу то, что сама выдумала, ни у кого не украла.
<…>
Воскресенье, 12 мая 1878 года
<…>
Вчера ночью приходило чудовище; стучал в дверь, требовал денег; мать бросилась ко мне, словно хотела помешать мне его убить, и я наговорила ей глупостей. Потом вернулась в мою маленькую гостиную, там было темно, я упала на колени и поклялась Господу Богу, что никогда не буду больше возражать этой женщине, а если она опять даст волю своей кошмарной доброте или выведет меня из терпения, смолчу или просто уйду.
Она серьезно больна, на нас свалилось несчастье, и я никогда не прощу себе, если останусь перед ней виновата. <…>
Четверг, 16 мая 1878 года
<…> Покуда я собиралась написать череп – а сама, по обыкновению заранее, раззвонила о своем плане, – Бреслау на этой неделе взяла да и написала его. Мне урок: меньше распускать язык. По этому поводу, болтая с другими девушками, я обронила замечание, что, надо думать, мысли мои чего-нибудь да стоят, раз уж находятся дурочки, которые подбирают самые неудачные из них, которые я сама уже отбросила.
Пятница, 17 мая 1878 года
Я бы с удовольствием пошла в коммунары только затем, чтобы взорвать все дома и семейные очаги!..
Дом надо любить; что может быть слаще, чем предаваться там отдохновению, мечтать о том, что не имеет ничего общего с дневными делами, о людях, которых видела… Но нельзя же отдыхать до бесконечности! <…>
Время с восьми до шести худо-бедно проходит за работой, но вечера!..
Буду вечерами заниматься ваянием… лишь бы не думать, что я молода, а время уходит, что мне скучно, что я бунтую, что это ужасно!
Странно все же, ведь бывают люди, которым вечно не везет, ни в любви, ни в делах. В любви – тут я сама виновата: слишком хлопотала об одних, пренебрегала другими… Но в делах!.. Если бы мне повезло, у нас бы мог быть такой интересный салон – с Полем де Кассаньяком, с моей независимостью, с моей оригинальностью; ведь устраивают женщины салоны: м-ль Акад[120]120
Невеста, затем жена Поля де Кассаньяка.
[Закрыть] – и та устроила салон! французская девушка, просто мадемуазель Акад, какая-нибудь Клер или Матильда, а может, Сюзанна! <…>
Пойду плакать и молиться Богу, чтобы Он мне помог.
Вести с Богом переговоры – оригинальное занятие, но что-то Он ко мне не становится добрее.
Другие просто не умеют просить. А у меня есть вера, и я Его умоляю…
Я, видимо, недостойна.
Наверное, я скоро умру.
<…>
Вторник, 21 мая 1878 года
Мало мне одного несчастья – нужно целых два! Он женится! Тот, второй, – Леон Гамбетта!
<…>
Суббота, 25 мая 1878 года
Знаете, Кассаньяк даже не ответил. <…>
– У вас что-то не очень хорошо получается, – говорит Р[обер]-Флёри.
Я и сама чувствовала, и, если бы он не ободрил меня с натюрмортами, я бы рухнула с высоты моих надежд, а это было бы тяжко.
Мы были в «Театр-Франсэ», смотрели «Фуршамбо»[121]121
«Фуршамбо» – пятиактная комедия Эмиля Ожье; шла в «Театр-Франсэ» с 9 апреля 1878 с огромным успехом.
[Закрыть]. Все восхищаются пьесой, а мне что-то не очень.
Я была в шляпке… нет, меня это больше не интересует… я только стараюсь выглядеть изысканно… но последнее время как-то забросила это все.
Решительно, я стану великой художницей… Всякий раз, когда я отрываюсь от занятий, меня возвращают к ним разные удары хлыста.
Мечтала о политических салонах, потом о светской жизни, потом выйти замуж за богача (Мюльтедо не годится), потом опять о политике… Минутные мечты, минутные надежды на то, что удастся естественным образом устроить свою человеческую, женскую судьбу, – но нет, ничего не получается! Такое постоянное, неизменное, удивительное невезение, что мне уже даже смешно. Зато у меня выработалось огромное хладнокровие, великое презрение к окружающим, рассудительность, мудрость и много других качеств, придавших моему характеру холодность, высокомерие, равнодушие и в то же время беспокойство, порывистость, энергию.
Что до священного огня, то он скрыт, и пошляки, профаны даже не подозревают о нем. Им кажется, что мне на все «наплевать», что у меня нет сердца; я только критикую, презираю, насмехаюсь.
А вся нежность, стиснутая в самой глубине моего существования, – что ей до моего показного высокомерия? Ей до него дела нет… Она шепчет свое и прячется поглубже, оскорбленная и опечаленная.
И я живу себе, изрекая всякие несообразности, которые мне нравятся, а других удивляют… Все бы хорошо, не будь в этом привкуса горечи, не будь это следствием моего невообразимого невезения.
Вот так, когда я обратилась к Богу с той самой моей просьбой, священник дал мне вина и хлеба, и я их взяла, а потом, по обычаю, он дал мне просто кусок хлеба, без вина. И этот хлеб дважды выпадал у меня из рук. Я очень огорчилась, но ничего не стала говорить, понадеявшись, что это не означает отказа… Кажется, это все же был отказ.
Значит, остается искусство, и я должна посвятить себя искусству… Без сомнения, я еще буду делать зигзаги в сторону, но только на какие-нибудь часы, а потом, наказанная и поумневшая, буду возвращаться на прежний путь.
<…>
Понедельник, 27 мая 1878 года
Приехала в мастерскую до семи часов, позавтракала на три су в кафе-молочной вместе с нашими шведками. Видела рабочих и уличных мальчишек в блузах, они пили там свой убогий шоколад, такой же, какой заказала и я. <…>
Пообедала в мастерской: мне привезли поесть из дому, потому что я рассчитала, что если ездить на обед домой, то я буду ежедневно терять по часу; в неделю это составляет шесть часов, то есть целый рабочий день, а за год получается сорок восемь дней.
Ну а вечерами… буду заниматься ваянием; я уже посоветовалась с Жюлианом, и он потолкует об этом с Дюбуа[122]122
Поль Дюбуа (1829–1905) – скульптор, член Академии искусств.
[Закрыть] или попросит кого-нибудь с ним переговорить, чтобы он согласился со мной заниматься.
<…>
Я давала себе четыре года, и семь месяцев уже прошло. Теперь мне кажется, что достаточно и трех лет, значит, у меня есть еще два года пять месяцев. Мне тогда будет двадцать два.
<…>
Четверг, 30 мая 1878 года
Мне снилось, что я ехала вместе с Гамбетта в белой атласной карете.
<…>
Как правило, родные и близкие великих людей не верят в их гений… А меня мои домашние, наоборот, сильно переоценивают: их, пожалуй, нисколько бы не удивило, если бы я написала картину вроде «Плота „Медузы“»[123]123
«Плот „Медузы“» (1819) – знаменитая картина французского художника Жерико; находится в Лувре.
[Закрыть] или удостоилась ордена Почетного легиона. Быть может, это дурной признак? Надеюсь, что нет.
Пятница, 31 мая 1878 года
<…>
Я себя не узнаю. Это не сиюминутное ощущение, я действительно стала такая. Сама удивляюсь, но это правда.
Мне даже богатства больше не нужно: две черные блузы в год, немного белья, которое я готова сама стирать по воскресеньям, совсем простая еда, лишь бы свежая и без лука, и… возможность работать. Никаких карет – омнибус, а то и пешком; в мастерскую я надеваю туфли без каблуков. Зачем же тогда жить?
Зачем? Черт побери, ради надежды на лучшие дни, а надежда эта никогда нас не покидает.
Все относительно. По сравнению с минувшими моими терзаниями сейчас мне хорошо; наслаждаюсь, словно произошло что-то радостное.
В январе мне будет двадцать лет. Мусе двадцать лет! – бессмысленно, невозможно. Это страшно.
Иногда хочется нарядиться, поехать гулять, показаться в Опере, в Булонском саду, в Салоне, на выставке. И сразу же думаю: а зачем? И все исчезает, как не было.
Напишу слово – и в голову лезут тысячи всяких мыслей; удается выразить только обрывки «всеобъемлющих умозаключений».
Какое несчастье для потомства!
Суббота, 1 июня 1878 года
Потомству-то что, беда в том, что мне не удается понять саму себя.
<…>
Завидую Бреслау: она рисует совсем не по-женски. На будущей неделе увидите, как я буду работать!.. Послеобеденные часы посвящу выставке и Салону. А затем… Хочу рисовать хорошо, и так и будет.
<…>
Понедельник, 3 июня 1878 года
Бессонная ночь, работа с восьми утра, а с двух до семи вечера носилась по городу: то в Салон, то на поиски квартиры… <…> А здоровье проклятое никуда не годится! Силы истощились, ни на что их недостает! Работаю… Подумаешь – тоже мне работа.
Каких-то жалких семь-восемь часов в день, и пользы от них не больше, чем от семи-восьми минут.
Мы побывали в прекрасной мастерской, я дрожала от радости, когда ее осматривала. Сам вид большой, хорошо освещенной мастерской внушает надежду, что здесь можно будет создать прекрасные работы.
<…>
Среда, 3 июля 1878 года
<…>
Мюльтедо приехал попрощаться[124]124
М. Б. собиралась на курорт в Соден.
[Закрыть], шел дождь, и он вызвался проводить нас на выставку. Мы согласны, но до этого мы с ним остаемся наедине, и он умоляет меня не быть такой жестокой и т. д. и т. д.
– Вам известно, что я вас безумно люблю, что я страдаю… Если б вы знали, как мучительно видеть только язвительные улыбки, слышать только насмешки, когда любишь по-настоящему.
– Вы сами себе это внушили.
– Да нет, клянусь, я готов доказать это вам на деле… безграничной преданностью, верностью, собачьим терпением, наконец! Скажите одно слово, скажите, что вы хоть немного мне верите… Зачем вы обращаетесь со мной как с шутом, как с существом низшей породы?..
– Я обращаюсь с вами так же, как со всеми.
– Но почему? Вы же знаете, что я люблю вас не так, как другие, что я предан вам душой и телом!
– Мне не в диковинку внушать подобные чувства.
– Но не такие, как мои… Позвольте мне хотя бы думать, что не питаете ко мне этого ужасного чувства…
– Что вы, конечно, ничего ужасного.
– Чувство, которое мне всего ужаснее перенести, – имя ему равнодушие.
– О господи!
– Обещайте мне, что не забудете меня за те несколько месяцев, что здесь меня не будет.
– Это не в моей власти.
– Обещайте вспоминать время от времени о моем существовании… Может быть, я смогу вас забавлять, может быть, когда-нибудь сумею вас рассмешить? Позвольте мне… надеяться, что изредка, разок-другой, вы напишете мне хотя бы словцо.
– Вот как?
– Хоть без подписи, просто черкните: «У меня все хорошо» – вот и все, и вы меня этим осчастливите!
– Я подписываю все, что пишу, и уважаю свою подпись.
– Так вы согласны со мной переписываться?
– Я как «Фигаро»: получаю любые письма.
– Боже, знали бы вы, какой это ужас: от вас невозможно добиться серьезного слова, вечно вы издеваетесь. Нет, давайте поговорим серьезно, не может быть, чтобы вы не пожалели меня даже теперь, когда я вас покидаю! Могу я надеяться, что моя беспредельная преданность, привязанность, любовь… Поставьте мне условия, потребуйте каких угодно доказательств, но дайте надежду на то, что когда-нибудь отнесетесь ко мне с большей… нежностью! Что вы перестанете надо мной смеяться!..
– Доказательство возможно только одно, – ответила я серьезно.
– Какое? Я на все готов!
– Время.
– Согласен, пускай пройдет время. Увидите.
– Очень буду рада.
– Но скажите, вы мне доверяете?
– Вы еще спрашиваете! Я даже доверила вам письмо и не сомневаюсь в том, что вы его не вскроете.
– Какой ужас! Нет, я о полном доверии…
– Высокие слова!
– Но если и чувства высокие? – мягко возразил он.
– Я рада вам верить, подобные вещи льстят нашему тщеславию. И знаете что? Пожалуй, я вам до некоторой степени верю.
– Правда?
– Правда.
Довольно с вас? Едем на выставку. Я сержусь, потому что Мюльтедо счастлив и ухаживает за мной, словно я приняла его чувство.
<…>
Нынче вечером я по-настоящему довольна: любовь Мюльтедо действует на меня совершенно так же, как в свое время любовь Антонелли. Теперь вы видите, что я его не любила! Я даже не была в него влюблена! Я была влюблена только в этого негодяя Александра.
До любви мне было рукой подать – но вы помните, каким чудовищным разочарованием это обернулось. <…>
Как вы понимаете, у меня нет намерения выйти за Мюльтедо замуж. Буду тянуть сколько понадобится, пока само не угаснет.
– Истинная любовь всегда достойна уважения, – сказала я ему, – поэтому вам не следует стыдиться, но не взвинчивайте сами себя.
– Прошу у вас дружбы!
– Пустые слова.
– Тогда вашей…
– Вы невыносимы!
– Но что же мне сказать, если вы сами не желаете, чтобы я добивался успеха постепенно, начал бы с дружбы…
– Это химеры!
– Что, любовь?
– Вы с ума сошли.
– Почему?
– Потому что вы мне ненавистны.
– Вы дитя.
<…>
Пятница, 5 июля 1878 года
<…> Заезжаем к Мюльтедо и зовем его сегодня вечером в Оранжери на концерт русских цыган. <…>
Знаете, мои дорогие, а ведь Мюльтедо всерьез разозлился. Вчера я его, кажется, по-настоящему выставила за дверь. И сегодня вечером в концерте он сказал, что нельзя обращаться с тридцатидвухлетним мужчиной как с пятнадцатилетним мальчишкой и что когда-нибудь мне попадется человек, который меня ославит, – не такой, как он; а он хотя и любит меня безумно, но никогда мне не простит. А я ему на это ответила, что мне не в чем извиняться, а если я ему сказала, чтобы он убирался, то это была шутка: я только в полном безумии могла бы сказать такое серьезно, и нужно было быть полным дураком, чтобы мне поверить.
После концерта угощаемся мороженым. <…> Идем пешком почти до самого нашего дома, погода прекрасная; Мюльтедо успокоился и говорит со мной о своей любви… Опять все то же самое: я не люблю его, но его пыл меня согревает; два года назад я принимала это за любовь!..
А говорит он хорошо… Даже всплакнул. Подходя к дому, я уже меньше насмешничала, меня растрогали эта теплая ночь, этот гимн любви. Как хорошо, когда тебя любят!.. Ничего нет на свете лучше! Теперь я знаю, что Мюльтедо меня любит. Все это не может быть притворством. Если бы он охотился за моими деньгами, мое пренебрежение уже давно бы его оттолкнуло. <…> Мюльтедо не прощелыга, он безупречно порядочный человек. Он мог бы найти – и найдет – другую.
<…>
Мюльтедо очень милый, и напрасно, быть может, я при прощании забыла отнять у него свою руку… <…> Он ее поцеловал. Не могла я ему в этом отказать. И потом, он, бедняга, так любит меня, так уважает! Я забросала его вопросами как маленькая: мне хотелось знать, как с ним приключилось такое, с чего началось. Кажется, он полюбил меня сразу же, но, как он говорит, странной любовью: «Другие – просто женщины, а вы выше остального человечества, и у меня странное чувство: я знаю, что вы обходитесь со мной как с горбуном-шутом, что вы безжалостны, бессердечны, и все-таки я вас люблю; обычно, если любишь женщину, всегда немного восхищаешься ее сердцем, а я… мне как будто многое в вас не нравится, но я вас обожаю».
А я все слушала, слушала, потому что, право же, можете мне поверить, объяснения в любви стоят всех зрелищ на свете, кроме тех, на которые ходишь, чтобы себя показать. Да и те тоже сродни гимну или объяснению в любви: на тебя смотрят, тобою восхищаются, а ты распускаешься, словно цветок на солнце. <…>
Вторник, 9 июля 1878 года[125]125
Написано в Содене.
[Закрыть]
<…>
Осматривали мое горло: фарингит, ларингит и катар. Только и всего!..
Развлекаюсь чтением Тита Ливия и вечерними записями. Надеюсь заниматься этим каждый вечер; надобно изучить римскую историю.
<…>
Понедельник, 22 июля 1878 года
«[Суббота, 20 июля 1878 года]
Сударыня.
Благословляю собственное письмо: было в нем, видно, что-то неотразимое, раз оно повлекло за собой Ваши советы. Жаль, что я сам не так неотразим, как мое письмо.
Некоторые Ваши советы я принимаю. Другие считаю шуткой. <…> Не могу принять всерьез Ваше наставление; Вы, с Вашим здравым смыслом, не можете считать, что следует драться еще до того, как Вас оскорбят, или даже когда обида была незначительна и полностью заглажена.
Даже Ваш идеал Кассаньяк принимает письменные извинения. Я не бретер, а просто серьезный человек, я питаю к себе уважение, но уважение спокойное и непоказное, – я тоже довольствовался бы объяснением.
Если Вы любите забияк и страстных дуэлянтов, я не в Вашем вкусе: я привык во всех жизненных обстоятельствах руководствоваться честью.
Пытаюсь Вам писать без надежды на ответ. Хотя стихи, которые я Вам послал позавчера, настолько дурны, что я уверен: Вы не откажете себе в удовольствии над ними поиздеваться и прислать мне критическое письмо. Позвольте ответить Вам советом на совет.
Не буду скупиться и дам Вам даже несколько советов, причем, в отличие от Ваших, это будут хорошие советы.
Советую Вам неукоснительно им последовать и применить на практике.
1. Paese che vuoi, essi che trovi[126]126
Ты их найдешь в той стране, какой хочешь (ит.).
[Закрыть]. Если Вы хотите жить во Франции, постарайтесь, как бы Вам это ни было отвратительно, усвоить привычки французских девиц. Успокойтесь на том, что превосходите их – как это и есть на самом деле – обаянием, умом и красотой! Когда Вы были во Флоренции, в Ницце, в городах меньше Парижа, Вы могли безнаказанно вести себя, как Вам заблагорассудится. Там Вы задавали тон. В Париже никто не господствует над другими безраздельно. Если кто-нибудь захочет господствовать, происходит разрыв.
К тому же девице не полагается ставить на место всех окружающих: нескромная девица – чудовище. Успокойтесь на том, что Вы самая хорошенькая и умная. Это огромное преимущество. Вы и так хороши собой, Вам нет никакой нужды все время одеваться в белое, в Париже это слишком бросается в глаза, то есть не вполне прилично. Чтобы быть остроумной, позвольте птице Вашего ума петь на свободе – незачем все время изрекать парадоксы, резкости, издевательские замечания. Блесткам надуманных и преувеличенных фраз предпочтите золото естественности и правды.
Если Вы хотите жить в Париже, Вам надо выбирать – или Ваши вечно белые наряды, прогулки в карете в одиночку, мастерская, череп, с которым Вы все время играете, хотя к смерти надлежит относиться с уважением, какие-то пожилые дамы с собачками, как те две-три, которых я у Вас видел и которые производят странное впечатление, какие-то молодые люди, которых Вы обращаете в бегство насмешками, дольки засахаренного лимона, бесконечные Ваши воспоминания, балы в Опере, или носите менее броские наряды, усвойте менее оригинальные привычки, чем, например, привычка ездить одной, больше времени проводите дома и меньше в мастерской и предпочтите хорошее французское общество, в которое Вам так легко попасть и занять там первое место.
Попытайтесь держаться скромнее, проявлять больше доброты к преданным друзьям, вроде меня, больше любви к окружающим, например к Вашей матушке.
Боюсь Вашего гнева. Останавливаюсь на этом. На сегодня довольно – покажите мне, что у Вас есть сердце и ум, скажите мне, что Вы видите, как искренне я Вам предан и как справедливо все, что я Вам сказал. И еще одно. Зачем Вы зовете себя мадемуазель де Башкирцефф? В России частицы „де“ нет. Кроме того, она и во Франции не указывает на благородное происхождение.
У некоторых людей эта частица есть, а они плебеи, другие, не имея ее, к простонародью не относятся.
Если в России Ваше имя сопровождает какая-то особая частица, почему бы не сохранить ее без перевода? Говорят: князь Горчакофф, князь Шувалофф. Насколько мне известно, никто не называет их „князь де Горчакофф“ или „князь де Шувалофф“.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.