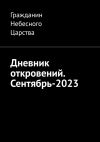Текст книги "Если бы я была королевой… Дневник"

Автор книги: Мария Башкирцева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Так зачем плакать? <…>
Среда, 15 ноября 1876 года
В воскресенье вечером я уехала вместе с отцом. <…>
Одна дорога до Вены обошлась мне рублей в пятьсот.
Я заплатила за все сама. <…>
Я в Вене.
Физически путешествие прошло превосходно: я хорошо спала, хорошо ела, не испачкалась. Вот главное, но это возможно только в России, где топят дровами, а в вагонах есть туалетные комнаты.
Отец вел себя вполне сносно; мы играли в карты, потешались над попутчиками. И только сегодня вечером вышла история, вполне в его духе.
Он взял ложу в Опере, но сказал, что поедет со мной, только если я буду в дорожном платье, или вообще не поедет.
– Вы пользуетесь моим положением, – сказала я ему, – но я никому не позволю меня тиранить, слишком большая роскошь! Я не поеду в театр. Спокойной ночи. <…>
Суббота, 18 ноября 1876 года
<…> Сегодня в пять утра въехали в Париж. В «Гранд-отеле» нашли телеграмму от мамы. Сняли номер на втором этаже. Приняла ванну и стала дожидаться маму. Но я в таком состоянии, что мне все безразлично. <…>
Воскресенье, 19 ноября 1876 года
<…> Кажется, родители не слишком топорщатся друг на друга. Отец воображает, что достаточно поцеловать ручку и все всё забудут, так что всячески притворяется любезным. <…>
Почтил нас визитом Жорж. Дина заперлась, чтобы его не видеть, еще бы, после всех его подлостей.
<…>
Понедельник, 20 ноября 1876 года
<…>
Мама все забыла, думает только о том, чтобы мне было хорошо, и долго говорила с отцом. Но этот господин изволили отшучиваться или отделывались фразами, возмутительными по своей низости. В конце концов он все-таки сказал, что понимает наш шаг, что даже враги мамины – и те сочтут его вполне естественным, и он знает, что по правилам хорошего тона его дочери, достигшей известного возраста, требуется в качестве прикрытия отец. И он обещает приехать в Рим, как мы предлагаем.
Если бы я могла ему верить…
Пятница, 24 ноября 1876 года
До вечера все было более или менее благополучно, но внезапно затеялся разговор, весьма серьезный, сдержанный, приличный разговор о моем будущем. Мама изъяснялась в совершенно благопристойных выражениях. Надо было видеть отца! Он опускал глаза, посвистывал, но отвечать – не тут-то было!
Есть такой малороссийский диалог, характеризующий народ и в то же время дающий представление о повадках моего отца.
Два крестьянина.
Первый. Мы с тобой шли?
Второй. Шли.
Первый. Тулуп нашли?
Второй. Нашли.
Первый. Я тебе его дал?
Второй. Дал.
Первый. А ты взял?
Второй. Взял.
Первый. Так где он?
Второй. Что?
Первый. Да тулуп!
Второй. Какой тулуп?
Первый. Мы с тобой шли?
Второй. Шли.
Первый. Тулуп нашли?
Второй. Нашли.
Первый. Я тебе его дал!
Второй. Дал.
Первый. А ты взял!
Второй. Взял.
Первый. Ну так где он?
Второй. Что?
Первый. Тулуп.
Второй. Да какой тулуп?
И так далее до бесконечности, но только мне было совсем не до смеха, я задыхалась, и к горлу подступал какой-то комок, причинявший мне ужасную боль, тем более что я не позволяла себе плакать.
Я попросила разрешения вернуться вместе с Диной, а отец с матерью остались в русском ресторане.
Целый час я не шелохнулась, губы у меня были стиснуты, а в груди какая-то тяжесть; я ни о чем не думала и не сознавала, что творится вокруг меня.
Тогда отец подошел ко мне, поцеловал в волосы, в руки, в лицо, потом завел лицемерные и трусливые жалобы и сказал:
– В день, когда тебе в самом деле понадобятся помощь и покровительство, скажи мне слово, и я протяну тебе руку.
Я собралась с последними силами и, напрягая горло, ответила:
– Этот день пришел, где ваша рука?
– Теперь тебе еще не нужна помощь, – поспешил он возразить.
– Нужна.
– Нет, нет.
И заговорил о другом.
– Представьте себе, сударь, что наступит такой день, когда у меня будет нужда в деньгах. <…> Я тогда пойду в певицы или буду давать уроки игры на рояле, но ничего у вас не попрошу.
Он не обиделся: с него было довольно, что он видит меня такой несчастной и что это для меня невыносимо.
Суббота, 25 ноября 1876 года
Мама так разболелась, что нечего и думать о том, чтобы везти ее в Версаль[67]67
В Версале заседала палата депутатов – нижняя палата парламента.
[Закрыть]. За нами заехали г-н и г-жа Мертенс. Я была, как всегда, в белом, но на голове черная бархатная шапочка, от которой волосы казались удивительно золотистыми. Шел дождь. Мы были уже в вагоне, как вдруг появляется какой-то еще молодой господин с орденом, такой француз с головы до пят, полунегодяй-полукавалер, на вид любезный, а на самом деле сухой, со всеми хорош, в душе груб и зол. Тщеславен и завистлив, остроумен и глуп.
– Позвольте, моя крошка, – сказала баронесса, – представить вам господина Жанвье де ла Мотта, одного из тех, кто возглавил наполеоновскую партию.
Я поклонилась; вокруг тем временем происходили другие знакомства. <…>
Этот депутатский поезд напомнил мне поезд охотников на голубей в Монако, только вместо ружей здесь были портфели. В зале господа де ла Мотт усадили нас в первом ряду справа, выше бонапартистов и как раз напротив республиканцев. Зал или, по крайней мере, кресло председателя и трибуна снова напомнили мне охоту на голубей. Только г-н Греви, вместо того чтобы дергать за бечевку, с помощью которой отворяются клетки, изо всех сил звонил в звонок, что не мешало правым несколько раз прерывать превосходную речь г-на Дюфора, министра юстиции. Это порядочный человек, он храбро и искусно боролся против подлостей республиканских собак[68]68
Имеется в виду борьба в палате депутатов партии бонапартистов с партией республиканцев. Жюль-Арман-Станислас Дюфор (1798–1881) – политический деятель, с 1870 г. министр юстиции, в 1876 г. премьер-министр; Жюль Греви (1807–1891) – политический деятель, в 1876 г. ставший членом палаты депутатов, которая избрала его своим председателем.
[Закрыть].
Воскресенье, 26 ноября 1876 года
Утром приехала Мертенс и сказала, что молодой де ла Мотт вчера в одиннадцать вечера приезжал к ней и сообщил, что влюблен в меня и что, показав меня ему, она сделала его несчастным. <…>
Я рассмотрела г-на де ла Мотта, и, к несчастью, этот осмотр ни в чем не изменил моего первоначального впечатления. К несчастью – потому что этот молодой человек занимает точно такое положение, о каком я мечтала, а я именно такая женщина, какую он искал.
Антипатии от нас не зависят.
Воскресенье, 27 ноября 1876 года
<…> Я получаю имя, положение и блестящие связи с первыми семействами Франции, а также выдающуюся карьеру. В обмен от меня требуются ум и деньги. Это коммерческая операция, дело вполне естественное, и, если бы человек не был мне настолько антипатичен, я бы согласилась. <…>
Понедельник, 28 ноября 1876 года
Мама возила меня к доктору Фовелю[69]69
Пьер-Шарль-Анри Фовель – выдающийся отоларинголог; написал диссертацию об использовании ларингоскопа.
[Закрыть], и означенный доктор осмотрел мне горло с помощью своего нового ларингоскопа; он объявил, что у меня катар, хронический ларингит и т. д. (я и не сомневаюсь: горло у меня в ужасном состоянии) и что мне требуется шесть недель энергичного лечения. А значит, мы проведем зиму в Париже – увы!
Но каков мой отец!
Сперва вынудил меня тратить деньги, пока я у него гостила; потом не оплатил моей поездки, а поскольку ему было стыдно, позвал дядю Александра, принялся его обнимать и уверять, что возместит мне расходы. Мог бы и не говорить: никто его не просил об этом. Наконец, отправил своего Кузьму сопровождать своих злополучных лошадей. Я оплатила дорогу, разочлась с Кузьмой. <…>
Господи Иисусе, что за человек мой отец… <…>
Пятница, 1 декабря 1876 года
Вчера в девять уехали из Парижа. Мама со своими тридцатью шестью свертками повергла меня в отчаяние. Крики, тревоги, коробки – все это так отвратительно буржуазно! Сколько можно?
Утром в Марселе мне просто худо стало, до того не хотелось возвращаться в Ниццу, она так прекрасна, а мне ничего не остается, как ее ненавидеть.
<…>
Я опять в моем голубом раю. Ах, какая жалость! <…>
Суббота, 2 декабря 1876 года
<…> Ну что ж, семейный круг и впрямь не лишен привлекательности. Играли в карты, смеялись, пили чай. И я почувствовала, до чего мне легко среди своих; окружили меня мои любимые собаки.
Виктор (у него такая огромная черная голова!), белоснежный Пинчо, Багатель, Пратер… Все они заглядывали мне в глаза, и тут я увидела стариков за картами, и этих собак, и эту столовую… О, как это все на меня давит, я задыхаюсь, я готова бежать куда глаза глядят, мне кажется, что меня заковывают в цепи, словно в кошмаре. Не могу!!! Я не создана для этой жизни, не могу! <…>
Мне так страшно оставаться в Ницце, что я с ума схожу. Мне кажется, что эта зима снова окажется потеряна и что я ничего не буду делать.
Меня лишают возможности работать! <…>
Быховец прислал мне огромную корзину цветов, и вечером мама полила ее, чтобы цветы не завяли… И такие пустяки выводят меня из равновесия.
Я в отчаянии от этой буржуазной мелочности!
Ах, боже милосердный, ради всего святого, уверяю вас, что я не шучу!
Вернулась из беседки; завораживающий лунный свет озаряет мои розы и магнолии.
Бедный сад, он всегда вызывал у меня только печальные мысли да жгучую досаду!
Вернулась к себе с мокрыми глазами и печальная, очень печальная.
Суббота, 3 декабря 1876 года
Вспоминая о Риме, еле владею собой… Но возвращаться туда, как прошлой зимой, не хочу… нет, нет, это было бы ужасно.
Поедем в Париж…
Ах, Рим! Почему мне нельзя его увидеть или взять да и умереть здесь! Задерживаю дыхание и вся вытягиваюсь, словно хочу дотянуться до Рима.
Воскресенье, 4 декабря 1876 года
<…> Всего-то и развлечений, что небо меняется. Вчера было чистое, и луна сверкала, как бледное солнце, а нынче вечером все затянулось черными рваными облаками, сквозь которые проглядывает светлое и яркое вчерашнее небо… Я сделала это наблюдение, идя по саду из беседки домой.
В Париже не бывает такого воздуха, зелени и напоенного ароматами дождя, как нынче ночью.
<…>
Четверг, 7 декабря 1876 года
Мелкие семейные дрязги лишают меня присутствия духа.
Погружаюсь в серьезные книги и с отчаянием вижу, до чего мало я знаю! Кажется, никогда мне всего этого не изучить. Завидую ученым людям, бледным, тощим, безобразным.
Лихорадочно хочу учиться, а направить меня некому.
<…>
Понедельник, 11 декабря 1876 года
С каждым днем все сильнее увлекаюсь живописью. Весь день не трогалась с места, занималась музыкой, это вскружило мне голову и растравило сердце. Пришла в себя только после того, как два часа поговорила с дедушкой о русской истории.
Ненавижу эту свою… чувствительность. Для молодой девушки в этом есть что-то… такое банальное!
Дедушка – ходячая энциклопедия. <…>
Я знаю человека, который меня любит, который меня понимает, жалеет, который употребит всю свою жизнь на то, чтобы сделать меня счастливой, который сделает для меня все и добьется успеха, который никогда меня больше не предаст, хотя раньше, бывало, предавал. Этот человек – я сама.
Не будем ничего ждать от людей, от них одни огорчения да разочарования.
Но будем твердо верить в Бога и в наши собственные силы. И право слово, раз уж мы так честолюбивы, подтвердим чем-нибудь наше честолюбие. <…>
1877
Пятница, 12 января 1877 года
Я появилась на свет 12 ноября, но моего рождения ожидали только 12 января, поэтому мой возраст считают с 12 января по старому стилю. Значит, через двенадцать дней мне будет восемнадцать лет…
<…>
Есть человек, чье имя я ношу, который дал мне жизнь, а кроме того, если бы не мама, я была бы уродлива и безобразна, как он, но этот человек мне не отец. Или тогда уже надо и Пратера считать отцом: он тоже производит на свет щенков… для собственного удовольствия.
<…>
Среда, 17 января 1877 года
Когда же я узнаю, что такое любовь, о которой столько говорят?
Я любила бы Одиффре, но он нанес нам такую обиду, что никакая любовь не выдержит.
Я любила бы Антонелли, но я его презираю.
Когда-то любила Борееля… в тринадцать лет.
В детстве я до умопомрачения любила герцога Гамильтона. Любовь, которая всем обязана состоянию, имени и экстравагантности герцога и… необъятному воображению.
<…>
В конце концов вечером был у меня приступ отчаяния, такой, что я не могла удержать стонов и утопила в море часы из столовой. Дина бежала за мной, боясь, что у меня недоброе на уме, но дело не пошло дальше часов. Они были бронзовые, с Полем без Виргинии[70]70
Поль и Виргиния – герои романа Бернардена де Сен-Пьера, живущие мирной жизнью на лоне природы.
[Закрыть], который удил рыбу, и на нем была очаровательная шляпа. Дина пришла ко мне, часы, по-видимому, сильно ее рассмешили, я тоже смеялась.
Вторник, 23 января 1877 года
Бедные часы! <…>
Я уродина.
Суббота, 10 февраля 1877 года
<…>
Лардерель на самом деле недурен собой, остроумен, хорошо воспитан, и есть в нем некая завершенность. А завершенность – это, что ни говорите, что-нибудь да значит. Можно быть завершенным, совершенным в любом возрасте, с этим надо родиться. <…>
Среда, 14 февраля 1877 года
<…>
С Лардерелем по крайней мере говоришь и видишь, что он понимает, что ему говорят.
<…>
Воскресенье, 18 февраля 1877 года
<…>
Я привязана к Лардерелю, как потерпевший кораблекрушение цепляется за соломинку.
<…>
Воскресенье, 25 февраля 1877 года
<…>
Лардерель! Я не знаю, люблю его или нет, – знаю, что мне грустно и что я жду его, как Мессию. <…>
Ах, Лардерель, если бы он приехал, я бы все забыла! Я у его ног, потому что он мне нравится, а кроме того, потому что я самое несчастное существо на свете, и кто меня поднимет с земли – будет слишком добр!
Ах, Лардерель! Я не хотела принимать его всерьез, я устала от трагедий, но я к нему привыкла.
<…>
Понедельник, 26 февраля 1877 года
Лардерель продолжает не приезжать, а я продолжаю свои редкие экскурсии. Ездили в Сан-Мартино. Это старинный монастырь.
Никогда не видела ничего привлекательнее. Музеи обычно замораживают, а тамошний веселит и манит. Древняя повозка синдика и галера Карла III вскружили мне голову. А эти коридоры с мозаичными полами и потолки с грандиозными карнизами! Церковь и часовни изумительны, их скромные размеры позволяют оценить детали.
Что за соединение блестящих мраморов, драгоценных камней, мозаики – в каждом углу, снизу доверху, от пола до потолка. По-моему, там не так уж много примечательных живописных полотен; разве что Гвидо Рени да Спаньолетто[71]71
Гвидо Рени (1575–1642) – итальянский художник; Хосе де Рибера, или Спаньолетто (1591–1652) – испанский художник.
[Закрыть]. Терпеливые творения фра Бонавентуры[72]72
Сенья ди Бонавентура (работал в 1298, умер в 1326/31) – итальянский художник сиенской школы.
[Закрыть]. Старинный фарфор Каподимонте[73]73
Фарфор, изготовленный в Каподимонте (предместье Неаполя) на знаменитой мануфактуре, основанной в 1743 г. королем Неаполя и Сицилии.
[Закрыть]. Портреты на шелке и картина на стекле, изображающая сцену с женой Потифара[74]74
Имеется в виду эпизод Ветхого Завета: Иосиф, раб египетского царедворца Потифара, был ложно обвинен женой хозяина и брошен в тюрьму.
[Закрыть]. Двор белого мрамора с шестьюдесятью колоннами редкостной красоты. <…>
Четверг, 8 марта 1877 года
<…> Мама говорила такие нелепости, что привела меня в ярость, перешедшую в пароксизмы гнева. Как будто мне больше не на кого злиться, она же сама не думает того, что говорит, просто говорит – и все, черт знает зачем. Ужаснее всего было то, что, по ее словам, мне бы лучше было принять предложение г-на Жанвье де ла Мотта, а когда я возразила, что у меня недостаточно денег и что он бы оставил мне тысяч десять франков в год, не больше, то она ответила, что на туалеты бы мне вполне хватило, я могла бы много выезжать в свет, принимать у себя и блистать.
Одного слова будет достаточно, чтобы объяснить вам, почему я онемела от нетерпения и ярости.
Сейчас я не замужем и езжу только в театр, а все равно трачу больше десяти тысяч.
Суббота, 31 марта 1877 года
<…>
Если я ему и нравилась когда-нибудь, за последние два дня он утратил все иллюзии. Я возмутительно неприятна.
Он больше не выглядит сумасбродом, он серьезен и приличен. Тем хуже, прежде он меня веселил, теперь чуть не до слез доводит.
<…>
Лучше всего было бы послезавтра уехать. Пока мне еще нечего забывать…
Карты все время говорят «нет».
К чему сетовать? Слезы не помогут. Я приговорена быть несчастной. С этим покончено, остается еще слава артистки или художницы – если я и здесь ничего не добьюсь, то, будьте уверены, я не стану жить, обрастая мхом и гордясь домашними добродетелями.
Не хочу больше говорить о любви, потому что затаскала эти слова по пустякам. Не хочу взывать к Богу, хочу умереть.
Господи Боже мой Иисусе Христе, дай мне умереть! Я мало жила, но превзошла большую науку: все оборачивалось против меня. Хочу умереть.
Я бессвязна и беспорядочна, как эти записи. Я ненавижу себя, как ненавижу всякое убожество.
Умереть… Господи! Умереть! С меня довольно! Я не люблю Лардереля, но это еще одно горе, еще один стыд, еще одно не знаю что.
Умереть потихоньку, напевая какой-нибудь красивый мотив из Верди; во мне нет ни следа прежней злости: раньше я хотела жить назло, чтобы не доставить другим радости и торжества. Теперь мне все равно, я слишком страдаю. Зачем он мне написал!
Вторник, 8 мая 1877 года
<…> Хотите знать правду? Извольте, но запомните хорошенько то, что я вам сейчас скажу.
Я никого не люблю и не полюблю никого, кроме человека, который будет льстить моему самолюбию… моему тщеславию. <…>
Когда знаешь, что тебя любят, – все делаешь ради другого человека, и тебе не стыдно; наоборот, чувствуешь себя героиней. Я твердо знаю, что ничего не стану просить для себя, но ради другого я пойду на сотни унижений, потому что такие унижения возвышают. Этим я опять-таки хочу доказать вам, что лучшие поступки совершаются из эгоизма… Просить за себя было бы для меня подвигом, потому что стоило бы мне таких усилий!.. Подумать об этом – и то дрожь берет! Но если просишь за другого, то самой себе доставляешь удовольствие, да еще и выглядишь словно воплощение самоотверженности, преданности, милосердия.
И сама в эту минуту ставишь себе свой поступок в заслугу. Простодушно веришь, будто ты и в самом деле милосердна, самоотверженна, возвышенна! <…>
Среда, 16 мая 1877 года
<…> Меня угнетает мысль, что дневник мой будет неинтересен, что я не могу придать ему занимательности, готовя читателю сюрпризы. Если бы я писала с перерывами, тогда еще, может быть… Но эти ежедневные записи возбудят внимание разве что какого-нибудь мыслителя, какого-нибудь великого исследователя человеческой природы… У кого недостанет терпения прочесть все, тот вообще ничего не прочтет, а главное, ничего не поймет. <…>
Среда, 23 мая 1877 года
<…> О, как подумаю, что живем мы один раз и каждая минута приближает нас к смерти, впору с ума сойти! Не боюсь смерти, но жизнь так коротка, что транжирить ее подло!!!
Четверг, 24 мая 1877 года
Пары глаз слишком мало, прямо хоть не делай ничего. Меня страшно утомляют чтение и рисование, а вечером, когда я пишу эти несчастные строчки, мне хочется спать. Ах, молодость, прекрасная пора! С каким блаженством я буду вспоминать эти дни, заполненные учением, искусством! Если бы заниматься этим круглый год, а не в случайные дни или, если повезет, недели… Натуры, которым столько дал Бог, растрачивают себя в бездействии… Пытаюсь успокоить себя мыслями о том, что нынче зимой уже наверняка примусь за труд. Но я краснею до слез при мысли, что мне уже девятнадцать, почти девятнадцать, а что я сделала? Ничего. Меня это убивает. Ищу среди знаменитых людей тех, кто поздно начал, – для собственного утешения; да, но для мужчины девятнадцать лет – пустяки, а для женщины это все равно что для мужчины двадцать три. <…>
Вторник, 29 мая 1877 года
<…>
Чем ближе к старости моя молодость, тем я становлюсь равнодушнее. Меня мало что волнует, а раньше волновало все; перечитывая свое прошлое, придаю чересчур много значения мелочам, потому что вижу, как они будоражили меня в свое время. Доверчивость и восприимчивость – подшерсток моего характера – быстро исчезли. Мне жаль свежести ощущений, тем более что она уже не вернется. Становишься спокойнее, но уже и радости прежней нет. Пожалуй, разочарование пришло ко мне слишком быстро. Если бы не оно, из меня бы вышло что-нибудь сверхъестественное, я чувствую. <…>
Среда, 30 мая 1877 года
<…>
Меня неприятно поражает собственная умудренность, но делать нечего, и когда я к этому привыкну, начну думать, что так и должно быть, и вновь поднимусь к той идеальной чистоте, которая всегда сохраняется где-нибудь в глубине души; более того, я стану спокойнее, горделивее, счастливее, потому что научусь ценить это свойство, а теперь я злюсь, словно не на себя, а на кого-то другого. Оказывается, та женщина, которая пишет, и та, которую я описываю, – разные существа. Какое дело мне до этих нравственных терзаний? Я отмечаю, анализирую, снимаю копию с повседневной жизни собственной персоны, но мне, мне самой, все это совершенно безразлично. Моя гордость, мое самолюбие, мои интересы, моя кожа, мои глаза страдают, плачут, радуются, но я только слежу, пишу, рассказываю и хладнокровно рассуждаю обо всех этих горестях – так, должно быть, Гулливер смотрел на своих лилипутов…
Многое еще хотелось бы сказать в свое оправдание, но довольно!
Понедельник, 11 июня 1877 года
<…> Вчера вечером, покуда играли в карты, я сделала набросок при свете двух свечей, пламя которых чересчур колебалось от сквозняка, а сегодня утром перенесла набросок наших картежников на полотно. <…> Дух захватывает, до чего хочу написать четыре сидящие фигуры и передать положение рук и выражение лиц. Я до сих пор делала только отдельно головы, большие и маленькие, и довольствовалась тем, что усеивала ими полотно, как цветами.
<…>
Четверг, 21 июня 1877 года
<…>
Вот я и в Париже у г-жи Мертенс. Она так заботлива и предупредительна, что мне почти совестно. <…>
Пятница, 22 июня 1877 года
Началась кошмарная беготня по магазинам – но без нее нельзя. Если оставаться в Париже, надо полностью менять гардероб.
<…>
Мы были у доктора Фовеля, он шлет меня на две недели на лечение в Энгиен. Я послушаюсь, но… С таким ужасом взираю на свою болезнь, что предписанное доктором лечение кажется мне сущей безделицей и я не верю, что скоро выздоровею.
<…>
Болтаться в подвешенном состоянии, носиться по магазинам за платьями, шляпками и т. д., не знать, чем я буду заниматься, – вот мучение, которое забыл описать Данте.
Суббота, 23 июня 1877 года
<…>
Наиблагороднейший из всех Жоржей приходил сегодня вечером пьяный… в таком виде!
Его красотка дала ему отставку – в двадцать пятый или тридцатый раз за последние семь лет. Отсюда и отчаяние.
<…>
Воскресенье, 24 июня 1877 года
Начала лечение в Энгиене. <…>
Наконец, впервые в жизни, может быть, я где-то оказалась с какой-то целью. Не надо терзаться, зачем я сижу в Париже, Неаполе, во Флоренции и т. д. Я в Париже ради моего голоса.
<…>
Суббота, 30 июня 1877 года
<…> Давно знаю, что нет ничего на свете прекраснее моего тела, и настоящий грех и преступление – не ваять и не писать его. Такая красота не должна принадлежать одному человеку, это как музей, который открыт для всех. <…>
Суббота, 7 июля 1877 года
<…> Пожалуй, я с достаточным основанием могу сказать, что стала – совсем, правда, недавно – куда рассудительнее и многое видится мне теперь в более или менее правильном свете, а также что я избавилась от многих иллюзий и многих огорчений. <…>
Вторник, 10 июля 1877 года
Жоржу грозит тюрьма, об этом сообщат послу. <…> Мы заплатили его проклятые долги и отправили с глаз долой. <…>
Воскресенье, 15 июля 1877 года
Вчера начала рисовать, моя походная мастерская готова.
<…>
Скучаю до смерти. Так скучаю, что кажется, ничто на свете не может меня ни развеселить, ни увлечь. Ничего не желаю, ничего не хочу! Нет, я очень бы хотела не стыдиться своего полного отупения. Одним словом, чтобы можно было ничего не делать, ни о чем не думать, жить, как трава, не испытывая угрызений совести.
Провел у нас вечер Блан[75]75
Александр Блан – морской офицер, друг П. де Кассаньяка.
[Закрыть], мы беседовали. Такие беседы внушают мне отвращение с тех пор, как я прочла у г-жи де Сталь о том, как иностранцы подражают французскому остроумию. Послушать ее, так ничего не остается, кроме как забиться в норку и никогда не отваживаться на соприкосновение с возвышенным французским гением.
Чтение, рисование, музыка, но скука, скука, скука! Кроме этих занятий и развлечений, нужно же что-то живое, вот мне и скучно. Я не потому скучаю, что я девица на выданье, нет, если вы так полагаете, вы обо мне слишком хорошего мнения. Я скучаю потому, что вся моя жизнь идет вкривь и вкось, и потому, что мне скучно!
Париж меня убивает! Это кафе, превосходная гостиница, базар. Понадеемся хотя бы, что зимой буду ездить в Оперу, в Булонский лес, на занятия.
Я никого не знаю!
<…>
Вторник, 17 июля 1877 года
(одиннадцать утра)
Нет! Не могу оставаться в Париже. <…>
Зачем оставаться в Париже, если все влечет меня в Италию? <…>
А живопись моя! В Италии искусство разлито в воздухе.
<…>
Вторник, 7 августа 1877 года
<…>
Умереть, господи, умереть!
Умереть… и ничего после себя не оставить? Умереть, как собака, как умерли сто тысяч женщин, чьи имена едва можно разобрать на их могилах?
Умереть, как…
Безумная! Безумная, как же я не понимаю воли Божьей! Богу угодно, чтобы я отказалась от всего и посвятила себя искусству! Через пять лет я буду еще совсем молода, может быть, буду и хороша собой, не утрачу своей красоты… Но вдруг я стану всего лишь посредственностью, каких много? Для светской дамы и это недурно, но посвятить искусству всю жизнь и ничего не добиться…
В Париже, как и всюду, есть русская колония! Меня бесят не сами по себе эти пошлые соображения, а то, что, при всей их пошлости, они обескураживают меня и мешают мечтать о взлете.
Что такое жизнь без среды, что делать, когда ты всегда одна, одна, одна? Это вызывает у меня ненависть к семье, к себе самой, я готова богохульствовать! Жить, жить, жить! Святая Мария, Матерь Божья, Господи Иисусе, Боже мой, придите мне на помощь!
<…>
Но если я всем пожертвую ради искусства, надо ехать в Италию. Да, в Рим, а это невозможно.
Ох эта гранитная стена, о которую я все время расшибаю себе лоб!
Никуда не уеду.
<…>
Пятница, 17 августа 1877 года
<…> Живопись меня бесит! Потому что я могла бы творить чудеса, а с учением мне повезло меньше, чем любой девчонке, у которой заметили способности да и послали ее в школу. Ладно же, надеюсь, по крайней мере, что потомство – вне себя от ярости, что лишилось моих несозданных шедевров, – обезглавит всю мою семью.
Вы полагаете, что мне по-прежнему хочется выезжать в свет? Нет, уже нет. Я озлобилась, я в досаде и ухожу в художники, как недовольные уходят в республиканцы.
Думаю, что клевещу на себя.
Суббота, 18 августа 1877 года
<…>
Читала Гомера и сравнивала тетю, когда она сердится, с Гекубой во время пожара Трои. Как я ни отупела и как ни стыдно признаваться в восхищении классиками, а все-таки никто, по-моему, не избежит преклонения перед древними. Конечно, претит вечно повторять одно и то же, конечно, опасаешься прослыть копиисткой профессиональных любителей старины или подголоском учителей, тем более здесь, в Париже, но рассуждать об этом сама не осмеливаешься, просто не осмеливаешься. Между тем ни одна современная драма, ни один роман, ни одна нашумевшая пьеса, принадлежащие перу Дюма или Жорж Санд, не оставили во мне такого ясного воспоминания и такого глубокого, естественного впечатления, как описание взятия Трои. Мне чудится, что я сама была при этих ужасах, слышала крики, видела пожар, была с семьей Приама, с несчастными, которые прятались за алтарями своих богов, а зловещие отсветы пламени, пожиравшего их город, высвечивали их и выдавали врагам…
А кто не вздрогнет, читая, как является призрак Креусы?[76]76
Креуса – дочь Приама и Гекубы, жена Энея, героя поэмы римского поэта Вергилия «Энеида»; при бегстве из Трои она была разлучена с мужем, а затем явилась ему в виде призрака и предсказала дальнейшую судьбу.
[Закрыть]
Но когда я читаю о Гекторе, спустившемся с крепостной стены с самыми лучшими намерениями, как он удирает от Ахилла и трижды обегает город, а тот гонится за ним следом… Смешно!
А герой, который обвязал ремнем ноги мертвого врага и сто раз тащит его вокруг тех же стен! Воображаю себе этакого страхолюдного мальчишку, который скачет на палочке верхом и с огромной деревянной саблей на боку…
Не знаю… Но мне кажется, что утолить самые свои беспредельные мечты я бы могла только в Риме.
Там ты словно на вершине мира. Бросила к чертям «Дневник дипломата в Италии»: от этой французской элегантности, вежливости, расхожего восхищения чувствую себя оскорбленной за Рим. Мне все кажется, будто француз препарирует все, о чем пишет, при помощи длинного ланцета, который элегантно зажал двумя пальчиками, нацепив на нос лорнет.
Рим как город – это, наверное, то, чем я воображала стать как женщина. В применении к нам обоим каждое преждевременное или неточное слово – кощунство. К нам? Нет, потому что я ничто и уже ничего не смею.
Воскресенье, 19 августа 1877 года
<…>
Только что прочла «Ариадну» Уиды[77]77
Уида – псевдоним английской писательницы Луизы де ла Раме, перу которой принадлежит роман «Ариадна» (1877).
[Закрыть]. Эта книга меня опечалила, и все-таки я почти завидую участи Джойи.
Джойя была воспитана на Гомере и Вергилии; умирает ее отец, и она пешком приходит в Рим. Там ее ждет жестокое разочарование, ведь она ожидала увидеть Рим времен Августа.
Два года она учится в мастерской Марикса, самого известного из современных скульпторов, который любит ее, сам того не сознавая. Но она ничего не замечает, кроме своего искусства, пока не появляется Илларион, поэт, который заставил целый свет плакать над своими стихами, а сам издевается надо всем: он миллионер, прекрасный, как бог, и всеми обожаемый. Марикс молча ее обожает, а тем временем Илларион из прихоти внушает ей любовь к себе. <…> Потом он ее полюбил, но она умерла.
Этот конец меня огорчил, а между тем я бы тут же согласилась на судьбу Джойи. Сперва она обожала Рим; потом она всей душой полюбила Иллариона. Она оказалась покинута, но покинута им, она страдала, но страдала из-за него. И не понимаю, как можно чувствовать себя несчастной, если все беды твои, какими бы они ни были, исходят от любимого человека… и если любить так, как она и как любила бы я, если когда-нибудь я полюблю!
Она никогда не узнала, что он сблизился с ней из прихоти.
– Он любил меня, – говорила она, – а я не смогла его удержать.
Она прославилась. Ее имя твердили с восхищением, к которому примешивалось изумление. Она никогда не переставала его любить, для нее он никогда не опустился до уровня других мужчин, она всегда верила в его совершенство, чуть ли не бессмертие, она не хотела умереть, «потому что он жив». «Как можно покончить самоубийством, когда любимый человек живет на свете?» – говорила она.
А умерла она у него на руках, слыша, как он твердит: «Я люблю вас». <…>
Четверг, 23 августа 1877 года
<…>
Скоро мне восемнадцать. С точки зрения тридцатипятилетних женщин, это мало, но для меня много: пожив барышней несколько месяцев, я испытала мало радостей, зато много неприятных забот. <…>
Искусство! Если бы вдали не маячило это магическое слово, я бы уже умерла. Но для этого никто не нужен, зависишь только от себя, и если потерпишь крах, значит ты ничтожество и недостоин жить. Искусство! Я представляю его как огромное зарево там, вдали, и я забываю все прочее и иду вперед, не отводя глаз от этого зарева… Теперь – нет, Господи, не теперь, не нужно меня пугать! У меня ужасное предчувствие, оно говорит, что… Нет, не стану писать, не хочу сама на себя накликать несчастье! Господи… Что ж, попробую, мне уже многовато лет, чтобы начинать, особенно для женщины. Попробуем, а если… Тогда уж все равно ничего не поделаешь… и… да будет на все воля Божья! <…>
Благодаря привычке возить с собой «уйму ненужных вещей» я спустя какой-нибудь час всюду устраиваюсь почти как дома: несессер, тетради, мандолина, несколько славных толстых книжек, моя канцелярия и портреты. Вот и все! И любой гостиничный номер благодаря всему этому делается вполне приличным пристанищем. Но больше всего я люблю мои четыре толстых красных словаря, толстого зеленого Тита Ливия, маленького Данте, среднего Ламартина и свой портрет кабинетного размера маслом, в ярко-синей бархатной раме и в кожаном футляре, привезенном из России. С ними мое бюро сразу начинает выглядеть элегантно, а две свечи, озаряющие все эти теплые и приятные глазу тона, почти примиряют меня с Германией. <…>
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.