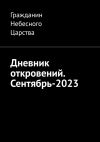Текст книги "Если бы я была королевой… Дневник"

Автор книги: Мария Башкирцева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
1879
Четверг, 2 января 1879 года
Завидую тем, кто может свободно гулять в одиночестве, уходить, приходить, садиться на скамейки в саду Тюильри, а особенно – в Люксембургском, останавливаться перед витринами художественных лавок, заглядывать в церкви, в музеи, бродить вечерами по старым улочкам; вот что вызывает у меня зависть: без этого ведь невозможно сделаться настоящим художником. Как по-вашему, пойдет ли впрок увиденное, если всюду ходишь с сопровождением, если для того, чтобы съездить в Лувр, приходится ждать карету, компаньонку или родных? Ах, к чертям собачьим, до чего же меня бесит, что я женщина! Обзаведусь респектабельными одежками, париком, превращу себя в такую уродину, чтобы сделаться свободной, как мужчина. Вот этой-то свободы мне и недостает, а без нее невозможно всерьез чего-нибудь добиться. Эта дурацкая, раздражающая скованность сказывается и на работе мысли; как бы я ни перерядилась, как бы себя ни обезобразила, все равно я буду свободна лишь наполовину: для женщины бродить одной – опрометчиво. А в Италии, а в Риме? Осматривать руины, сидя в ландо, – не угодно ли?
– Ты куда, Мари?
– Посмотреть Колизей.
– Но ты же его уже видела! Поехали лучше в театр или на гулянье, там будет толпа народу.
Руки опускаются.
Этим в большой степени объясняется, почему среди женщин нет художников. Беспросветное невежество! Дикарская косность! Да что об этом и толковать!
А если все-таки выскажешь здравое соображение – подвергнешь себя граду пошлых и расхожих насмешек, которые всегда обрушиваются на заступников женщин. Впрочем, по-моему, насмешники правы. Женщины – это только женщины, ими и останутся навсегда! Но тем не менее… Если бы их воспитывали так же, как мужчин, тогда неравноправие, о котором я так сокрушаюсь, исчезло бы и осталось бы только то неравенство, которое коренится в самой природе. К сожалению, сегодня, во всяком случае, нет другого способа, кроме как кричать и делаться всеобщим посмешищем (я предоставляю эту участь другим), ради того чтобы лет этак через сто добиться в обществе равных прав.
А я постараюсь способствовать этому, доказав, что женщина может кое-чего достичь, несмотря на все препятствия, какие ставит перед нею общество.
<…>
Пятница, 10 января 1879 года
Вечером пришел в мастерскую Р[обер]-Флёри.
Скучаю до смерти. Мы обедаем и завтракаем в Английском кафе, там хорошо кормят; из кабачков в этом роде оно лучшее.
Бонапартистские газеты, в том числе и «Ле Пеи», пишут по поводу выборов такие глупости, что мне прямо стыдно за них, точно так же как вчера было стыдно за Массне[131]131
Жюль Массне (1842–1912) – французский композитор, автор лирических опер «Манон», «Вертер» и других.
[Закрыть], когда его «Заклинание» исполняли на бис и во второй раз оно прозвучало уже хуже.
Кассаньяк теперь виден мне во всем своем великолепии – пустозвон, хвастун, то и дело перепевающий сам себя, что-то вроде неудавшегося д'Артаньяна. <…>
Если живопись не принесет мне быстрой славы, я наложу на себя руки, и дело с концом. Вот уже несколько месяцев, как это решено… Я еще в России хотела покончить с жизнью, но боялась ада. Убью себя в тридцать лет, потому что до тридцати мы еще молоды и можем надеяться на удачу, или на счастье, или на славу, да мало ли еще на что. Итак, с этим улажено, и если я буду благоразумна, то перестану себя терзать, и не только нынче вечером, но и вообще.
Я говорю вполне серьезно, и я в самом деле довольна, что во всем разобралась. <…>
Суббота, 11 января 1879 года
И даже живопись! Бреслау знакома с людьми искусства, знает больших художников, бывает у них в мастерских – а я! В мастерской воображают, что я много выезжаю в свет и обладаю всеми мыслимыми связями; это, так же как и мое богатство, отделяет меня от других и мешает просить их о чем бы то ни было, как это принято у них между собой: пойти вместе к какому-нибудь художнику, посетить чью-нибудь мастерскую. Сами видите, в каком я жалком положении.
<…>
Честно работала всю неделю, до самой субботы, до десяти вечера, потом вернулась домой, села и заплакала. До сих пор я всегда обращалась к Богу, но Он меня не слышит, и я уже… почти не верю в Него. Только те, кто испытал это чувство, поймут, как оно ужасно. <…>
Есть Бог или нет Его, нужно в Него безраздельно верить – или быть счастливой, тогда можно обойтись и без веры. Но в горе, в беде, да и просто под бременем неприятностей лучше умереть, чем утратить веру. Бог – это выдумка, спасающая нас от полного отчаяния.
<…>
Понедельник, 13 января 1879 года – Русский Новый год
Ну, я, по обыкновению, предаюсь безумному веселью… Все воскресенье провела в театре. Утром в «Гёте», это было довольно-таки уныло, а вечером в «Опера-комик». <…>
Потом всю ночь мылась, писала, читала, валялась на полу, пила чай. Сейчас четверть шестого; выходит, что в мастерскую поеду рано, вечером буду клевать носом, а на другой день встану пораньше, и дело пойдет. Не думайте, что я обожаю развлечения: я сама у себя вызываю глубокое отвращение и непритворный ужас. Ну, все равно; зато Новый год я встретила оригинально, на полу, вместе с моими собаками…
И весь день работала.
<…>
Вторник, 14 января 1879 года
После бессонной ночи проспала до половины двенадцатого. Сегодня утром все три мэтра – Лефевр, Р[обер]-Флёри и Буланже – подвели итоги конкурса. Я приехала в мастерскую только в час и узнала превосходную новость. На сей раз в соревновании участвовали старшие, и едва я вошла, как услышала:
– Ну, мадемуазель Мари, идите, получайте медаль!
И впрямь – рисунок мой был булавкой прикреплен к стене, и на нем красовалось слово «премия». На сей раз я скорей готова была к тому, что мне камень на голову свалится, чем к такому сюрпризу. <…>
– Это сделано мужской рукой, – сказали про мою работу. – Здесь есть нерв, схвачена природа.
– Говорил я тебе, – заметил Лефевру Робер-Флёри, – что она у нас бойкая девица.
– Вы получили медаль, мадемуазель, – сказал мне Жюлиан, – и это настоящий успех: жюри ничуть не колебалось.
Я распорядилась, чтобы принесли пунш, как принято внизу; мы пригласили Жюлиана. Меня поздравляли: многие ведь воображают, что честолюбие мое утолено и что теперь они от меня избавятся. На позапрошлом конкурсе Вик получила медаль, а теперь она на восьмом месте; но я ее утешаю, повторяя ей вполне справедливые слова Александра Дюма, которые в конечном счете совершенно исчерпывающим образом отражают положение дел: «Дурная пьеса не служит доказательством отсутствия таланта, между тем пьеса хорошая доказывает его наличие». Гений может написать дурную картину, но бездарность не может написать хорошую. <…>
Среда, 29 января 1879 года
Весь день думаю о синем море, о белых парусах, о небе, полном света…
Вернувшись из мастерской, застаю дома Потехина. Этот старый гриб сообщает, что через неделю едет в Рим; в разговоре упоминает Катарбинского, моего учителя, и других… И я млею, представляя себе солнце, древние мраморы в зелени, руины, статуи, церкви. Кампанья! Пустыня – но я эту пустыню люблю. И, благодарение Богу, есть еще люди, которые обожают ее так же, как я. Божественное искусство, разлитое в воздухе; свет, о котором не могу вспомнить без слез ярости, – почему я здесь, а не там. Я знаю тамошних художников!
Есть три сорта людей. Первые любят все это, они художники, они не считают, будто Кампанья – ужасная пустыня, где зимой холодно, а летом невыносимо. Вторые, которые не понимают искусства и не чувствуют красоты, но не смеют в этом признаться, стараются походить на первых. Эти не внушают мне особой неприязни: они сознают свою наготу и желают ее прикрыть. Третьи такие же, как вторые, но не чувствуют своей ущербности. Их я ненавижу, потому что они все хулят и на всех наводят оцепенение. Сами ничего не чувствуют и не понимают, но уверяют, что все это глупости, и при всем честном народе коснеют в своей злобе, гадкие и отвратительные.
А здесь… здесь Париж.
<…>
Пятница, 21 февраля 1879 года
Ну вот я и в Ницце! Захотелось принять воздушную ванну, окунуться в солнечный свет и слушать шум волн. Вы любите море? Я от него без ума, забываю о нем только в Риме… временами.
Мы приехали с Полем… Нас принимали за супружескую чету, что меня крайне задевало. Мы поехали в отель «Парк», потому что наша вилла была сдана, старая наша вилла «Аква-Вива», где мы жили восемь лет назад. Восемь лет!
<…>
Дина, как всегда, вульгарна, и все очень по-мещански… это меня немного подкашивает, но зато ночь стоит прекрасная, удираю и до десяти вечера гуляю одна; брожу по берегу моря и пою под аккомпанемент волн.
Вокруг ни души, и до того хорошо, особенно после Парижа! Ох, Париж!
<…>
Суббота, 22 февраля 1879 года
Какая разница с Парижем! Здесь я просыпаюсь сама, окна всю ночь отворены. Живу в той комнате, где когда-то брала уроки у Бенса. Вижу солнце, как оно понемногу освещает деревья у пруда посреди сада, – все как тогда. В моей маленькой классной комнате те же обои, я их сама выбирала. Теперь ее, наверно, занимает какой-нибудь дикарь-англичанин… Я узнала эту комнатку только по обоям, потому что к ней пристроили коридор, который сбивает меня с толку. <…>
Понедельник, 24 февраля 1879 года
<…> Я счастлива, когда могу гулять одна. Волны неописуемо красивы. Перед концертом Патти я пошла их послушать. Накрапывал дождик, воздух был мягкий и свежий. Насыщенная синева неба и моря радует глаза. Я до того догулялась, что не заметила, что море смыло кусок мостков, и упала в воду, там был метр или два глубины. <…>
Понедельник, 3 марта 1879 года
Уезжала вчера в полдень, погода стояла великолепная, и я чуть не заплакала настоящими слезами, покидая этот прелестный и несравненный край. Из моего окна видны сад, Английский бульвар, парижские щеголи и щеголихи. Из коридора я видела Французскую улицу, с ее ветхими итальянскими домишками, переулочками с такой живописной светотенью. И все-то меня здесь знают! Иду и слышу то и дело: «Это мадемуазель Мари». <…> В свое время я здесь настрадалась из-за людей, а вот улицы и дома я люблю. Что ни говори, а это мои места. Но надо мною тяготеет рок – уезжать отовсюду. Мне теперь хотелось бы уехать из Парижа, в голове у меня сумятица, чувствую себя какой-то потерянной. Ничего больше не жду, ни на что не надеюсь. Я отчаялась, смирилась с судьбой. Все думаю, думаю, ищу выхода и, ничего не находя, испускаю вздохи, от которых делается еще тошнее. Ну а что бы вы делали на моем месте?
Ни проблеска! И потом… это звучит некрасиво и неприятно, но молодость моя прошла – та молодость, когда девушке положено танцевать и веселиться. Мне двадцать лет. С восемнадцати до двадцати – два года. И ужас в том, что каждый вечер я возвращаюсь к этой тетради и каждый вечер никаких перемен, только еще один день прошел. И вот, чтобы удержать слезы, я делаю глубокий вдох, как актрисы, изображающие великое волнение, и все это бессмысленно и сплошная тоска. <…>
Среда, 5 марта 1879 года
<…>
С завтрашнего дня принимаюсь за работу. Даю себе еще год. Этот год буду работать еще усердней, чем прежде. Что толку отчаиваться? Да, но так говорят обычно те, кто уже начал исцеляться, а вот пока отчаяние еще тебя не отпускает… <…> Что ж, мой ангел, отчаяние никакой пользы не принесет, и, раз уж все равно ничего не поделаешь, надо работать. Разочароваться я всегда успею. Раз уж приходится, в надежде на перемену участи, влачить эту жизнь, заполним ее чем-нибудь.
Я не могу придумать, как от нее избавиться, а значит, не все ли равно – читать или рисовать? Пожалуй, такие рассуждения звучат странно для человека, который уговаривает себя приняться за работу, не так ли? Я даже не могу сказать «тем хуже»! Беда в том, что я боюсь, как бы не пришлось потом себя ругать: «Если бы, вместо того чтобы остаться в мастерской, ты подумала о себе, то, может быть, выход бы нашелся»…
Да мало ли что может быть! Вероятно, что-то можно сделать, да я не знаю что. Видите ли, как это ни мучительно, но я все время возвращаюсь к мысли, как бы привезти сюда Башкирцева… Да, как же! Знаете, чем он занимается? Обновляет дом к нашему приезду. Нет уж, спасибо! Я там была, с меня довольно. Маменьки мои ни на что не годны, а я, хоть это с моей стороны и низость, не в силах их понукать, да и потом, это бы ни к чему не привело. <…> Выход обычно находится, когда перестаешь искать. Как бы то ни было, живопись мне не повредит. Беда, что мне ни в чем не помогают – наоборот… Ну давай, давай, мой ангел, ищи себе оправданий, чтобы скрыть собственную глупость! Меня смущают истории такого рода: «И тогда она, с теткой, или с дочерью, или с матерью, принялась то и другое, и в конце концов их все стали принимать и тому подобное». Романы! Сказки! Ох, вы только подумайте! Пишу, думаю, изобретаю, мечтаю! А остановлюсь – и все то же безмолвие, все то же одиночество, все та же комната. Неподвижность мебели – словно вызов мне, словно издевка! Я здесь борюсь, окруженная всем этим кошмаром, – а другие в это время живут!!!
Слава? Какого черта! Выйду-ка я замуж за кого попало и стану жить, как все люди… К чему оттягивать эту развязку? Чего я жду? Г-жа Гавини[132]132
Анна-Аделаида-Шарлотта де Реймон, в замужестве Гавини, – близкий друг семьи Башкирцевых.
[Закрыть] в две недели выдаст меня замуж за виконта или маркиза с рентой в шесть тысяч, который введет меня в любое общество. Стоит отказаться от живописи – и путь открыт. Тогда… надо ехать в Италию и там выйти замуж. Не в России же: если купить себе русского мужа, это будет ужас. Впрочем, в России мне выйти замуж было бы легко, особенно в провинции, но я не настолько глупа! В Петербурге? Что ж, захоти отец, он бы мог, наверное, устроить, чтобы мы провели зиму в Петербурге. <…>
Значит, нынешней зимой – в Петербург! Не думаю, что так уж люблю искусство: для меня это было средство, теперь я от него откажусь… В самом деле? Ох, ничего я не знаю… Попробовать еще год? Тот срок, на который мы сняли эту квартиру? To be or not to be?[133]133
«Быть или не быть?» – цитата из «Гамлета» У. Шекспира (англ.).
[Закрыть]
Года мне мало… Зато через год будет видно, стоит ли продолжать… Вот брошу я живопись, приеду в Италию, услышу там о каких-нибудь молодых художницах и начну злиться и жалеть; а каково мне будет всякий раз, когда в Неаполе или в Петербурге при мне начнут хвалить чей-нибудь талант? И потом, мне ведь уже не на что будет рассчитывать, кроме красоты. Ну а если я не добьюсь успеха? Ведь просто нравиться людям – этого мало; нужно нравиться тому, кому хочешь.
<…>
Воскресенье, 9 марта 1879 года
Знаете, писать – это большое утешение. Бывают вещи, которые бы вас доконали, если бы вы не запечатлели их для грядущего читателя и тем самым не поделились ими с бесконечностью.
А еще, знаете, я не помню, чтобы мне когда-нибудь удалось получить сто франков без трагедий. Каждый раз, когда мне надо заплатить в мастерской, мне приходится вступать в более или менее оживленные диалоги. У нас платят по счетам, потому что с торговцами не поспоришь, но когда я прошу денег… Странные дамы: они часто подбивают меня на покупку совершенно мне ненужной шляпки… <…> а когда я прошу триста франков заплатить Жюлиану за три месяца мастерской, мне чинят массу препятствий, словно надеются избежать платежа.
Знаете, это совершенно убийственное существование.
<…>
Я рада, что, оказывается, такой человек, как Дюма, придает значение качеству бумаги, чернил, перьев. Потому что всякий раз, когда какие-нибудь мелочи мешают мне работать, я себе говорю, что это просто лень и что у великих художников не бывает причуд… Погодите… Я понимаю, что Рафаэль в порыве вдохновения может на днище бочки изобразить свою «Мадонну в кресле». И все-таки мне кажется, что этот самый Рафаэль, чтобы написать и завершить эту самую картину, воспользовался всеми своими любимыми кистями, а если бы его заставляли работать в том месте, которое ему не по душе, он бы нервничал так же, как я, простая смертная, в мастерской Жюлиана.
<…>
Воскресенье, 16 марта 1879 года
Умер Коко[134]134
Коко – один из двух щенков от Пинчо.
[Закрыть], попал под повозку перед самым домом.
Мне сказали об этом, когда я стала звать его обедать. По сравнению с горем от потери первого Пинчо, которого мне заменяет нынешняя Пинча, теперь я уже не так убиваюсь… Но если был у вас пес, который родился в вашем доме, молодой, глупый, игривый, добрый, славный, который прыгал бы вам на грудь и глядел на вас тревожными, непонимающими глазами, совсем по-детски, – вы поймете, как меня огорчила эта утрата.
Куда попадают души собак?
Бедняга он, бедняга: маленький, длинный, белый, облезлый, на заду и на лопатках – сплошные проплешины, одно огромное ухо вечно поднято, другое болтается; словом, мне в десять раз дороже такое страшилище, чем кошмарные дорогие мопсы.
Он был похож на апокалипсического зверя или на химеру на соборе Парижской Богоматери.
<…>
Пинча как будто не заметила, что ее сына убили; правда, она снова ждет щенков. Их всех будут звать Коко или Коклико. По-моему, считается, что у собак нет души.
Но почему?
Вторник, 1 апреля 1879 года
<…> С какой стати веселье должно быть приятнее, чем тоска? Нужно только внушить себе, что от скуки мне весело, что она меня развлекает. Весьма полезная реминисценция из «Руководства» Эпиктета[135]135
Эпиктет (ок. 55 – ок. 135) – древнегреческий философ-стоик, уроженец Фригии. Подлинное имя философа неизвестно (греч. Эпиктет – «купленный»). Учение Эпиктета известно благодаря записям его ученика Арриана «Беседы» (в 4 книгах) и «Руководство».
[Закрыть]; однако я могла бы возразить, что впечатления наши непроизвольны; а потому, как бы ни был силен человек, первое движение его всегда будет таково, как оно есть; потом он сумеет с ним сладить, но тем не менее оно все-таки уже было. И куда естественнее будет поддаться этому первому, естественному впечатлению, уступая уже испытанному ощущению и укрепляясь в нем, чем выворачивать его наизнанку, извращать, подавлять и до тех пор калечить свои чувства, покуда не подчинишь одни другим, а вернее, покуда не устроишь из них мешанину, так что они вообще растают, и тогда уже не о чем будет и заботиться… Не жить – вот к чему я веду. Быстрее было бы… Но нет… Ведь тогда все будет кончено; я вчера об этом уже говорила; с другой стороны…
Что может быть кошмарнее в этом мире, чем быть из него выброшенной, жить в своем углу, не видеть ни одного интересного человека. Никого, с кем можно было бы обменяться мыслями, и вообще не видеть ни известных людей, ни героев дня. Вот она, смерть, вот преисподняя! <…> Будем говорить только о том, что люди договорились называть несчастьем; ну что ж, на это не подобает сетовать и роптать: и в несчастьях кроется наслаждение, и их следует принимать как необходимый элемент жизни. Предположим, я потеряла любимое существо, – как вы думаете, мне это все равно? Напротив, я буду убиваться, плакать, стонать, вопить, потом мое горе переплавится в печаль, надолго, а может быть, и навсегда. Это мне вовсе не нравится, я этого не хочу, я предпочла бы, чтобы это было не так; и все-таки я вынуждена признать, что все это и значит жизнь, то есть наслаждаться жизнью. Бывает, что теряют мужа или ребенка, становятся жертвой вероломства, стенают и клянут судьбу, я и сама наверняка поступала бы точно так же; но все эти страдания в порядке вещей, и Бог на них не обижается, Он знает, и человек тоже не обижается, он чувствует, что это естественные и неизбежные последствия горя, которое он пережил. Мы стенаем, но в глубине души не считаем, что этого не должно быть, мы согласны на это, сами того не замечая. <…> Вы воображаете, будто я жалуюсь на спокойную жизнь и мечтаю о суете? May be[136]136
Может быть (англ.).
[Закрыть], и все же это не так. <…> Я люблю одиночество и думаю даже, что, если бы я жила, я бы время от времени удалялась в уединение, чтобы почитать, поразмышлять, отдохнуть; в таком уединении есть своя прелесть, свое нежное и изысканное очарование. В сильную жару вы с восторгом забьетесь в погреб, но что, если вас там запрут навсегда! Вот увидите, что будет, даже если погреб прекрасно обставлен.
<…>
Теперь, если какому-нибудь умнику пришла охота меня смутить, пускай спросит, соглашусь ли я купить свою жизнь ценой жизни моей мамы, например. А я на это отвечу, что не согласилась бы даже ценой менее дорогой для меня жизни, – а ведь природа устроила так, что мы любим матерей больше всего на свете. Но отказалась бы я из эгоизма: ведь иначе я обрекла бы себя на муки совести. <…>
Вторник, 15 апреля 1879 года
<…>
Приходил Божидар[137]137
Князь Божидар Карагеоргиевич – сын князя Георгия Карагеоргиевича, претендента на сербский престол; с 1869 г. семья жила в Париже. Божидар был знаком с М. Б. с 1878 г. Разносторонне одаренный, он занимал важное место в жизни М. Б., был ей верным другом, не раз служил ей моделью для портретов.
[Закрыть], обедал у нас, расставлял мне книги; он добродушный позер, а воображает себя балованным ребенком; чудак, оригинал; все видел, все читал; с ним, как с Бертой, вечно происходит что-нибудь необыкновенное. Кстати, Берта тоже вчера приходила.
<…>
Пятница, 18 апреля 1879 года
Искала прическу в стиле ампир или Директории и заглянула в статью о г-же Рекамье; естественно, меня сразила мысль, что я могла бы быть хозяйкой салона, а у меня своего салона нет.
Глупцы возопят, что я себя считаю красивой, как г-жа Рекамье, и умной, как богиня; пускай себе глупцы вопят, а мы ограничимся тем, что признаем: я достойна лучшей участи – не случайно же все, кто меня видит, воображают, будто я царю над окружающими, будто я выдающаяся особа. Испустим тяжкий вздох и скажем себе: «Ну и что прикажете делать? Я сижу взаперти, мы никого не принимаем! Быть может, когда-нибудь придет и мой день…» Я привыкла верить в Бога, я пробовала отказаться от веры, но это не в моих силах… Это было бы полным крахом, хаосом; у меня никого нет, кроме Бога; Бог вникает во все мелочи моей жизни, я рассказываю ему обо всем. <…>
Вторник, 6 мая 1879 года
Занята по горло – и очень довольна; теперь вижу: я терзала себя, потому что мне некуда было девать время. Вот уже три недели работаю с восьми до полудня и с двух до пяти, домой возвращаюсь в полшестого; занимаюсь до семи, потом какие-нибудь наброски, или вечернее чтение, или немного музыки, и к десяти часам я уже ни на что не гожусь, кроме как лечь спать. Такой распорядок дня приводит меня к мысли, что жизнь коротка и что молодость моя проходит перед мольбертом или за книгой. Ладно, дурочка, все равно ничто другое невозможно…
Вечером музицирую… Неаполь! Вот что меня смущает… Почитаем-ка Плутарха.
Среда, 7 мая 1879 года
Лишь бы не иссякло мое яростное усердие, и я призна́ю, что счастлива. Обожаю рисование, и живопись, и композицию, и наброски, карандаш и сангину; у меня не возникает ни малейших поползновений отдохнуть и побездельничать. Я довольна! Месяц такой жизни приносит столько плодов, сколько обычные полгода. Все так весело, так прекрасно, что я боюсь, как бы это не кончилось! В такие минуты, как теперь, я верю в себя.
Мы сворачивали с улицы Риволи на площадь Согласия, а вдоль Тюильри шел Кассаньяк. Он меня точно видел. Я осталась невозмутима, только перестала мурлыкать песенку, которая у меня всегда на языке: «Я слыхала, тебя скоро женят». Я на него не смотрела, то есть мои глаза скользнули по нему, и все, а через миг карета «скрыла его от моего взора». Я и не подумала вытягивать шею, даже наоборот – слегка откинулась на сиденье. Он, мой идеал, шел медленно, тяжелой походкой. Мне бы хотелось видеть его удрученным, некрасивым, подурневшим, противным. Но если он будет обаятелен и знаменит, я утешусь тем, что можно перед ним преклоняться. Как видите, что бы ни случилось, я буду довольна. <…>
Четверг, 8 мая 1879 года
Бедное мое детство видело доказательства любви в том, как интересно мне было читать всякие истории о кардиналах, – это было во времена Антонелли! Сегодня я с тем же интересом читала о художниках, и у меня так же билось сердце, пока я читала рассказ о школе живописи.
<…>
Суббота, 10 мая 1879 года
Картина моя недурна, по цвету довольно приятная. Жюлиан с похвалой отозвался о композиции, сказал, что она выразительна, хорошо сгруппирована, выстроена; однако исполнение дурное; впрочем, он добавил, что на конкурсах по композиции на это не смотрят, да оно и понятно.
<…>
Понедельник, 12 мая 1879 года
Я хороша собой, счастлива и весела. Едем с де Дайенс в Салон, а потом болтаем обо всем на свете; повстречали Беро[138]138
Жан Беро – художник, ученик Бонна.
[Закрыть], художника, которого интриговали на балу, а теперь он прошел мимо нас, ни о чем не догадываясь. <…>
Работа Бреслау – большой красивый холст, изображающий большое красивое кресло, обтянутое золоченой кожей, в котором сидит ее подруга Мария, в платье тусклого темно-зеленого цвета, а на шее повязано нечто серо-голубое; в одной руке портрет и цветок, в другой пачка писем, которую она только что перевязала красной шелковой ленточкой. Композиция простая, сюжет знакомый. Рисунок великолепен, цветовая гамма гармоничная, колорит воистину прелестный. Не знаю, может быть, то, что я скажу, чудовищно, но поверьте, у нас нет великих художников. Есть Бастьен-Лепаж[139]139
Жюль Бастьен-Лепаж (1848–1884) – французский художник, признанный мастер пейзажа и портретист. Первое упоминание о нем в дневнике М. Б.
[Закрыть], который запутался в плоских и неинтересных сюжетах. А остальные? У них умение, навык, условность, школа; главное, все у них условно, в высшей степени условно. И ничего правдивого, ничего такого, что трепещет, поет, поражает, вызывает озноб, исторгает слезы. О скульптуре не говорю: для этого я ее слишком мало знаю. У меня уже в глазах рябит от жанровых картин, от чудовищной претенциозной посредственности, от обычных или добротных портретов – все это вызывает чувство, близкое к отвращению. Сегодня я не обнаружила ничего хорошего, кроме портрета Виктора Гюго кисти Бонна́[140]140
Леон Бонна́ (1833–1922) – французский художник, известный портретист.
[Закрыть], но Бонна уже сделал все, что мог, от него больше нечего ожидать; и потом, а быть может, и сперва – работы Бреслау. <…> Кресло у Бреслау скверно нарисовано, женщина точно вцепилась в него, потому что оно кажется наклоненным в сторону зрителя, и это жаль. Называю здесь Бонна за правдивость, а Бреслау за то, что все спокойные тона у нее поют. Не могу смириться с тем, что Лефевр у всех своих женщин делает одинаковые пальцы ног… Это меня раздражает и бесит.
<…>
Воскресенье, 1 июня 1879 года
С де Дайенс строим планы кругосветного путешествия. Возьмем с собой Блана и Одиффре.
<…>
Вторник, 24 июня 1879 года
В субботу я показала Тони написанную красками обнаженную натуру, и он сказал, чтобы я делала еще. Соответственно, занимаемся теперь обнаженной натурой.
<…>
Четверг, 10 июля 1879 года
Вчера произошла столь отвратительная сцена, что я даже не хотела писать. И все-таки надо, чтобы вы обо всем этом узнали.
Я вошла к маме и машинально, как со мной бывает десять раз на дню, беру со стола распечатанное письмо. Тогда эта сумасшедшая, решив, что это письмо или от ее брата, или насчет ее брата, бросается на меня и пытается силой вырвать у меня этот листок. Это доказывает, что она занимается какими-то грязными махинациями и боится, как бы я не донесла в полицию, где прячется этот человек и откуда он к нам приходит, чтобы окончательно нас унизить и опозорить. В решительные минуты я всегда веду себя с полным самообладанием; когда я почувствовала, как ее ногти впились мне в руку, я первым делом спрятала письмо себе за корсаж, сообразив, что́ это может быть за письмо. Я только сказала ей, чтобы она унялась, а не то я закричу. Тут пришла тетя и успокоила несчастную жертву моей жестокости, заверив, что это письмо от Карагеоргиевичей.
<…>
Среда, 16 июля 1879 года
Я невыразимо устала. По-моему, вот так начинается тифозная горячка. Мне снились дурные сны. А вдруг я умру? Сама удивляюсь, но я совсем не боюсь смерти. Если есть иная жизнь, она уж наверно будет лучше той, которую я веду здесь. А если после смерти нет ничего? Тогда тем более бояться нечего: следует желать, чтобы поскорее прекратились эти мелкие пакости и бесславные муки. Надо мне составить завещание. Начинаю работать в восемь утра, а к пяти так устаю, что вечер пропадает. Надо все-таки написать завещание. Сегодня вечером об этом подумаю.
<…>
Понедельник, 21 июля 1879 года
Лета нет как нет, с каждым днем все холоднее.
На этой неделе нам с утра до вечера будет позировать рыжая натурщица удивительной красоты. Скульптурные формы, краски, каких я в жизни не видывала. Она недолго пробудет натурщицей, а потому мы буквально накинулись на работу.
<…>
Среда, 23 июля 1879 года
Ходила смотреть конкурс на Римскую премию в Академии вместе с м-ль де Вильвьей; эта девушка ходит в нашу мастерскую, но она очень знатная, и ее семья принадлежит к самому высшему обществу Сен-Жерменского предместья. Ее мать маркиза, но, к несчастью, бедна.
Пятница, 25 июля 1879 года
Мне снились похороны.
<…>
Воскресенье, 3 августа 1879 года
<…> У меня горе. Исчез мой пес, Коко 2-й. Это случилось, когда мы были в театре. Я удивилась, почему он не бросился меня встречать, пошла его разыскивать, тогда мне и сказали, что он потерялся. Вам это все равно, но я бесконечно любила беднягу, я придумала ему имя, когда он еще не родился, и была к нему привязана не меньше, чем он ко мне! <…> Домашние знают, в каком я горе, и угрюмо молчат. Мама весь вечер искала. <…>
Понедельник, 4 августа 1879 года
Не могла уснуть. Мне все представлялся мой бедный песик, такой еще глупый, мне казалось, что он испугался консьержа, убежал и теперь не знает, куда идти. Я даже немного поплакала, а потом помолилась Богу, чтобы мой песик нашелся. <…> Просыпаюсь сегодня утром – а мне приносят моего Коко. Негодник был такой голодный, что даже не слишком-то мне обрадовался.
Я уже считала, что он пропал, а родные твердили, что его наверняка убили: они хотели, чтобы я наконец успокоилась. Мама кричит, что это чудо, – ведь никогда еще мы не находили пропавших собак. А как бы она кричала, если бы я рассказала ей о моей молитве; но я доверила это только дневнику, и то упрекаю себя: бывают мысли и молитвы настолько личные, что, если высказать их вслух или записать, они кажутся глупыми или бестактными. <…>
Среда, 13 августа 1879 года
Вчера в час ночи приехали в Дьеп.
<…>
С нами здесь Карагеоргиевичи.
Неужели все эти приморские города похожи друг на друга? Я была в Остенде, в Кале, в Дувре, теперь вот Дьеп. Пахнет смолой, кораблями, канатами, клеенкой. Ветрено, нигде не укрыться, просто в отчаяние приходишь. Пахнет морской болезнью. Какая разница со Средиземным морем! <…>
Пятница, 15 августа 1879 года
Погода хорошая, и я начинаю привыкать к северному морю. Сегодня утром и после обеда ходила писать пляж; пока Блан играл в пикет, сделала с него набросок.
Море великолепное, а воздух вечером был чистый и благоуханный.
<…>
Пятница, 29 августа 1879 года
<…> Фатализм – религия ленивых и отчаявшихся. Я отчаялась и клянусь вам, что вовсе не привязана к жизни. Я бы не высказала этой банальности, если бы думала так только сейчас, но я думаю так всегда, и даже в самые счастливые минуты. Презираю смерть; если там нет ничего… тогда все просто, а если что-то есть – препоручаю себя Богу. Но думаю, что в рай не попаду, что здешние мои мучения продолжатся и там; я на это обречена.
Какое очаровательное смирение, смахивает на кокетство, не правда ли? Это просто поза. Я позирую.
<…>
Понедельник, 1 сентября 1879 года
<…> Надеюсь, вы заметили огромную перемену, которая мало-помалу во мне совершается. Я стала серьезная и рассудительная, и потом, многие понятия стали мне доступнее, я понимаю многое, чего прежде не понимала и о чем судила по обстоятельствам, то так, то этак. Сегодня, например, меня осенило, что можно проникнуться огромным чувством к какой-нибудь идее, что можно любить ее, как любишь самое себя. <…>
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.