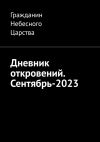Текст книги "Если бы я была королевой… Дневник"

Автор книги: Мария Башкирцева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Было бы с Вашей стороны оригинально и произвело бы наилучшее впечатление на всех, если бы Вы приняли к сведению мою нотацию и воспользовались добрыми советами!
Я о Вас столь высокого мнения, что почти рассчитываю на это. Впрочем, Вы не можете сомневаться в чувствах, которые я к Вам питаю.
Повергаю их к Вашим стопам с нижайшим почтением.
А. Мюльтедо».
Я ненавижу пожилых дам с собачками и борюсь со своими домашними из-за всего такого, но, когда посторонний позволяет себе их судить, все семейные ссоры побоку: когда на моих близких нападают, я бросаюсь на их защиту, и я всегда буду защищать слабых и нападать на тех, кто сильнее. Я целиком переписала письмо этого господина, вместо того чтобы подколоть его к странице, потому что оригинал я уже отослала на Мон-де-Марсан, не добавив ни слова от себя.
Я г-ну Мюльтедо не невеста, а если бы и была, то сочла бы в высшей степени неуместным все, что он позволяет себе по моему адресу, обнаруживая этим свой мелочный характер, свою ограниченность, заставляющую его мстить мне глупыми оскорблениями за остроумные шутки.
Знаете, что вы можете думать про все, что он смеет ставить мне в упрек, кроме одного: я в самом деле ездила одна в нашей карете? Все ложь. Единственный раз я поехала одна в нашей карете… <…> и встретила этого господина… <…>
Я никогда не подписываюсь «де Башкирцефф», и как раз по тем причинам, которые приводит Мюльтедо.
Что ни говори, он меня принимает всерьез; никогда не думала, что мои глупости и шуточки так сильно его задевают.
Резкости, издевательские замечания – бедняга, я только тебе их и говорила. С другими я держу себя гордо, но вежливо.
<…>
Г-н Мюльтедо отрицает искусство! Он признает для девиц головы Ромула и портреты Шаплена[127]127
Шарль-Жошуа Шаплен (1825–1891) – модный парижский живописец.
[Закрыть] на выставках. Но я занималась искусством больше, чем полагается. Чрезмерная критика – это своего рода похвала. И он ни на что не имеет права. Я над ним издевалась – то ли еще будет.
Что касается людей, которых мы принимаем… нынче зимой я возьму реванш, но не ради Мюльтедо, а ради всех остальных.
У этого Мюльтедо, несмотря на все его хорошее воспитание, просто совершенно нет такта.
Четверг, 1 августа 1878 года
Перерядилась старухой-немкой, с забавными ужимками, со всякими причудами, и произвела сенсацию, благо завсегдатаев курзала каждое новое лицо приводит в неистовство. Но я допустила оплошку, ничего не заказав лакею; это пробудило подозрения, началась слежка, потом преследование, и тем дело кончилось.
Поверите ли, какая это тоска – насмешить до колик двадцать пять человек, а самой не развеселиться.
<…>
Среда, 7 августа 1878 года
<…>
Господи, дай мне уехать в Рим! <…>
Это не Тит Ливий меня взбудоражил: он, старый мой друг, уже несколько дней у меня в небрежении. <…> Нет, просто мне припомнилась Кампанья, площадь Народа, Пинчо и купол в лучах заходящего солнца… и божественный, прелестный предрассветный сумрак, когда солнце встает и мало-помалу все становится видно… И везде вокруг так пустынно! И какой высокий восторг вызывает воспоминание об этом волшебном, изумительном городе! Наверно, это происходит не со мной одной, наверно, он всем внушает необъяснимые чувства… навеянные каким-то таинственным внушением… словно в нем сочетаются легендарное прошлое и священное настоящее… или… нет, мне недостает слов. Будь я влюблена, хотела бы я привезти любимого в Рим и признаться ему в любви, когда солнце начнет прятаться за божественный купол… Если бы меня постигло ужасное горе, я бы пришла сюда плакать и молиться, устремив на этот купол глаза. Будь я самой счастливой из всех людей, я бы тоже пришла сюда…
Как вспомню, что живу в Париже, – а там все так по-буржуазному пошло… и все-таки после Рима это единственный город на свете, где можно жить! При мысли о том, что в Рим нельзя, тоска и руки опускаются…
<…>
Суббота, 17 августа 1878 года
Еще утром мы были в Содене. Я дала слово, что отобью пятьсот земных поклонов, если застану дедушку в живых. Слово я сдержала. Он не умер, но лучше ему не стало. А между тем… рухнули мои планы лечиться в Эмсе. Ненавижу Париж! Здесь скорее, чем в другом месте, можно обрести счастье, радость, удовлетворение; в Париже возможна полная, осмысленная, блестящая жизнь, я и не думаю этого отрицать. Но чтобы жить так, как я живу, надо любить сам город. Города, как люди, бывают мне симпатичны или антипатичны, и я ничего не могу с собой поделать – Париж мне не нравится.
<…>
Понедельник, 19 августа 1878 года
<…>
У меня чудовищная болезнь. Я противна сама себе. Не в первый раз уже я чувствую к себе ненависть, но от этого не легче.
Когда ненавидишь другого человека, можно его избегать, но ненавидеть себя – вот уж пытка!
<…>
Четверг, 29 августа 1878 года
Не знаю, какое чудо случилось, судьба ли так устроила, что я припозднилась; к девяти часам еще была не одета, и тут пришли и сказали, что дедушке хуже; оделась и побежала узнать, что с ним, потом еще много раз к нему забегала. Мама, тетя и Дина плачут, то тихо, то во весь голос. Жорж разгуливает как ни в чем не бывало; я ничего ему не сказала – в такие ужасные минуты не время читать наставления. В десять пришел священник, и несколько минут спустя все было кончено. <…>
Мы были готовы к удару, и все-таки он нас сразил. Составила телеграммы и письма. Пришлось позаботиться о маме – у нее тяжелейший нервный приступ. Надеюсь, что я держалась вполне пристойно, а если не вопила, то это не значит, что у меня сердце черствее, чем у остальных.
Я уже не в силах отличить мечты от истинных своих чувств. <…>
Пятница, 30 августа 1878 года
<…>
Мне вам не передать все ужасы, которые мы вытерпели из-за этого чудовища, чьим именем я не хочу марать перо.
<…> Пьяные сцены, самые грязные ругательства над гробом покойного, оскорбления по адресу покойной матери, которая и умерла-то из-за него, – от всего этого волосы на голове шевелятся. <…>
Действительность – отвратительный и скучный сон… а между тем мне бы только немножко счастья – и как бы я могла быть счастлива! Я ведь владею искусством радоваться малому, и потом, меня не огорчает то, что доставляет огорчения другим. <…>
Среда, 4 сентября 1878 года
<…>
Мне бы хотелось, чтобы я могла сказать, не опасаясь, что потом придется опровергать себя: «Я люблю этого человека». Этот миг еще не настал, но настанет, я повзрослела и больше не обманусь. Быть может, придет день, когда я обнаружу, что все это было воображение… вот будет парадокс! Чем было бы все вообще, если бы не воображение? А существовали бы наши чувства, не будь воображения? Кант утверждает, что вещи существуют только в нашем воображении. Это, пожалуй, слишком, но в отношении чувств я принимаю его теорию… В самом деле, чувства порождены впечатлением, которое производят предметы или живые существа; и поскольку он говорит, что предметы не являются такими-то и такими-то, словом, что у них нет никаких объективных свойств и в действительности они существуют лишь в нашем сознании… Чтобы все это переварить, надо еще долго не ложиться; вместо того чтобы приняться за рисование, надо было бы сесть и подумать, а ведь к субботе я должна закончить рисунок…
Вещи существуют лишь в нашем сознании? Ну а я вам скажу, что предмет можно увидеть глазами, что звук можно услышать, и вот эти-то… скажем, обстоятельства и являются решающими… Иначе пускай бы вообще ничего не существовало – мы бы все сами изобрели. Если в этом мире ничего нет – где же тогда есть хоть что-нибудь? Ведь для того, чтобы утверждать, что ничто не существует, нужно знать о существовании хоть чего-нибудь, все равно где, хотя бы для того, чтобы отдавать себе отчет в том, какая разница между объективными явлениями и воображаемыми. Конечно… обитатели какой-нибудь другой планеты могут видеть все по-другому, чем мы, и тогда все правильно; но мы-то на земле, так давайте здесь и останемся, будем изучать все, что на земле и над землей. Этого вполне достаточно.
Эти ученые и их кропотливые, ни на что не похожие, заумные глупости вызывают во мне восторг: до того уж тщательные, до того научные все эти рассуждения да умозаключения… Только одно приводит меня в отчаяние: я чувствую, что это неправильно, но у меня нет ни времени, ни силы воли разобраться почему.
Хотелось бы поговорить об этом с кем-нибудь, я совсем одна. Но клянусь вам, что я вовсе не желаю навязывать свои мнения людям, я простодушно высказываю собственные мысли и с удовольствием вняла бы всем разумным доводам, какими меня будут убеждать…
Мне бы нужно, я бы хотела, и пускай не покажутся мои притязания смехотворными, я бы хотела послушать знающих людей; мне бы очень, очень, очень хотелось проникнуть в среду ученых, смотреть, слушать, учиться… Но я понятия не имею, к кому и как обратиться с этим, и в дурацком восхищении не двигаюсь с места; я не знаю, куда броситься, и только краешком глаза любуюсь на занимательнейшие сокровища: историю, языки, науки – в общем, на всю землю; мне хотелось бы увидеть все вместе, все узнать, все изучить!
<…>
Пятница, 13 сентября 1878 года
<…>
Я не на своем месте, я впустую транжирю возможности, которые с толком использовал бы мужчина; заготавливаю речи, чтобы пустить их в ход во время домашних бессмысленных ссор; я ничтожество; то, что могло бы послужить к моей чести, оказывается чаще всего бесполезно или неуместно.
Большие статуи великолепно смотрятся на пьедесталах, посреди просторных площадей, но поставьте их у себя в спальне, и увидите, какие они нелепые и громоздкие! Десять раз на дню вы расшибете о такую статую лоб или локоть и кончите тем, что проклянете ее и объявите, что она невыносима; а ведь на своем месте она бы всех восхищала.
Если, по-вашему, сравнение со статуей для меня слишком лестно, подставьте вместо нее… все, что вам будет угодно.
<…>
Понедельник, 23 сентября 1878 года
<…>
Дочитаю Тита Ливия и примусь за историю Франции Мишле, а потом буду читать греков, которых знаю только по слухам да по цитатам в других книгах, а потом… Книги мои в ящиках, и, прежде чем их распаковывать, нужно будет снять квартиру на подольше, чем эта. Я знаю Аристофана, Плутарха, Геродота, немного Ксенофонта – вот, кажется, и все. Еще Эпиктета, но этого все-таки недостаточно. Да, еще Гомера, его я знаю очень хорошо, и чуть-чуть знакома с Платоном. <…>
Понедельник, 30 сентября 1878 года
<…>
Я написала Колиньон, что хотела бы быть мужчиной; знаю, что могла бы чего-нибудь достигнуть, – но далеко ли уйдешь в этих юбках? Замужество – вот единственное поприще для женщины; у мужчин все карты на руках, у женщин – одна-единственная, а выигрыш – ноль. Правда, женщинам случается иногда сорвать банк, и кое-кто утверждает, что женщина, как правило, остается в выигрыше; но это не так, потому что выигрыш выигрышу рознь. Что же удивляться чрезмерной разборчивости женщин при выборе мужей? Я до глубины души возмущаюсь положением женщин. Но я не так глупа, чтобы требовать дурацкого равноправия, – это утопия, да и дурной тон: не может быть равенства между двумя столь разными существами, как женщина и мужчина. Ничего я не прошу – женщина и так уже имеет все, что ей положено, но я злюсь на то, что я женщина, ведь у меня только внешность женская.
<…>
Понедельник, 7 октября 1878 года
С утра пишу красками, а после обеда рисую.
<…>
Глупцы вообразят, будто я затеяла подражать Бальзаку, – ничего подобного; но знаете, в чем его главное достоинство? В том, что он переносит на бумагу все, что рождается у него в голове, переносит совершенно естественно, ничего не боясь и ничего не преувеличивая. (То, что он сумел написать, приходило в голову едва ли не каждому умному человеку, но кому удалось это выразить так, как выразил он?) В то же время, если бы этому дару не сопутствовал такой ум, он не создал бы ничего подобного. <…>
Нет, все-таки почти никто не приходил к тем мыслям, к которым пришел Бальзак; но правдивость и верность природе в его книгах так пленяет, что читателям кажется, будто они и сами так думали. У меня самой сотни раз так бывало, что, рассуждая или думая о чем-нибудь, я испытывала невыносимые мучения, потому что у меня смутно брезжила какая-то мысль, но недоставало сил вызволить и извлечь ее из чудовищного хаоса, царящего у меня в голове. И еще одно сомнение меня терзает; когда я высказываю удачную мысль, тонкое замечание, мне кажется, что меня не поймут. Может быть, меня и вправду не поймут в том смысле, какой я сама подразумевала.
Спокойной ночи, люди добрые!
Робер-Флёри и Жюлиан возводят целое здание на моей головушке, они холят меня, как лошадь, которая может сорвать приз на скачках. Жюлиан все опасается, как бы это меня не испортило, но я его заверила, что это меня, напротив, безмерно вдохновляет, – и так оно и есть.
<…>
Среда, 9 октября 1878 года
Успехи учеников Жюлиана на конкурсе в Академии весьма возвысили нашу мастерскую во всеобщем мнении. От учеников отбою нет; каждый надеется получить Римскую премию или хотя бы стать участником конкурса в Академии художеств.
На женскую мастерскую тоже падает отблеск славы, а Робер-Флёри соперничает с Лефевром и Буланже. Жюлиан то и дело говорит: «Ну-ка, что скажут об этом внизу?» или «Мне бы хотелось показать это господам снизу».
Мне ужасно охота, чтобы и мой рисунок отнесли вниз. Дело в том, что рисунки носят нашим нижним соседям только для того, чтобы похвастаться и позлить их; ведь они говорят, что женщины – это, мол, несерьезно. И я давненько уже мечтаю, чтобы моя работа удостоилась чести попасть вниз; так вот, сегодня пришел Жюлиан, посмотрел мой рисунок, изображающий обнаженную натуру, и изрек такие слова:
– Доведите-ка это как следует до конца, и я отправлю это вниз.
Я рада этому даже больше, чем щенкам, родившимся у Пинчо.
<…>
Суббота, 12 октября 1878 года
Про мою обнаженную натуру сказано: весьма хорошо, весьма, весьма хорошо.
– У вас есть все данные; если будете работать – добьетесь всего, чего захотите.
Я отношусь к похвалам скептически (на самом деле нисколько, но так полагается); Р[обер]-Флёри наверняка не кривит душой, доказательством тому служит всеобщая зависть. И я от нее страдаю, хоть это и глупо. Вероятно, во мне и впрямь что-то есть, иначе с какой стати я всякий раз получала бы такие комплименты, тем более от такого серьезного и добросовестного человека, как Р[обер]-Флёри. А Жюлиан прибавляет, что, если бы я слышала все, что обо мне говорят, у меня бы голова вскружилась.
– Вы были бы на седьмом небе, мадемуазель Мари, – говорит служанка.
Я все время боюсь, как бы читатели не подумали, будто мне льстят из-за того, что я богата. Богатство тут ни при чем: плачу́ я не больше других, а у других вдобавок есть покровители, дружеские и родственные связи с преподавателями. Впрочем, к тому времени, как вы будете меня читать, станет уже ясно, чего я стою. Ах, неужели живопись не вознаградит меня за все прочее! <…>
Суббота, 26 октября 1878 года
Живопись гораздо лучше, а обнаженная натура очень хорошо. Кроме того, Р[обер]-Флёри обещает навестить меня дома и дать мне советы насчет скульптуры, которую я собираюсь начать на этих днях.
Он судил наш конкурс.
1. Бреслау.
2. Я.
Словом, мне бы радоваться: с его стороны так мило заниматься моей скульптурой, верно? Думаю, что Бреслау втайне его обожает, они все его понемногу обожают. А я, как вы могли заметить, ни разу не сказала, молодой он или старый, белокурый или черноволосый. Но скажу. Весьма известный Тони Робер-Флёри – сын знаменитого Робера-Флёри[128]128
Робер-Флёри (наст. имя Жозеф-Никола-Робер Флёри; 1797–1890) – отец Тони Робера-Флёри, член Академии художеств, профессор, а потом директор Школы изящных искусств и т. д.; с 1864 по 1866 г. был директором Французской академии в Риме.
[Закрыть], члена Академии и главы кучи всего, бывшего директора Римской школы.
Тони – художник спокойный, благоразумный. Рисует превосходно, композиция у него очень хороша, колорит так себе, живопись в общем недурна, он получает медали, награжден орденом П[очетного] л[егиона], государство покупает у него картины: «Истребление поляков», «Доктор Пинель в Сальпетриер», «Последний день Коринфа» и т. д. Мало блеска, но знания солидные, репутация прочная, а учит он превосходно. Чего еще требовать? Сейчас ему сорок два года[129]129
М. Б. ошибается, ему было ровно сорок.
[Закрыть], а на вид не больше тридцати пяти, он бледный, черноволосый, бородатый, голубоглазый. Черты лица крупные и четкие, пожалуй даже чересчур. Несколько напоминает чахоточного, что мне ужасно не нравится (смотри «Шагреневую кожу» Бальзака). Характер превосходный, манеры мягкие и немного насмешливые, но это потому, что он имеет дело с женщинами, а многие женщины злились бы, если бы с ними разговаривали, как с молодыми людьми. Но к работам он вообще очень строг и не считает нужным смягчать эту строгость успокоительными шуточками и отеческими улыбками. Наши женщины перед ним робеют, как перед настоящим мэтром, и я тоже, потому что вижу в нем только учителя. Сначала я и перед Жюлианом трепетала и, говоря с ним, краснела. Сегодня утром Р[обер]-Флёри беседовал со мной в уголке о картонах к моей скульптуре, а я слушала, как малое дитя, вид у меня был совершенно простодушный, щеки то бледнели, то краснели, я не знала, куда девать руки. Во время разговора он невольно улыбался, и я тоже, потому что помнила, что от меня пахнет свежими фиалками, что волосы у меня сухие, легкие и вьются от природы, что они изумительно освещены, а руки, в которых я что-то держала, принимают самые занятные положения. Бреслау говорит, что у меня прелестная манера прикасаться руками к вещам, хотя руки у меня и не красивы в классическом смысле.
Но чтобы уловить эту прелесть, надо быть художницей: буржуа и светские люди не обращают внимания на то, как именно пальцы обхватывают вещь; пухлые или даже жирные руки нравятся им больше, чем такие, как у меня. <…>
Среда, 13 ноября 1878 года
Сегодня вечером приходил Р[обер]-Флёри. <…>
Р[обер]-Флёри превосходный преподаватель; он ведет вас шаг за шагом, и вы постоянно чувствуете, что добились еще какого-то успеха. Сегодня вечером в его обращении со мной был такой оттенок, будто я покончила с гаммами – и вот теперь он предлагает мне сыграть настоящую музыку. Он приподнял краешек занавеса и показал более широкий горизонт. Нынешний вечер останется вехой в моем учении. <…>
Среда, 20 ноября 1878 года
Вечером приняла ванну и внезапно до того похорошела, что добрых двадцать минут собой любовалась. Я уверена, что, если бы сегодня кто-нибудь меня увидел, я бы имела успех: цвет лица совершенно ослепительный и такой нежный, такой тонкий, щеки чуть розовые; яркие только губы, глаза и брови. Какая жалость, что все это так бесполезно! Еще понадобится… но почему так гнусно устроена жизнь, что все это должно поблекнуть, скукожиться и умереть!
Прошу вас, не думайте, что когда я выгляжу дурно, то делаюсь слепой: вот уж нет, я все прекрасно вижу; сегодня я понравилась себе впервые за очень долгое время.
Все остальное отнимает живопись.
<…>
Пятница, 22 ноября 1878 года
Мне страшно при мысли о том, какое будущее открывается перед Бреслау. На сердце у меня мрак и тоска. Ну что за наваждение!
Я пишу красками семь недель, она – восемнадцать месяцев, то есть семьдесят две недели. В десять раз дольше, чем я. Но это же не все. Она умеет придумывать; в том, что она делает, нет ничего женского, банального, уродливого. В Салоне ее заметят, потому что она не только вложит экспрессию в свою работу, но и сюжет выберет незаурядный. С моей стороны истинное безумие ей завидовать: я в искусстве дитя, а она взрослая женщина.
<…>
Воскресенье, 24 ноября 1878 года
<…> Побывали вместе с Надин в музее античного искусства[130]130
На первом этаже Лувра.
[Закрыть]. <…> Какая простота и какая красота! Ах, никогда больше не повторится Греция! <…>
Воскресенье, 29 декабря 1878 года
<…>
Когда здесь был отец, приехала с визитом княгиня Карагеоргиевич; он был в ярости, потому что ненавидит, когда мы видимся с порядочными людьми. Никто не знал, что у нас за отношения, и если бы он не прислал свои визитные карты дамам, которым его представили, это было бы невежливо. Поэтому мама послала его карты без его ведома. Но… вы считаете, что я злюсь, что я предубеждена, что я преувеличиваю, – давайте я расскажу вам о нем нечто такое, чтобы вы поняли, что он за человек.
Это было в России, шел разговор о моем здоровье, о моем возрасте, а потом я осталась наедине с отцом. «Знаешь, – сказал он мне, – только что говорили, что ты родилась семимесячной, но это неправда». – «Как же, – возразила я, – вчера ты сам показывал мне бумаги, из которых ясно, что я родилась спустя семь месяцев после вашей свадьбы». – «Да, все так, – с многозначительным видом произнес он, – и тем не менее ты родилась девятимесячной. Если тебя будут уверять, что это не так, не верь».
Я поняла только спустя три часа и замолчала. Если бы я захотела к этому возвращаться, мне бы пришлось разбить голову этому господину.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.