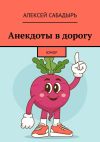Текст книги "Воскресные охотники. Юмористические рассказы о похождениях столичных подгородных охотников"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
Актер-любитель
Полдень. В канцелярию одного из присутственных мест вбегает гладко бритый чиновник средних лет, в вицмундире, с портфелем и коробкой в руках.
– «Удивительное происшествие, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор!» – восклицает он, остановившись посреди комнаты.
Сидящие за столами чиновники оборачиваются и в недоумении смотрят на него.
– Какой чиновник и какой ревизор? – спрашивает один из них.
– Хи-хи-хи! – засмеялся мелким смехом вбежавший и тут же прибавил: – Ах вы, профаны! И не понимаете! Это я из «Ревизора» Гоголя хватил.
– О, чтоб тебя!.. Неисправим – хоть брось! Смотрите, он уж опять изменил свою физиономию. Зачем же ты обрил бакенбарды?
– Для роли почтмейстера. Ведь я почтмейстера играю в «Ревизоре». Да это бы еще ничего, и я маленькие бакенбарды оставил бы для почтмейстера, но дело в том, что в конце мы ставим водевиль «Аз и Ферт» и у меня роль Мордашова. «Серебра двадцать четыре фунта, и все а-ля рококо восемьдесят четвертой пробы», – процитировал он из водевиля. – Его превосходительство меня не спрашивал?
– Два раза спрашивал и очень сердился, что тебя нет. «Верно, – говорит, – опять какую-нибудь собачью будку перестроили в театр, и он там спектакль устраивает».
– Неужели так и сказал? А что, господа, ведь он отчасти прав. Удивительный у нас вообще недостаток в театральных залах. Собачью будку – это уж слишком, а действительно, послезавтра мы будем играть на даче в каретном сарае. И ведь как хорошо устроили: сарай – это у нас сцена, две боковые конюшни на шесть стойл превращены в мужскую и женскую уборные, а к сараю приделана большая парусинная палатка для зрителей. Один недостаток, что навозом будет пахнуть, а то совсем отлично!
– Бумаги-то у тебя готовы? Ведь он спрашивал.
– Готовы, но только надо в двух местах подскоблить. Я в них несколько слов из ролей по ошибке хватил. Твердил-твердил куплет в «Азе и Ферте» да и закатал вместо слов «с узаконенными свидетельствами» – «чтоб и белье ему стирали и платье чистили у нас», а в другом месте вместо тома свода законов, части и статей выставил: «действие III, явление X»…
– Так садитесь и исправьте скорей. Это ведь ни на что не похоже! – наставительно произнес столоначальник.
– Не извольте беспокоиться, Иван Иваныч. Все будет в исправности, – отвечал чиновник, сел, раскрыл портфель, вынул бумаги, но вдруг воскликнул: – Ах, господа! Я вам и не показал еще моего нового комического парика! Поистине артистическое произведение. Парикмахер Петров по моему рисунку делал. Череп совершенно голый, и волосы только на затылке и на висках. Ежели смотреть сзади, то они изображают как бы рога или римскую цифру пять. Череп, говорю, весь голый, но сверху наклеивается волосяной куст.
– Да ведь это неестественно, и в природе таких голов не бывает, – заметил кто-то.
– Ах, боже мой, да ведь это для водевиля! Да вот он.
Чиновник-актер открыл коробку, достал оттуда парик, надел его на руку и поднял над головой.
– Восемь рублей стоит, – похвастался он. – А уж какой я халат себе разыскал с прорванным задом, так просто восторг! Все животики надорвете, хохотавши. Кстати, господа, не хотите ли взять билеты на спектакль? – предложил он товарищам. – Есть в рубль, в два и в три рубля.
– Семен Петрович, я вас попрошу заниматься делом. Вы другим мешаете, – остановил его столоначальник. – Готовьте бумагу. Сейчас выйдет генерал и спросит ее… Это из рук вон!
– Бумага будет готова, только не сердитесь, Иван Иваныч. Я вам за мою неисправность подарю билет второго ряда.
– Не надо мне вашего билета.
– Жаль. Откровенно сказать, мне было бы очень приятно, ежели бы вы меня посмотрели в роли почтмейстера и в водевиле «Аз и Ферт». Тогда бы вы вполне сознались, что мое призвание не «вследствие отношения палаты за нумером таким-то…» выводить, а играть, играть и играть.
– Бога ради, исправьте скорей бумагу!
– Сейчас, сейчас… – заторопился чиновник, взял перочинный ножик, раскрыл его и только хотел подскабливать бумагу, как опять начал: – Вы не поверите, господа, какие я выношу неприятности из-за этих спектаклей у себя дома. Вот хоть бы моя борода. Когда я обрил ее и пришел домой, жена упала в обморок, начала дрыгать ногами и двое суток не пускала меня к себе на глаза. Кой-как успокоилась она на моих бакенбардах, но все-таки называла меня бульдожкиной мордой, а теперь, с обритием бакенбард, я уж и не знаю, что произойдет! – Чиновник махнул рукой и прибавил: – Одним утешаю себя, что у меня талант развивается. У меня теперь и дикция явилась, и комизм; в гримировке я достиг самых малейших оттенков… – бормотал он, выписывая на подскобленном месте, но вдруг бросил перо и начал чесать себе затылок. – Э-эх! Вот несчастие-то! Хотел написать «с узаконенными залогами», а написал «с комическими дикциями». И главное, на подскобленном месте! Ну, как тут быть?
– Смотрите, Семен Петрович, в беду попадете. Генерал сейчас выйдет.
– Да не суфлируйте, пожалуйста, знаю! Знаю!.. Ну, что за важность! Писарь перепишет. Господин режиссер! Тьфу ты! Что это у меня все театральное на языке! Господин Иванов!
Чиновник совсем потерялся.
– Покажите, что у вас там такое? Может быть, можно исправить, – подошел к нему товарищ.
– Какое тут исправление, коли я совсем не ту реплику и из другой роли! А ежели еще подскабливать, то я уж и так проскоблил.
– Пошлите к генералу хоть другую-то бумагу. Ведь она у вас готова, а тем временем эту перепишете. Вот Андриан Захарыч идет в кабинет с докладом. Дайте ему. – Андриан Захарыч, снесите ему бога ради!
Чиновник взял какую-то бумагу и сунул в синюю папку маленького седенького старичка. Тот удалился из канцелярии.
– Убери, Сеня, парик-то! Ну что он у тебя на столе лежит! – сказал чиновнику-любителю товарищ и, взяв в руки, начал мять картонный лоб парика.
– Что ты делаешь! Что ты делаешь! Ты мне новый парик испортил! Ну, скажите на милость! Сделал трещину! Эдакий превосходный парик, и теперь фасон потерял! – воскликнул, как ужаленный, чиновник, выхватив парик из рук товарища, и надел его себе на голову, чтоб расправить.
Вся канцелярия так и разразилась хохотом, но вдруг мгновенно умолкла. На пороге стоял сам его превосходительство. Это был подслеповатый чистенький старичок в вицмундирном фраке и в пенсне.
– Господин Перетявкин! Где господин Перетявкин? – говорил он. – Послушайте, милый мой, какую такую бумагу вы мне прислали к подписи? Что это такое! Ведь уж это чистое безобразие! На смех, что ли? Тут роль какая-то из водевиля «Коломенский нахлебник»!
Чиновник-любитель стоял ни жив ни мертв. Впопыхах он даже забыл снять парик с головы и бормотал:
– Виноват, ваше… Виноват!..
Генерал подошел к нему, взглянул пристально и воскликнул:
– Это что такое? В каком вы виде находитесь в канцелярии! Что у вас на голове? Разве можно, милостивый государь, в присутственном месте в каких-то дурацких колпаках сидеть? Извольте подать в отставку!
Гребец
Обеденное время. На балконе одной из дач Крестовского острова стучат ложками о тарелки. Довольно многочисленное семейство обедает. Вот мать; около нее двое ребятишек, из которых один помещается на высоком детском стуле. Далее пожилая чопорная гувернантка с подведенными тушью глазами. Рядом с гувернанткой, то и дело шипящей фразу «tenez-vous droit»[2]2
Выпрямись (фр.).
[Закрыть], сидит хорошенькая девочка лет девяти в локончиках и малороссийском костюме. Тут же бабушка в белом чепце – сухая и бодрая старуха добродушного вида. Все семейство питается, кроме отца – очень осанистого человека с проседью в бороде и на висках. Он ходит около балкона, курит, усиленно затягиваясь папироской, и то и дело поглядывает на карманные часы.
– Шесть часов, – говорит он. – В семь наш рулевой назначил начало репетиции гонки. Полтора часа будем сгребаться. Элиз, как ты думаешь, пора мне одеваться в костюм гребца? – обращается он к жене.
– То есть как это одеваться? По-моему, не одеваться, а скорее раздеваться, – ответила жена. – Разве можно назвать вашу шерстяную фуфайку без воротника и рукавов костюмом? И пунцовая жокейская фуражка – тоже не костюм. Впрочем, древние и виноградный лист считали за одежду; какая-то каскадная французская певица появлялась перед публикой костюмированная только одним поясом поверх трико.
– Полно, полно! Ну как возможно сравнивать наш костюм с виноградным листом и поясом француженки! Мы, гребцы, все-таки в парусинных брюках.
– Еще бы ты без брюк-то был! Ну что ж, снимите и брюки. Это совсем будет прилично для чиновника, который на отличном счету у начальства и в сентябре едет на пост вице-губернатора!
– Но при чем же тут служба, мой друг? Спорт спортом, а служба службой. Ведь не к начальству же я буду являться в костюме гребца.
– А это ничего не значит, что когда вы надеваете вашу дурацкую фуфайку и красный колпак, то вся наша прислуга хохочет на вас вместо того, чтобы уважать вас?
– Против невежества нет лекарства! Невежественный глупец и над святым чувством подчас смеется, – пожал плечами муж. – Так что ж, одеваться мне?
– Как хотите; это до меня не касается.
– Но зачем же, мой друг, сердиться? В Англии не только что кандидаты на вице-губернаторский пост, но даже лорды-дипломаты…
– Подите вы с вашими лордами! Я знаю только одно, что когда вы вчера шли по улице в вашей непозволительной фуфайке и с веслом на плече, сзади вас бежали мальчишки и кричали: «Акробат, акробат!» Боже мой! И это уже целую неделю, каждый день!
Муж не возражал. Он поднялся из сада на балкон, завистливыми глазами взглянул на стол и проговорил:
– Лососину едите? Ах, с каким бы удовольствием я съел теперь кусочек!
– Да полноте вам! Скушайте, Михаил Васильевич, – сказала ему старушка.
– Нельзя, Софья Петровна. Я отяжелею, и тогда какая же будет гонка? Ну, что за радость, ежели мы завтра останемся за флагом, вместо того, чтобы взять приз? Ведь у нас рулевым сам Влас Дементьич. Он ни разу еще не осрамился. А тут вдруг я наемся, и все пропало! Он уж старый воробей в речном плавании и предписал нам ни капли вина не пить и ничего не есть, кроме куска кровяного бифштекса. И чай, чай, чай без конца! Чтобы выгнать из себя весь пот и уж во время гребли не потеть. Сегодня я выпил четырнадцать стаканов чаю. Ах, боже мой! У вас и белые грибы в сметане. Эх! Все мои любимые блюда. Ну, да уж удержусь теперь, а завтра, после гонки, и лососины, и грибов, и лафиту, одним словом, всего до отвалу! Но верите, до чего мне есть хочется!
– Да бросьте вы это! Ну, что вам Влас Дементьич?.. Кушайте.
– Ах, нет, нет! Мы поклялись ему исполнять все его предписания.
– Оставьте, маменька, не уговаривайте его. Он упрям как бык. Да, кроме того, сумасшедших чем больше уговаривают, тем хуже, а он совсем помешался на гичках, – остановила старушку жена.
К балкону подошла нарядная мамка с ребенком.
– Да что у вас, сударь, живот схватило, что ли, что вы ничего не кушаете? – спросила она.
– Молчи, дура! Не твое дело! – огрызнулся на нее хозяин и сказал сидящим за столом: – Однако, пора! Я пойду одеваться! Михей, помоги мне одеться! – обратился он к лакею.
Через четверть часа отец семейства вышел в костюме гребца. Сановитый лакей следовал за ним сзади и еле сдерживал смех. Жена скорчила гримасу и произнесла:
– Вот мерзость-то! Маменька, спустите драпри на балконе, – прибавила она. – Ведь он нас конфузит в эдаком виде. Смотрите, вон у калитки народ останавливается и пальцами указывает.
– Мама, а мама! Папа Петрушку будет показывать? – спросил маленький мальчик. – А где же у него ширмы и куклы?
– Нет, душечка, твой папа вот тут по улице колесом будет кататься, – ответила мать.
Все засмеялись. Даже чопорная гувернантка и та фыркнула.
– Прекрасно, прекрасно! Чем бы мамаше наставлять детей, а она вон что! – заметил муж.
– Сначала нужно перестать быть шутом гороховым, а потом…
– Marie, Marie, devant les gens[3]3
Перед людьми (фр.).
[Закрыть]…
– Что devant les gens?! Вы уж и так перед всей прислугой осрамились.
– Тс! Ну, довольно!
– Дурак! Как вы мне смеете шикать? – вскрикнула жена и вскочила из-за стола.
Муж вышел в сад. Мамка, как увидала его, так и разразилась хохотом.
– Ах, барин, да какие вы смешные! У нас в городе вот точь-в-точь такой фокусник на двор приходил и на носу дугу лошадиную держал. Тоже и в балагане на Масленой… – Молчать! Как ты смеешь, деревенщина! Да знаешь, что я тебя в бараний рог! – крикнул отец семейства на мамку, кинулся на нее со сжатыми кулаками и остановился как вкопанный, ибо с балкона раздался возглас:
– Полоумный! Что вы? Ведь у ней может с испугу молоко броситься в голову!
У калитки стояла толпа и смотрела на барина. В полосатой фуфайке без рукавов, в красной шапке и в золотых очках, он действительно был забавен и походил на клоуна. Когда он ринулся на мамку и тотчас же остановился, стоявшая у калитки баба-торговка произнесла:
– Из новых, видно, акробат-то? И ломаться не умеет. Хотел перекувырнуться и боится…
– Эй, почтенный! Тиролец! Как тебя? А ты петухом попой! – крикнул разносчик с сигами копчеными и тотчас же прибавил: – Когда я по зиме, братцы, был в цирке, так вот такие лешие на колокольчиках играли и петухом пели. Умора, да и только!
Все это доходило до ушей жены закостюмированного отца семейства. Она молчала, и крупные капли слез катились по ее щекам.
– Прочь отсюда от калитки! – заревел на народ отец семейства и вырвал палку из георгин.
– Ха-ха-ха! – раздалось за калиткой. – А ну-ка, задень нас, тронь, так мы тебе ребра-то пересчитаем, даром, что ты акробат и черту кум!
– Михей! Зови дворника! Гони их вон!
– Ах, какое унижение! – ломала руки барыня.
– Маша, успокойся! – упрашивала ее старушка.
– Братцы, еще черти идут! Новые черти! – послышалось на улице, и толпа расступилась.
В калитку сада вошли еще пять гребцов в таких же костюмах, как и хозяин. Сзади их шел рулевой в фуражке с большим козырем и в сюртуке с золотыми пуговицами.
– А мы за вами. Пора сгребаться! Нет ли у вас холодного чаю? – говорили они.
– Господа, у меня жена больна. Я готов. Идемте, едемте, – отвечал хозяин, заминая чай.
Гребцы и рулевой вышли из калитки и направились по середине дороги. Толпа зрителей следовала сзади.
– На другой двор отправились…. Здесь, видно, не подали медяков-то, – говорил народ. – Жадные ноне господа стали насчет фокусников-то. Вот этот в сюртуке-то, надо полагать, у них шарманщик… – указывали они на рулевого.
– А где же у него инструмент?
– Да, может, в кабаке оставил. Народ тоже пьющий!
– А что, ребята, не прожертвовать ли нам им гривенник? Они живым бы манером кувыркание нам сварганили.
– Не стоит! Зайдут к тароватому на двор, так и задарма все представление увидим.
А гребцы шли, слушали все это, перешептывались и улыбались.
Певчий-любитель
Утро. Весело сияет солнышко, радостно чирикают воробьи, поклевывая навоз на дороге. День праздничный. У ворот одной из дач с тенистым садом стоит дворник в новой ситцевой рубахе, покуривает папиросу, свернутую из газетной бумаги, и, щурясь, бесцельно смотрит вдаль на поднятое проезжающими чухнами облако пыли. К нему вышел из ворот кучер в серой нанковой безрукавке, молча взял у него из рук окурок, пососал, выпустил изо рта струю дыма и, плюнув, сказал:
– Который-то теперь час? Поди, уж закладать пора.
– Куда сегодня трафите?
– Все туда же, в город. Ведь он у нас там церковный староста. Сегодня, говорят, он, окромя пения, Апостола за обедней читать будет. Большая охота у него к церковному.
– Что ж, это хорошо, это для души пользительно. А то вон иные из купечества больше к кутежам да к пьянству охоту чувствуют и чтоб с цыганами…
– Насчет хмельного баловства и он чувствителен, только не с цыганами, а ему беспременно, чтоб певчие, дьячки, попы или дьяконы были. Тут вот дьячок обучал его, чтоб верха на Апостоле брать, так такие хмельные происшествия у нас происходили, что боже упаси! Сначала битый час по книжке ревут, а потом карусель насчет пунша. Маменька евонная набожная старушка, а уж и она молила Бога, чтоб он на него сипоту наслал, потому невтерпеж стало. А соберутся к нему певчие на спевку, так меньше полуведра и посуды на стол не ставят. Нарочно и на дачу его увезла, чтоб от певчих удалить. Эво, как он дикуется!
Действительно в это время в саду около решетки кто-то во все горло рявкнул басом «и всех и вся». Проходившая мимо решетки девочка с кринкой молока в руках так и шарахнулась в сторону, расплескав молоко.
– Ага! Испугалась? – послышался из сада возглас. – Вот, маменька, вы все говорите, что у меня и голоса нет и чтоб я этот певческий механизм бросил. Ан выходит совсем напротив. Сейчас подкараулил девочку, рявкнул, изволите видеть – ни жива ни мертва от страха. На, милая, тебе гривенник на ягоды.
В решетку просунулась рука и подала девочке деньги. Та, робко озираясь, взяла монету и тотчас же прибавила шагу, удаляясь от решетки.
– Девчонку подкараулил, – продолжал кучер. – Большое это у него удовольствие, чтоб испугать кого-нибудь голосом. Он и меня пугает. Идем мы это по шоссе, я лошадью правлю, а он сзади. Все сидит молча, а потом ни с того ни с сего как рявкнет голосом из божественного… Сначала я и взаправду пугался, а потом как попривык к этой музыке, то хоть и не обробею, а все делаю вид, что как будто обробел, потому за это сейчас двугривенный в руки сует на манер как бы в утешение. – А лошадь не пужается? – спросил дворник.
– Как не пужаться! Раз даже понесла и опрокинула, потому на тумбу наехали. Экипажа на четырнадцать рублев попортили, да переносье ему о телеграфный столб повредили, но для него ведь все как с гуся вода. Приехал домой с нашлепкой на носу и смеется перед матерью. «Вот, – говорит, – маменька, у меня какая зычность в голосе: не токмо что человек, а даже жеребец моего вопля испугался».
– Ну, а она что?
– Она в слезы. «Погубишь ты, – говорит, – себя, Герасинька, погубишь через свое пение. Лучше бы, – говорит, – ты птицами насчет голубиной охоты занялся». У ней теперь такие мысли, что он в уме повредился. И ведь что удивительно: теперь церковное, а допреж того все с актерами возился и даже сам хотел на сцене представлять.
– Вавило! Ты что там лясы-то точишь? Закладай серого. Пора уж. Сегодня у нас архимандрит служить в церкви будет, так надо к встрече поспеть! – раздался из сада голос и тотчас же затянул «Прокимен глас пятый».
Кучер отправился в конюшню. Через полчаса он выехал из ворот в шарабане и остановился около калитки садовой решетки. У калитки, между тем, разыгралась следующая сцена: стояла пожилая купчиха в фуляровом платке на голове и полный, румяный молодой купец с белокурой бородкой, которая еле росла на жирных щеках. Купец был в фуражке с глянцевым козырем и имел в руках большую книгу в кожаном переплете с цветными закладками и сверток нот. Купчиха держала ковшик с квасом.
– Да хлебни ты, дурашка. Ну, что себя мучить, – говорила она, суя ему ковшик с квасом. – Шутка ли – с утра съесть две селедки и не пить ничего!
– Зато через это самое мой голос будет на манер как бы труба, – отвечал сын.
– Да ведь стомит тебя на жаре. Поедешь по солнопеку, а до города десять верст.
– Для голоса я всякие истязания готов претерпеть. Поймите вы, что сегодня отец архимандрит обещался благословить меня на чтение Апостола. Разве приятно вам будет, ежели я пищальным гласом начну и при всей публике осрамлюсь? Церковный староста взялся Апостола читать, и вдруг теноровое козлогласование! Ну, что за краса? Таранина знаете? Вот у него оттого такая и октава бархатная, что он наестся всякого соленья да и томит себя часа три без пойла, а перед тем как петь, хватит пару пива – ну, через это самое у него и раскат в голосе на манер как бы львиное рычание. Будьте покойны, от жажды в обморок не упаду, не барышня субтильная. А я теперь вот что: я поеду и всю дорогу буду солодковый корень жевать. Через это верховый бас приобретается.
– Да неужто пять глотков-то тебя попортят?
Сын выпрямился во весь рост и нараспев протянул:
– О, мати моя! Не соблазняй и не соблазнена будеши!
– Совсем дурак, совсем! – сказала она, выплескивая из ковша квас.
– Прелестные словеса из уст изрыгаются! Сын о благолепии храмового служения печется, а мать евонная дурака ему посылает. Однако не задерживайте и прощайте! Ктитору подобает раньше прихожан быть во храме. А ежели к тому же у меня охота к церковному пению и чтению, то следует на спевку поспеть, ибо я бас уставщик.
– Какой ты уставщик! Конечно, сам староста, своя рука владыко, так можешь и регентом себя назвать, а ты прислушайся к прихожанам-то – ропщут.
– Совсем не в ту жилу попали! Не только не ропщут, а даже комплименты моему голосу говорят.
– С тобой не сговорить! – махнула рукой мать. – Ну, прощай, Христос с тобой!
Она обняла сына за шею и хотела поцеловать, но тот вдруг вскрикнул и оттолкнул ее от себя.
– Что вы за шею-то меня хватаете! Вишь обрадовались! Ведь у меня затылок-то булавкой наколот. Разве можно так трогать! Словно ножом полыснули!
– Да для чего же ты это булавкой затылок-то накалываешь? Первый раз слышу.
– Для чего! Тоже для голоса. Через это свирепость… Этот совет мне один солдат-песенник дал, вот я и хочу попробовать. Ну, прощайте! Да целуйте аккуратным манером, а рукам воли не давайте.
Сын расцеловался с матерью, сел в шарабан и поехал. Лихой рысак помчался по дороге и тотчас же скрыл его в облаках пыли. Мать стояла и смотрела на пыль. До слуха ее доносился голос сына и слова: «На многие лета-а».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.