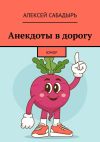Текст книги "Воскресные охотники. Юмористические рассказы о похождениях столичных подгородных охотников"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Любитель лечиться
Гость, средних лет мужчина с дельным и умным лицом, обрамленным подстриженной круглой бородой, вошел в гостиную и остановился в недоумении. Из следующей комнаты, прямо ему навстречу, выскочил, как бомба, хозяин дома, пожилой человек с маленькими бакенбардиками, и заметался по гостиной, размахивая руками, в которых были гимнастические шары. Он был без сюртука и жилета, в красной шерстяной фуфайке, в брюках, засунутых в теплые чулки до колен, и в шитых гарусных туфлях. Лицо его было красно, как пион, пот с него лил градом. Он вскакивал на диван, на стулья, соскакивал с них, ложился на ковер, поднимал ноги кверху и безостановочно продолжал размахивать шарами. – Здравствуй, Степан Степаныч! Садись. Я сейчас… Что смотришь в таком удивлении? – начал хозяин, задыхаясь от усталости.
– Смотрю, не в сумасшедший ли дом я попал, – отвечал гость. – Скажи, пожалуйста, что с тобой?
– Как что! Лечусь, гимнастикой лечусь. Сейчас вот обтерся весь льдом и теперь делаю активные движения. Еще пять минут, и я к твоим услугам. Подал бы тебе руку, но боюсь циркуляцию крови остановить. Я, брат, систему Матео побоку и заменил ее водолечением и гимнастикой. Глупая вещь, и только олухи могут верить этому модному итальянскому лечению. Что могут сделать крупинки Матео? Что такое крупинка, весящая четверть грана, сравнительно с человеческим телом, доходящим до четырех пудов? Вместо крупинок я теперь проглатываю каждое утро три бутылки декокта. Меня один старик, кавказский доктор, лечит, и декокт этот составляет его секрет. Да что ж ты ничего не возражаешь! – крикнул наконец на гостя хозяин.
– Что же мне возражать! Я могу на тебя только смотреть с сожалением.
– Скажите пожалуйста, какой жалостливый человек выискался! Ну, вот я и кончил.
Хозяин загрохотал шарами, бросив их на пол, и в изнеможении опустился в кресло.
– Людмилочка! Полотенце, скорей полотенце! – крикнул он.
Из соседней комнаты вылетело полотенце и ударилось ему прямо в лицо.
– Вот как у нас успокаивают больного человека, – продолжал хозяин и принялся отирать полотенцем лицо, руки, шею. – Жена, законная жена так делает, так что же уж ждать от прислуги! Ну, здравствуй, – протянул он руку гостю.
– Здравствуй. Но объясни мне, пожалуйста, от чего ты лечишься? – спросил гость. – Ведь ты здоров как бык.
– Словно сговорились! Вот и жена то же самое твердит. Так здоров, как бык! Это только так кажется. Во-первых, у меня ревматизм летучий; во-вторых, блуждающая почка; в-третьих, плеврит; в-четвертых, катаральное состояние слепой кишки, воспаление сальных железок кожи и даже есть указание на диабет, на сахарнистое изнурение.
– И ты все еще до сих пор жив, все еще не умер! – всплеснул руками гость.
– Жив. Но как жив? Жив благодаря только лечению. А желудок? Вот я третьего года очистил себя диетой и рвотой по системе Леруа, а теперь опять хромаю пищеварительными органами, и надо вновь чиститься.
– Но ведь лечить по системе Леруа строжайше запрещено. От этого может удар случиться, – возразил гость.
– Мало ли что запрещено, а все-таки лечат, и вот я на днях хочу пригласить такого лекаря. Тут есть один старикашка-ростовщик из поляков, так он лечит.
– Желудок не в порядке! – воскликнула из другой комнаты жена. – Да может ли у него быть желудок в порядке, когда он чуть не по целому гусю за обедом съедает!
– Для здорового желудка и два гуся нипочем, а это все-таки значит, что я болен, ежели от какого-нибудь гусиного филейчика да крылышка я уж чувствую изжогу и колики в желудке. Нет, надо опять чиститься по системе Леруа!
– Здравствуйте, Людмила Матвевна! – крикнул гость. – Пожалуйте-ка сюда. Я к вам с доброю вестью, я нашел арендатора на ваше имение, и очень выгодного. – Сейчас, Степан Степаныч! Здравствуйте!
И в гостиную выплыла рыхлая женщина в огненного цвета платье.
– Рекомендую! – указал на нее хозяин. – Вот моя мучительница, вот женщина, которая желает моей смерти, потому что только и толкует: «Брось лечиться, чего ты лечишься!»
– Да как же… Вообразите, даже делами перестал заниматься, – отвечала хозяйка, присаживаясь к беседующим.
– Как я могу делами заниматься, коли у меня расстройство серозного вещества мозговых завитков? Мне нужен умственный покой.
– Да. Представьте себе: вообразил, что у него какое-то повреждение в мозгу, и теперь лечится какой-то помадой, которую ему составляет полоумный немец из отставных провизоров. И от этой помады волосы у него лезут, как шерсть из шубы, съеденной молью. Скоро совсем оплешивеет.
– Лучше, матушка, с голой головой жить, чем с расстройством функций мозга! И помаду приготовляет не полоумный провизор, а доктор медицины Геттингенского университета, которому только здесь лечить не позволяют.
– Вы не поверите, как его доктора обирают! – продолжала жена. – Кажется, небольшой приют можно бы на эти деньги содержать. Доктору-гидропату платим, доктору, лечащему активной гимнастикой, доктору-аллопату, хирургу, доктору, лечащему его электричеством, фельдшеру, гимнастеру для произведения над ним пассивной гимнастики, да еще двум-трем коновалам, лечащим его народными средствами. Вчера дугой лошадиной терся и теперь кожей, содранной с угря, опоясался.
– Ты над народными средствами не шути! Они тоже имеют большой смысл! – погрозил жене хозяин. – Эмпирическая медицина – великая вещь!
– Однако к делу, – начал гость. – На имение ваше я нашел вам арендатора.
– Ну, вот за это спасибо! Ты не поверишь, Степан Степаныч, как мне нужны деньги на лечение. Ведь вот я на будущей неделе думаю консилиум докторов созвать. – Арендатор приедет к вам сегодня ровно в два часа, и вы с ним условитесь.
– Не могу я его в два часа принять. В два часа у меня сеанс электричества, а после этого я обязан лечь в постель и пролежать в абсолютном покое вплоть до обеда.
– Ну, после обеда.
– После обеда придет гимнастер и начнет надо мной пассивную гимнастику.
– Да уж эта пассивная гимнастика! Знаете, в чем она заключается? – сказала жена. – Является каждый день какой-то гигант-француз, разложит его в одном белье на диване и начнет дубасить его по спине, по животу и по всему телу кулаками. А то руки, ноги и шею выламывает у него. Даже смотреть жалко. Его ломают, а он стонет на весь дом.
– Послушай, но можешь же ты отложить твою пассивную гимнастику на какой-нибудь час и принять арендатора? – сказал гость.
– Не могу. Тут пунктуальность нужна.
– Тогда завтра поутру нельзя ли?
– Поутру я пью декокт и лежу в постели, покрытый клеенкою и шубами.
– Тьфу ты! Так когда же ты свободен?
– Да почти что никогда. Я целый день лечусь, чередуя одну систему за другой. Недугов-то, братец ты мой, много, так оттого. Ты думаешь, мне приятно лечиться? Я мученик.
– Ну, так и пусть твое имение пропадает без арендатора!
– Пусть пропадает, – согласился хозяин. – Конечно, здоровье важнее денег. Да вот еще как бы не забыть послать завтра за майором Риком. Что такое это за Рик? Пусть бы он меня от чего-нибудь полечил, – прибавил он.
– Ты за акушером пошли и у него полечись. Право, лучше будет. Почем знать, может быть, у тебя какая-нибудь и женская болезнь есть, – сказал гость, вставая с места. – Ну, прощай и сиди без арендатора! Прощайте, Людмила Матвевна, – пожал он руку хозяйке.
– Доктор-торпедист приехал! – доложил лакей.
– Ортопедист, а не торпедист! Дубина! Зови, зови его скорей! – засуетился хозяин.
Певица
– До-ре-ми-фа-соль-ля-си! Си-ля-соль-фа-ми-ре-до! До-фа-ля-до! Ми-соль! – раздается вот уже около часа в зале резкий и неприятный женский голос с аккомпанементом рояля, а в столовой, раздразненные этими звуками, так и заливаются дребезжащей трелью две канарейки, повешенные в клетках. Первый час дня. Воскресенье.
Из кабинета в прихожую выглянул полный, добродушного вида мужчина, лет сорока пяти, с приличной лысиной на голове, и сказал лакею:
– Игнатий, поди и попроси барыню, чтобы она хоть четверть часа прекратила свои сольфеджи! Я с одним умным человеком о делах разговариваю, и он поминутно морщится и замыкает уши, потому что он больной человек и у него нервы расстроены. Скажи, что я убедительно ее об этом прошу!
Через минуту в зале опрокинулась табуретка, с шумом хлопнула крышка рояля, и сильно напудренная дама, в папильотках на лбу и в белом кашемировом капоте с голубыми лентами, забегала в волнении по комнате.
– Это уж ни на что не похоже! Хотят убить дарование, уничтожить голос! – шептала она и прикладывала к красневшим глазам носовой платок. – Человек работает, испытывает всевозможные лишения, отказывает себе даже в необходимом, чтобы развить свой регистр и приобресть лишние ноты, а тут вдруг невежество тебе ногу подставляет! И кто же это? Муж! Муж! О господи!
Дама всплеснула руками и упала в кресло, пришедшееся как раз против зеркала, но вдруг при этом заметила, что во время отчаяния она совсем стерла себе правую бровь и осталась при одной левой. Это заставило ее быстро вскочить с места и отправиться в спальню, чтоб подрисоваться.
Зало на некоторое время осталось пусто. Вскоре в него вошел полный господин и, потирая лысину, посмотрел по сторонам, но, не найдя жены, крикнул:
– Антонина Андревна, ты где?
– Я здесь! – раздался голос из спальной. – Но не подходите ко мне! Вы изверг! Вы злодей! Вы Тамерлан! Вы Аттила! Вы невежество в квадрате, помноженное на варварство! Прочь от меня!
– Я хотел только поблагодарить тебя, что ты послушалась меня и сделала паузу своему пению. Я привык уже к твоим гаммам, но у меня был один больной старичок с расстроенными нервами, и уж он жался-жался, так что мне его даже сделалось жалко. Кроме того, у него такой ревматизм, что его всякий резкий звук раздражает.
– «Резкий»! Скажите пожалуйста, а у меня разве резкий голос? Как вы смеете называть мой голос резким, коли об нем сам Капуль отнесся с уважением! – воскликнула жена и выскочила из спальной.
– Когда же это было?
– Как когда? В концерте у графини Носищевой, когда я пела арию из «Пророка».
– Не слыхал, не слыхал. Знаю, что ты пела из «Пророка», сконфузилась и сбилась, а похвалы не только что от Капуля, но ни от кого не слыхал. Помню, что он, слушая твое пение, пожимал плечами!
– Врете вы! Когда я подошла к нему и спросила, как он находит мой голос, он рассыпался в похвалах, и вот с тех пор, в память этого, я ношу медальон с его портретом. – Еще бы, ты об этом сама его спрашивала! Он человек, понимающий приличие, не брякнуть же ему: «Кошатина, мол, у вас, сударыня, а не голос».
– А мой учитель, мосье Фиорованти? Зачем же он тогда продолжает меня учить пению и даже увеличил число уроков вместо одного раза в неделю на два?
– Чтоб пятирублевки брать и обирать их как можно побольше.
– Ах вы, дрянь эдакая!
– Кушать подано! – доложил лакей, появляясь в дверях, и скрылся.
– Ну, полно, останови свое расходившееся сердце и пойдем завтракать, – обратился муж к жене, протягивая ей руку.
Жена ударила его по руке и, откинувшись назад, строго взглянула на него.
– Да вы с ума сошли! Вы очень хорошо знаете, что ежели я пою вечером перед публикой, то я не завтракаю и не обедаю, а только выпиваю поутру чашку шоколаду, а во время обеда сырое яйцо и бульон без хлеба… А ведь сегодня мне предстоит подвиг нешуточный. Я буду «Casta Diva» из «Нормы» петь.
– Ах да, я и забыл про твое обезьянничанье с Патти. Только скажи мне, пожалуйста, добровольная мученица, перед какой же это публикой ты сегодня будешь петь?
– Как перед какой? Ведь сегодня вечер у Татьяны Борисовны, там собирается музыкальное общество, поют и играют.
– Понимаю, но все-таки это не перед публикой, а перед гостями. Перед настоящей публикой ты всего только один раз и пела в зале Кононова в антракте спектакля, и лучше бы, ежели не пела…
– Отчего же? Мне даже поднесли букет.
– Знаю я этот букет-то! Мне самому пришлось заплатить за него по счету из цветочного магазина.
– Это было недоразумение и больше ничего. Вы заплатили не за букет, а за цветы, которыми было убрано мое платье. Вы прекрасно помните, что я была в платье с живыми цветами и произвела эффект.
– Поразительный! Ты даже сбила оркестр. Охота, мой друг, у тебя страшная, но участь-то горькая. И наконец, я тебе дам благой совет: уж ежели ты будешь сегодня петь у Татьяны Борисовны, не пой ты, Бога ради, из «Нормы», а прощебечи что-нибудь вроде «Безумной страсти» или какой-нибудь другой романсик. Романсики у тебя сноснее выходят.
– Сноснее! Как это хорошо! Вы в пении столько же смыслите как свинья в апельсинах. Я три недели разучивала «Casta Diva», а он: романсик! Да, наконец, и Казимир Севастьянович уже разгласил всем, что я буду петь знаменитую арию из «Нормы». Идите завтракать и оставьте меня в покое. Мне вредно горячиться перед вечерней работой. Да вот что: пошлите сейчас Игнатия за коляской. Я недавно прочла в газетах, что Патти и Нильсон всегда катаются перед пением.
– Так ведь то Патти и Нильсон, а ты Голубцова!
– Не сметь меня поддразнивать и разговаривать со мной таким тоном, а то я назло вам отравлю вашего Трезора. Этот проклятый пес, как только я запою, сейчас выть начинает.
– За что же? Это самый настоящий ценитель-то твоего голоса и есть. Он с тобой дуэт петь желает, а ты его отравить! Голубцова и Трезор! Думай, пожалуй, что он итальянец Трезорини.
– О, это уж слишком! Вон! Ежели бы я не сбиралась петь сегодня вечером, я бы выцарапала вам глаза. Идите, презренный профан!
– Конечно, пойду. Без завтрака не останусь.
– Да смотрите, заприте за собой двери в столовую. А то запах этих проклятых котлет только раздражает мой аппетит. Да не стучите ножами! Это тоже меня тревожит. Ах, боже мой, как есть хочется! – вздохнула женщина. – Кажется, я не выдержу до вечера.
– А ты покури. Табак отбивает аппетит, – посоветовал муж.
– Да вы, кажется, из сумасшедшего дома выскочили! Кто же из певиц курит? Я лучше пошлю за конфектами и буду их есть. Сладкое тоже отбивает аппетит. Пошлите ко мне Игнатия!
Муж махнул рукой и направился в столовую.
Через минуту в зале снова раздались дикования певицы.
– До-ре, до-ми, до-фа, до-соль-до-ля, до-си! – слышалось на всю квартиру.
– Игнатий! Поди и спроси у горничной мне немножко ваты. Я хочу себе в уши заткнуть! – приказал хозяин дома лакею, сидя один в столовой и разрезая котлету.
Любитель аквариума и террариума
Поручик Денис Давыдыч Туркачев вернулся со службы из канцелярии и позвонился в колокольчик своей квартиры. Ему отворил двери денщик, рябоватый парень с глупым лицом и очень странно расположенными щетинистыми усами: один ус рос щетиной книзу, а другой кверху. Денщик был в куртке, сделанной из старого поручицкого мундира путем обрезания фалд, и в грязном переднике.
– Здравия желаю, ваше благородие! – проговорил он, вытянув руки по швам.
Поручик сбросил с себя пальто.
– Ну что, Амос? Все у нас благополучно?
– Никак нет-с, ваше благородие. Пьявки по всей хватере расползлись, да я их поймал.
– Так я и знал! Ты, верно, опять, скотина, кормил ими змею без моего приказания, не завязал банку тряпкой, и они расползлись.
– Никак нет-с, ваше благородие. Извольте сосчитать, пьявки все целы. Только одна в самоваре сварилась, да и вареная цела.
– Как в самоваре? Как вареная? Что ты брешешь!
– Так точно-с. Стал я сегодня поутру после вас из самовара уголья вытряхать и воду выливать, глядь – наша пьявка и уж сварилась, сердечная.
– И значит, я этот пиявочный навар сегодня поутру пил?
– Так точно, ваше благородие, пили. Вчера вы изволили из самовара в маленький охварум теплой воды прибавлять и оставили самовар на окне, рядом с пьявками, а она, подлая, должно быть, из банки вылезла да в самовар и заползла.
– Действительно, это так. Я вечером забыл на окне самовар, а в крышке самовара у нас дырка. Но банку с пиявками я завязал тряпкой, хотя и кормил ими змею.
– Они, ваше благородие, тряпку прогрызли.
– Фу, мерзость какая! – плюнул поручик. – Как же ты, братец, ставишь самовар и не посмотришь, что в нем на дне лежит. Ну, ежели бы туда сова забралась, ты бы и сову мне сварил. То-то я чувствовал, что чай имеет какой-то особенный вкус и запах! Тьфу! Сове давал говядины?
– Давал, ваше благородие. Днем не жрет. Они такая тварь, что привыкши в потемках…
– Ну, давай обедать. Живо!
Поручик вошел из прихожей в комнаты. На окнах стояли стеклянные террариумы и аквариумы. В них плавали рыбки, головастики, асколоты, прыгали лягушки, бегали ящерицы. В кабинете висели клетки с птицами, и на книжном шкапу сидела, как тумба, сова и пучила круглые желтые глаза.
– Это что такое! – воскликнул поручик. – Амос! Кто лампу на письменном столе разбил?
На письменном столе действительно была опрокинута набок лампа с разбитым стеклом и зеленым колпаком. – Сова, ваше благородие, разбила. Больше некому. Говядину я ей начал силой в рот пихать, а она, подлая, залетала по комнате, да, должно быть, сослепа и разбила. Ведь они, ваше благородие, днем что слепые. Уж она металась, металась по горнице. Думал, что убьется еще, ну, я ее и бросил.
– Ах, несчастный человек! Да кто же велел тебе сову насильно кормить? Не жрет – ну и не надо. Что же это такое! Никуда из дома отлучиться нельзя! – всплескивал руками поручик. – Вчера морские свинки и кролики новые походные сапоги прогрызли, а сегодня сова лампу разбила. Отчего ты не смотришь? Берегись у меня! Еще что-нибудь случится – непременно отошлю тебя в команду с жалобой.
– Виноват, ваше благородие. Сегодня у нас еще грех.
– Что такое?
– Белые мыши из клетки разбежались. Этих уж не мог словить. Стал я клетку чистить, а они – трах, выскочили да в щели под пол. Младенчики остались, а матки все под полом.
– Еще того лучше! Ну, и корми сам младенчиков, как знаешь, а околеют – я с тобой по-свойски!.. Помилуйте, с этим человеком я не могу никакой охоты завести! Кто попугая выучил ругаться скверными словами? Ты.
– Никак нет-с. Когда вы приказали с ним разговаривать, я ему одни божественные слова говорил: аллилуйя, аминь и все эдакое.
– Но отчего же он ругается? Ведь хоть я и холостой человек, а ко мне иногда и дамы заходят. Вон вчера Раиса Павловна… Подошла к клетке и говорит ему «попочка», а он ей в ответ такое слово, что я даже со стыда сгорел. Ну, куда я теперь с таким попугаем? Ведь его надо за два двугривенных продать, а он тридцать рублей стоит. Боже мой, что мне с тобой, Амос, делать! Когда я в канцелярии, у меня все время сердце не на месте, все думаю, не набедокурил ли ты что-нибудь дома. Слова в бумагах даже не те выходят. Хочу написать «пятифунтовые нарезные», а пишу «змеевидные ящерицы». Вчера даже был такой случай. Хорошо еще, что писарь при переписке заметил и спросил, не ошибка ли это? Хороший писарь-то, осмысленный, а ведь другой, что написано, то и перепишет. Вон Федосеенко. Тому напиши вместо «ваше превосходительство» «ваше крокодильство» или «Маша душка» – он так и перепишет, не сообразя, что это деловая бумага. Просто хоть охоту бросай, а то на гауптвахте насидишься да еще, чего доброго, в отставку велят подать. Ты, братец Амос, хоть бы пожалел меня.
– Я и то, ваше благородие, жалею, – отвечал денщик и заморгал глазами.
– Давай обедать. Ах да! Ну, что наши тараканы?
– Не разводятся, ваше благородие, все вон ушли, а я их из соседской квартиры целый горшок притащил. Они, ваше благородие, холостого дома не любят. Вот ежели бы дом был семейный – они от одной пары сейчас бы расплодились. Таракан бабу любит. Как баба в кухне копошится – так и таракан водиться начинает.
– Однако не жениться же мне на первой встречной-поперечной, чтоб тараканы водились, – сказал поручик и крякнул с неудовольствием. – Э-эх! Ну, чем мы теперь будем наших соловьев и синиц кормить!
– Буду по чужим-с кухням тараканов ловить, коли в нашей не заводятся, – отвечал денщик.
– В том-то и дело, что ты по чужим-то кухням – лишь кухарок ловить, а не тараканов. Из-за этого я и хотел своих завести. Ты уйдешь из квартиры, а к нам заберутся и раскрадут все.
– Не заберутся, ваше благородие. Нас все боятся. Вы то возьмите: у нас шкилет смертный в доме, сова, змея, две черепахи. Вас уж и то даже не обер-офицером называют, – сказал денщик и запнулся.
– А как же?
– Не смею сказать, ваше благородие. Стыдно. Слово такое конфузное.
– Говори, я тебе приказываю.
– Фармазон.
Поручик расхохотался.
– Ну, тут особенно постыдного ничего нет. А что нас все боятся – ты это врешь. Вот, например, рыжая кухарка. Я ее несколько раз в кухне у тебя видел.
– В кухню при мне забегает, а в горницы – ни-ни. Да и в кухню без меня ни в жизнь не зайдет, хоть я и двери отворивши оставлю.
– Отчего же?
– Рожон супротив ее у меня есть, пугало. Как уйду из кухни, возьму да трех лягух у дверей за ноги на веревку и привяжу – ни за что не подступится.
– Ну, давай обедать. Нечего бобы разводить. Только, бога ради, не накорми меня чем-нибудь вроде утренней ухи из пиявок, – сказал поручик.
– Что вы, ваше благородие, помилуйте! Живная наша гадость вся цела, окромя мышей и одной пьявки. Извольте хоть перечесть, – успокаивал офицера денщик. – Пожалуйте за стол садиться, сейчас суп подам.
Поручик снял сюртук и сел за стол.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.