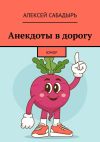Текст книги "Воскресные охотники. Юмористические рассказы о похождениях столичных подгородных охотников"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Поэтесса
В роскошный кабинет редактора входит тощий субъект женского пола с желто-лимонным лицом.
Лета – за сорок, одежда не только не представляет франтоватости, но даже отличается некоторым беспорядком: из-под корсажа торчит конец шнуровки, из-под шляпки свесилась на лоб косма волос. Женский субъект входит робко и останавливается перед редакторским столом. Взор блуждающий. В руках у субъекта несколько листов бумаги, свернутых в трубочку и перевязанных розовой ленточкой. Редактор что-то предчувствует недоброе и морщится.
– Вы, monsieur, редактор? – спрашивает субъект.
– Точно так, сударыня, к вашим услугам… Что угодно? – отвечает тот, приподнимаясь с места.
– Вот видите ли… Я бы хотела… Но нет, мне так совестно… Здесь я вижу посторонних лиц, а я бы хотела наедине.
Двое бородатых сотрудников, сидевших около письменного стола, двусмысленно улыбаются и, поднявшись с места, уходят в другую комнату.
– Могу я быть с вами откровенна? – спрашивает женский субъект.
– Сделайте одолжение, сударыня. Прошу покорно садиться.
– Мерси! Лицо ваше мне кажется добродушным, а потому я не думаю встретить насмешек. О, monsieur! Ежели бы вы знали, сколько я их переношу за тот труд, к которому чувствую призвание. Я штаб-офицерская дочь и воспитывалась в институте, где кончила курс одной из лучших. Monsieur parle fransais?
– Oui, madame, mais… Я бы вас попросил говорить по-русски.
– Я не мадам, господин редактор, я девица… настоящая девица. Однако к делу. Мой папаша был израненный полковник, но умер, оставив меня без средств. Я служу в гувернантках и в часы досуга вдохновляюсь поэзией. Я пишу стихи. Эта божественная искра заставляет меня иногда забывать все окружающее. Я бы хотела видеть свои стихи в печати. Вот тут плод моих бессонных ночей.
Поэтесса протянула сверток.
– Вы желаете поместить у нас в журнале ваши стихи? Очень хорошо. Тогда потрудитесь оставить рукопись и зайти недели через две за ответом.
– О, нет! Это ужасно! Я заболею в эти две недели от ожиданий. Не можете ли вы сейчас прочесть и сказать «да» или «нет»? Кое-что я вам объяснила бы. Здесь у меня стихи написаны на всякие случаи, но есть и любовные, например «К жгучему брюнету». Тут говорится о лобзаньях. Но, ради бога, не подумайте, чтобы я сама испытывала эти лобзанья! Нет, господин редактор, я девица и до сих пор такая же, как родилась. Лобзанья и знойная страсть, выраженные здесь, – не что иное, как мечты, поэтическое настроение. Знаете, что из-за этих мнимых лобзаний я уже раз пострадала. Жила я в гувернантках у одного купца, ребятишки похитили у меня мои стихи и показали своему отцу, и что ж вы думаете? Он прогнал меня из дома, заподозрив, что я бог знает какая! «Какая, – говорит, – ты для детей учительница и какой пример можешь моим дочерям подать, ежели со жгучими брюнетами лобзаешься!» Каково это безвинно-то, и к тому же от купца, и дочери заслуженного полковника!
– Мы прочтем, сударыня. Вы потрудитесь оставить и зайти… ну, хоть через три дня… – смягчается редактор.
– Через три дня? Да ведь и это вечность! Я даже думаю, что вы не будете совсем читать. Я потому это говорю, что не может быть, чтобы люди, прочитавшие плоды моей музы, не поместили ни одного стихотворения, но до сих пор никто из редакторов, куда я ни обращалась… А между тем всякий увидит, что это писано кровью наболевшего сердца. Одну тетрадку я издала на свой счет в виде брошюрки, но теперь я без средств. С болью в сердце продала я папашенькину енотовую шинель, оставшуюся мне в наследство, и издала на эти деньги с прибавкой двух браслетов. Шинель я прочила себе на салоп, и теперь без салопа. Сжальтесь и напечатайте. Я умру, не видя себя в печати!
– Мы прочтем, сударыня, – отбояривался редактор.
– Прочтите сейчас и оцените. Смейтесь лучше в глаза, чем за глаза. Знаете, что со мной сделал журнал «Мотылек»? Послала я туда несколько стихотворений и между тем одно – «Страстный поцелуй». Жду, и вдруг что же? Через два номера в журнале в почтовом ящике напечатан такой ответ: «Анне Голубинской…» Это мое имя и моя фамилия. «Целуйтесь с брюнетом, блондином и даже рыжим, обнимайтесь хоть со всеми троими разом, но, щадя вашу скромность, не сообщайте нам об этом ни в стихах, ни в прозе». Каково это для девицы-то! Все начали надо мной смеяться, семейство, где я жила в гувернантках, прогнало меня как позорную женщину, и я четыре недели после этого пролежала в больнице в горячке. Вдруг и у вас в газете я встречу подобный же ответ? Я с ума сойду. Прочтите, господин редактор, сейчас…
– Нам некогда, сударыня. А что до печатного ответа, то мы таковых совсем не даем, значит, вам и опасаться нечего. Но предупреждаю вас: лирических стихов и вообще, где трактуется о любви, мы у себя не помещаем.
Редактор поднялся с места, давая знать, что аудиенция кончилась.
– Какие же стихи вы помещаете? – приставала к нему поэтесса.
– На разные современные темы.
– У меня и современные темы есть, хотя это и не совсем вяжется с божественным даром поэта. Здесь у меня есть «На открытие нового моста», «На выпадение первого снега», «К музам», по поводу нового театра. Вы прочтите. Ах, что я за эти современные темы вытерпела! В то семейство, где я живу в гувернантках, ходит один пожилой отставной капитан. В душе и сердце – циник. И раз что же… Сидим мы за обедом, а он мне такие слова: «Вот, Анна Петровна, вы все ищете современных тем для ваших стихов, так я вам могу дать самую современную тему. У меня легавая собака Диана девятью щенками ощенилась, так не угодно ли вам написать стихи на ощенение…» И тут, господин редактор, он собаку назвал не собакой, а тем неприличным словом, которым называют собачий дамский пол. Я стыжусь выговорить это слово, а дети подхватили это слово и теперь я у них иначе не называюсь как этим именем. Прочтите сейчас мои стихи, – умоляла редактора поэтесса.
Редактор еле удерживался от смеха.
– Скорблю, сударыня, о ваших страданиях, но сейчас читать не могу. Я не имею ни минуты свободного времени, – проговорил он, поклонившись. – Оставьте рукопись и зайдите за ответом.
– Нет, я не могу допустить, чтобы над моими произведениями смеялись в мое отсутствие! – воскликнула поэтесса и, схватив рукопись, бросилась вон из кабинета.
– Не в эту дверь, сударыня! Это во внутренние комнаты! – кричал ей вслед редактор и указывал на выход.
Барин-повар
Часовая стрелка на бронзовых часах в гостиной отставного полковника Игоря Сократыча Катинева близится к цифре пять, а в прихожей раздаются звонки за звонками. В гостиную входят гости, приглашенные на обед. Появились: бесцветный молодой человек во фраке и с истощенным лицом; пестро одетая пожилая девица с подведенными бровями и широчайшим пробором на темени, который она тоже старалась закрасить и не смогла; полицейский чиновник очень добродушного вида и коренастый усатый интендант с орденом на шее. Хозяйка приветствует входящих гостей.
– А где же сам глава и повелитель вашего домашнего участка? – спрашивает полицейский чиновник, снимая шпагу и ставя ее в угол.
– Где – и спрашивать не надо. Само собой, в кухне. Ведь вы знаете его слабость. Стряпает. С утра стучит ножами, – отвечает хозяйка. – Сегодня чуть не ослеп от своей стряпни. Поджаривал он петушьи гребни в масле, наклонился к сковороде, чтоб понюхать, масло брызнуло и прямо ему в лицо. Вот какие два волдыря вскочили! Другой бы плюнул и ушел от плиты, но ему неймется, и он все-таки возится около плиты. Садитесь, пожалуйста. Ну, что у вас нового?
– Пьяные одолели. Вчера возили-возили в участок – истинное наказание! И с нарушением тишины и без нарушения, в чувствах и без чувств. Двадцать три души.
– Ах, я не про участок… Я вообще.
– А ведь другого, сударыня, я и не знаю. Во как занят по службе! И день и ночь…
Полицейский чиновник провел рукой по горлу и крякнул.
– Вот прежде, – прибавил он, – когда в нашем участке танцкласс был и я туда ходил по наряду, то попадались и пикантные новости. Впрочем, вчера попался очень замечательный вор. Шиньон и вставные зубы украл. – Женский шиньон? Скажите пожалуйста!.. Это очень любопытно. Как же это так?..
– А вот, извольте видеть, в каком смысле был составлен протокол…
Но тут в гостиную вошел хозяин. Это был толстый мужчина с двойным подбородком и усами через губу. Лицо его было красно как вареный рак, и пот с него лил градом. На носу и на щеке действительно сидели два волдыря. Рукава отставного мундира без погон были засучены, а тучное чрево опоясано передником.
– А, друзья-приятели! Все в сборе. Очень рад, очень рад! – возгласил он. – Тит Савиныч!
Хозяин растопырил руки и хотел обнять полицейского чиновника, но тот отстранил его.
– Тише, тише ты! У меня сегодня мундир новый, я по начальству являлся, а ты весь в муке. Давай руку.
– Да и рука в масле. Ну да ничего – оботрешь. Боже мой! Марья Ивановна и с дочкой-невестой! Больше чем рублем подарили, что пожаловали. Вера Семеновна! Анатолий Митрич! Сто раз спасибо за посещение! Ну а ты, интендант, иди в мои объятия. Муки бояться тебе нечего. Ты целый век около нее трешься. К тебе много муки прилипало.
– Только уж и мýки же я выношу от этой муки´!
Интендант вынул фуляровый платок, прикрыл им грудь и обнялся с хозяином.
– А каким обедом я вас, господа, угощу, так просто пальчики оближете! – продолжал хозяин. – И все моей собственной стряпни. Во-первых, арестантские щи из зареза… Что вы смеетесь? Да лучше арестантских щей и не бывает. Всю заработку, канальи, прожирают на щах. Ну, разумеется, я припустил туда самой жирнейшей грудинки. Капусту с девяти часов утра варю. Так разварилась – что одно пюре сделалось. Потом настоящий монашеский квас. Монахи насчет квасу собаку съели.
– Ты что это хромаешь-то? – спросил его полицейский. – Батюшки, да у него на одной ноге сапог, а на другой туфля!
– Молчи, не перебивай! Это я третьего дня стряпал у князя Таныгина бурлацкую уху из леща и стерляди и уронил себе кастрюлю на ногу, так зашиб, и вот теперь нога распухла, и я не могу сапога надеть. Сам, батюшка, князь ко мне приехал, еле поднялся по лестнице от своей подагры и говорит: «Игорь Сократыч, иди и владей моей кухней. Добра у меня много, а порядка нет. А ты, говорят, великолепно бурлацкую уху стряпаешь!» Уж и завинтил же я ему варево! Приправы никакой, кроме соли и вот эдаких громадных луковиц. На руках потом после обеда меня качали!
– И охота это вам со стряпней возиться, – заметила дама, оправляя на дочке бантик.
– Не могу-с – слабость. Меня хлебом не корми, а дай постряпать, – отвечал хозяин. – И доложу вам, явилась у меня эта слабость в Крымскую кампанию, когда мы около Карса стояли. Скота вдоволь, и стал я себе стряпать битки. Бывало, надробишь мяса на лафетном колесе да на листовом железе на угольях… Восторг! Угостил одного офицера – все ко мне: Игорь Сократыч! Игорь Сократыч! Весь батальон кормил. Потом шашлык им закатывал. И вот с той поры…
– Сделался полоумным, – прибавила жена.
– Во фрунт! Руки по швам! Как ты смеешь начальство свое перебивать! – шутливо крикнул на нее муж.
Все засмеялись. Жена сначала опешила, а потом сказала:
– Дурак.
– Игорь Сократыч, ну что же дальше-то? – приставали к хозяину гости. – Вы ведь еще не все меню обеда нам рассказали.
– А вот сейчас-с. На соус я вам дам рубцы. Так состряпаны, что и не поймете, что вы едите: макароны ли, тесемки ли от юбок, белую писчую бумагу или вязигу. Два дня в молоке их мочил, три часа ножом скоблил.
– Что же это такое – рубцы? – спросил бесцветный молодой человек, вздевая на нос пенсне.
– А бычачий желудок – требуха.
– Ну, тогда я их и есть не буду.
– Как не будешь, коли я тебе место в конторе князя Таныгина доставил? Нечего сказать, хороша благодарность! Я человека на полуторатысячный оклад поместил, а он кобенится. Да ты думаешь, что такие рубцы, что на мостах продают? Нет, брат, у меня без зелени. Шпинату этого внутри ни капли не найдешь.
– Все равно я есть не буду. Вы бы еще вздумали кишками кормить! Я не кошка.
– Врешь, будешь! А нет, так я и за пазуху наложу.
– Игорь Сократыч, а на жаркое что? – щуря подведенные глаза, спросила пожилая девица.
– Что на жаркое – это мой секрет. Когда съедите, тогда и скажу, – отвечал, таинственно улыбаясь, хозяин. – Но предупреждаю вас, что все блюда будут русские.
– Да полно тебе! Лучше вперед скажи, – проговорил интендант.
– После травника – изволь, скажу, а теперь пойдем и перед обедом травнику по чарке хватим. А травник у меня на сенной трухе настоян. Интендант, чувствуешь? У тебя бы сенную труху ветром раздуло, а у меня в дело пошла.
– А по-нашему, коли уже арестант… виноват! А по-нашему, коли уж человек начал давать показания, то надо и продолжать, – сказал полицейский. – Замахнулся – все равно что ударил. Ну, говори сейчас, что у тебя на жаркое будет, а нет – я и травник пить не пойду.
– Вера Тихоновна, сказать им, что ли? – спросил муж жену. – Ну, что их томить!
– Да говори! Кто тебе мешает!
– На жаркое – коровье вымя!
– Ах! – вскрикнула пожилая девица и закрылась платком.
– Катенька, выдь вон, – заговорила дама. – Вы забываете, сударь, что здесь невинная девушка, институтка, – упрекала она хозяина. – Разве это разговор для гостиной?
– Отчего же? Что тут такого? Неужели ваша дочь до сих пор уж и коровьего вымени не видала?
В это время раздался звонок, и в гостиную вошел толстый пожилой мужчина с бульдогообразным лицом.
– А, мой новый лучший друг! – воскликнул хозяин. – Тит Савиныч, позволь тебя познакомить, – обратился он к полицейскому. – Захар Ульяныч Ульянов, старший повар князя Таныгина.
Полицейский протянул было руку, но, услышав слово «повар», попятился. Дамы переглянулись. Хозяйка сплеснула руками и прошептала:
– Только этого недоставало! Повара – и на обед пригласил!
Повар неловко раскланивался с гостями.
– Теперь, господа, все гости в сборе, так травничку чарочку, а потом и за стол! – кричал хозяин.
Пожарный-любитель
Званый вечер. Танцуют под рояль, а одна миловидная молоденькая девушка чуть не со слезами на глазах сидит около своей мамаши в чепце с развевающимися лентами. Мамаша сердится и потрясает лентами чепца. Их утешает хозяйка дома.
– Позвольте, я как-нибудь устрою, чтобы к Катеньке переходили кавалеры, – говорит она. – Нехорошо не танцевать молоденькой девушке.
– Не надо, Прасковья Павловна. Пусть ее посидит. Ведь не умрет оттого, что не станцует первую кадриль, – останавливает хозяйку дама.
– К тому же у меня и нога болит, – прибавляет девушка.
– Ну, как хотите. А все-таки, Анна Михайловна, я вам советую сделать большой выговор Игнатию Петровичу. Как же это возможно: пригласить девушку на первую кадриль и вдруг на вечер не явиться. А относительно вас, Катенька, я даже удивляюсь, как это вы могли ему поверить. Совсем неинтересный кавалер! Помилуйте, у него только одни пожары и на уме. Ничего не делает и только таскается по пожарам. И дались же ему эти пожары! Ни одного не пропустит. Неужели вы думаете из него извлечь что-нибудь серьезное?
– Ну, все-таки он со средствами и не кутила, а вы сами знаете, как нынче редки хорошие женихи, – отвечает за девушку мать.
– Пустое! Ну что за радость иметь полоумного зятя! Ведь он помешался на пожарах. Устроил у себя в квартире электрические звонки от подъезда, и городовой даже ночью дает ему сигнал, что пожар. Он вскакивает с постели, надевает высокие сапоги и едет. И ведь ежели бы пользу какую-нибудь приносил, а то стоит и смотрит, как горит. Каково жене-то будет! Вдруг каждую ночь суматоха. – Женится – переменится, – стоит на своем мать. – У меня покойный муж к белым мышам имел слабость, более тысячи штук у него в клетках сидело, а женился – и всех скормил кошкам.
– А этот не переменится, потому упрям как бык. Он ежели и женится, то на дочке брандмейстера какого-нибудь. Он только и хвастается, что со всеми брандмейстерами на «ты» и что пожарные зовут его по имени и отчеству: Игнатий Петрович! Игнатий Петрович! Удивительно как лестно!
– Я здесь, кланяюсь хозяйке дома и ее дорогим гостям, а у Катерины Ивановны, кроме того, прошу великодушно прощения, что оставил ее без кадрили, – незаметно прокрался сквозь танцующие пары Игнатий Петрович и остановился перед беседующими.
Это был средних лет мужчина, худенький, тщедушный, со значительно поношенным лицом и уже «солнцем» на голове.
– Катерина Ивановна, прикажете стать на колени? Повинную голову не секут, не рубят. Ей-богу, пожар задержал! Совсем уже собрался сюда ехать – вдруг сигнал. Гляжу на каланчу – Петербургской части. «Ну, – думаю, – деревянные постройки горят». А я, надо вам сказать, ужасно люблю, когда деревянные дома охвачены огнем. Тут совсем особая поэзия. Видишь море пламени. Ну как упустить такой пожар? Сейчас надеваю высокие сапоги, сажусь в сани, извозчика в затылок и полетел. Катерина Ивановна, давайте и начнемте танцевать. Нам еще две фигуры осталось. Визави будет к нам переходить, – обратился он к девушке.
– Помилуйте, да в высоких и грязных сапогах… – отвечала та.
Кавалер ударил себя по лбу.
– Ах, боже мой! Переодеть сапоги-то я и забыл заехать домой! – воскликнул он. – Я сейчас. Могу я вас просить на следующую кадриль?
– Нет уж, мерси.
– Но отчего же такая немилость?
– Оттого, что вы поедете переодеваться, случится опять пожар, и вы опять предпочтете его кадрили.
– Так, милостивый государь, не поступают с дамами, – заметила хозяйка.
– Знаю, что не поступают, но деревянные постройки меня смутили. Ведь нынче такая редкость, что деревянный дом горит. Где они, деревянные-то дома в Петербурге? Пески, Коломна и Ямская обстроились каменными. И ведь представьте, какая мерзость! Вы думаете, сейчас действительно деревянный дом горел? Скачу, лечу, приезжаю – каменный, хоть и на Петербургской стороне. А каменный – какой интерес? Валит дым, кой-где огненный язычок – вот и все. Действительно, теперь уж не увидишь таких пожаров в Петербурге, какие я помню лет десять – пятнадцать тому назад. Бывало, загорится на Песках или в Семеновском полку: от одной улицы до другой так и вычистит все. А теперь что?
– И вы не стыдитесь жалеть об этом? – упрекнула его девушка.
– Я не жалею, а только воспоминаю о том ужасе, о той панике. Все бежит, все тащит свой скарб. А теперь пожар, так никто и не шевелится, потому у всех застраховано.
– Но ведь все-таки вы ездите любоваться на пожар, – прибавила хозяйка.
– Ну, не скажите, иногда я вытаскиваю мебель, качаю воду на трубе. А только поэзия поэзией. Вдруг слышишь возглас пожарного: «полундра» – значит, берегись, и с крыши летит железный лист и со звяканьем валится на мостовую! Да вот две недели тому назад я корову спас на пожаре в Александро-Невской части и даже получил при этом повреждение. Извольте-ка полюбоваться: у меня еще и до сих пор синяк не зажил.
Кавалер откинул с виска волосы и показал синяк.
– А то мне раз пальцы по ноге переехало колесом, – продолжал он. – В прошлом году зуб ручкой от водокачальной трубы выбило. Летом голову проломили. Да что, всех моих ран, добытых с честью на пожаре, и не перечтешь!
– Удивляюсь я: как вас не гонят с пожаров! – сказала хозяйка. – Ведь вы только мешаете.
– Помилуйте, меня все знают. Я уж сколько лет езжу по пожарам. Меня все по имени… Пожарные честь отдают, по ночам факелом светят. У одного брандмейстера я даже ребенка крестил. Ведь я даже имел значок агента страхового общества. Кстати, видали ли вы это?.. – сказал кавалер и показал золотую часовую цепочку, где на звеньях были вырезаны пожарные сигналы. – Сам себе поднес за пятнадцатилетнее пожарное беспокойство, – прибавил он. – Да и стоит-с. Знаете ли вы, сколько я себе сапог прожег, бродя по угольям, сколько меховых шапок спалил, стоя около пламени! Стоишь, и летят на тебя искры и головешки!
– Нам рассказывали, как вы раз спасали какую-то стеклянную посуду из горящего трактира. Подбежали к окну с подносами стаканов и чайников да и бросили их на мостовую, – поддразнила его девушка. – Хорош герой!
– Действительно был случай. Но что же мне было делать, ежели лестница уж горела? Я сам по веревке из окна спустился. Но тоже не надо всякому слуху верить. Про меня целые легенды ходят. Катерина Ивановна, умоляю вас, сжальтесь надо мной и уделите мне следующую кадриль, – обратился кавалер к девушке. – Ну, что такое – высокие сапоги! Чем они мешают танцам? Ведь офицеры-стрелки танцуют же в высоких сапогах. Я все-таки во фраке, в белом галстуке и перчатках.
Девушка вопросительно посмотрела на мать. Та кивнула головой.
– Хорошо, я согласна. Только бога ради не говорите мне ничего о пожарах, а то скучно.
– Хорошо. Даю слово. Хотя любезничать с вами и не чувствовать пожара в сердце…
– Ах, оставьте, пожалуйста! Ведь это пошло!
Через десять минут раздался ритурнель кадрили, и кавалер и девушка встали в пары.
– Не знаю, чем загладить свое давешнее преступление относительно того, что я вас оставил без кадрили, – начал кавалер, но тут к нему подошла служанка дома и подала записку.
– Лакей ваш сейчас принес, – сказала она. – Говорит, городовой подал.
Кавалер весь вспыхнул и распечатал записку. В ней стояло: «Коломенской части, близ Египетского моста пожар № 2-й».
– Катерина Ивановна, простите… Я сейчас. Кажется, лакей принес мне ботинки. Я переоденусь. Действительно в высоких сапогах как-то неловко… – заговорил он и выбежал в прихожую.
Началась кадриль, а кавалер все еще не возвращался. Девушка уже заплакала. Мамаша ее бросилась за кавалером в прихожую.
– Игнатий Петрович! Игнатий Петрович! – кричала она. – Где же он?
– Они сейчас на пожар уехали, – отвечала горничная.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.