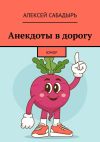Текст книги "Воскресные охотники. Юмористические рассказы о похождениях столичных подгородных охотников"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Театрал
Смеркается. Не торгующие с огнем апраксинцы зазвенели ключами и собираются запираться.
– Дозвольте сегодня после запора спектакля в баню сходить? – обращается молодой приказчик в барашковой шубенке к хозяину.
– После какого такого это спектакля? Бредишь ты, что ли? – переспросил хозяин.
– Виноват-с, Панкрат Анисимович. Давеча приходил тут один покупатель и все о спектаклях театральных говорил, так вот я и перепутал, – поправился, весь вспыхнув, приказчик. – Дозвольте после запора лавки в баню сходить? – повторил он.
Хозяин подозрительно посмотрел на приказчика.
– Что больно часто в баню-то ходишь? – сказал он. – Дивлюсь я на тебя, Никандра, как это ты себе всю шкуру мочалкой не сдерешь. С однова в баню да в баню.
– Помилуйте, где же часто-с?.. Я на бенефис Марковецкого в бане был.
– Что ты мне там городишь? Какой такой бенефис, какой Марковецкий! Я знаю только одно, что ты на прошлой неделе был.
– Ну да-с, в пятницу.
– То есть как это в баню-то в пятницу? Нешто по пятницам топят бани?
Приказчик совсем смешался.
– Воронин и Мальцев топят-с. Вы ведь в Туликовы бани ходите, так где ж вам знать. А я уж люблю, чтоб по-настоящему помыться. Я лучше недопью, недоем, а баня чтоб была во всем своем вкусе.
– Ну, ступай. Только смотри у меня, окромя бани, нигде не болтаться и вовремя домой прийти. Теперь уж мне понятно, что ты в пятницу в театре был.
– Пожалуй, немного и запоздаю, потому из бани хотел к сапожнику зайти. Отдал подметки, шельмецу, подкинуть и до сих пор не несет, а у меня сапоги скоро есть запросят. – Ой, Никашка! Что-то ты хитришь! Не в баню ты идешь, а, верно, опять в театр. Ну, смотри: узнаю, так такую тебе выволочку задам, что чертям будет тошно.
– Что вы, помилуйте! В настоящую баню. У меня вон и узел с бельем с собой. Извольте посмотреть. Вон он, на прилавке лежит. Человек чистоту своего тела соблюдает, а вы – в театр! Да что мне театр!
– То-то, смотри. От театра и до запускания лапы в хозяйскую выручку недалеко. У нас правило: со двора ходить в две недели раз, по воскресеньям, и уже тогда иди на четыре стороны.
Приказчик был отпущен. Заперли лавку. Поплелся домой хозяин, бросились бежать приказчики. Никандра был с узлом белья и шел рядом со старшим приказчиком.
– Опять в театр? – спросил его тот.
– Опять-с. Только вы ради бога хозяину ничего не говорите. Узел с бельем тут – только одна аллегория. Что делать-с, приходится и на хитрость пускаться, коли путем не отпускают. А я не могу-с… Для меня театральная игра – все равно что пища. Лучше я голодом день просижу, только бы актерское представление перед собой иметь. Зато уж у меня пьянственного образа не бывает. И что тут постыдного! Человек драматических чувств ищет, а его за это бить сбираются. Да для меня все равно! Пусть бьют! Условься хозяин, чтоб за каждую пьесу выволочку мне – и на то соглашусь. Я уж в настоящей-то бане полгода не был, даром что кажинную неделю отпрашиваюсь. Попаришься в местах за креслами – вот тебе и баня.
Старший приказчик помотал головой.
– Вот Сибирь-то на тебя навязалась! – сказал он. – Дивлюсь я только, Никандра, как тебе не надоест. Ведь уж коли кажинную неделю в театр ходишь, то, поди, все пересмотрел.
– Как может надоесть-с! Театр – первое монпансье. Лучше всего этого ничего на свете нет. Вы вот говорите: все пересмотрел; а я вам скажу, что я ни одной драмы путем не видал. Ведь взаместо бани ходишь, ну и надо домой в девятом или десятом часу явиться, чтоб никакого альбома с хозяином не вышло. А что я до десятого часа в театре высмотрю? Половинное действие игры. «Монастырскую стену» я только два первые акта видел, «Злобу дня» – тоже, «Мертвую петлю» – тоже. Вот только «Бесприданницу» удалось два с половиной акта просидеть. Да все пьесы так: начало знаю, видел, а какой конец – аминь. Только «Купца Иголкина» да «Гамлета» и проглядел во всем составе, когда на Масленой неделе хозяин уже в настоящую, прямо в театр отпустил.
– Так что ж ты, сам актерством заняться думаешь, что ли? – спросил старший приказчик.
– Непомерное мечтание в головном воображении имею и даже так положил: не удастся в актеры – или сопьюсь, или в монахи… Никакой жизни мне тогда не надо!
– Вляпался ты, однако.
– Совсем с лишением своих чувств! И ведь знаете, что все актерское геройство я после гамлетной игры Нильского почувствовал. Вот игра так игра! «Мать-Королева»!! Прощайте, однако! Сейчас я в Толмазов переулок и в Александринку!
Никандра потрепал по плечу товарища и со всех ног бросился в театр. Узелок с бельем он сдал капельдинеру вместе с шубенкой и через пять минут сидел уж в театральной зале в местах за креслами. На сцене шло представление. Рядом с ним по одну сторону сидел соседский хозяйский сын, тоже охотник до театра, а по другую сторону помещалась какая-то купчиха с мужем.
– Урвался? – спросил его хозяйский сын.
– Урвался-с. Опять взаместо бани. Только вы бога ради хозяину нашему ни слова…
– Ну вот! За кого ты меня считаешь! Я, брат, сам в таких же переделах бывал. Я-то ни слова не скажу, а вон в ложе свояк вашего хозяина сидит, так, может, и скажет. – Где? – с испугом спросил Никандра и, когда ему указали, прибавил: – В самом деле, сидит и прямо на меня глазищи пялит. Ах ты господи! Теперь уж не миновать мне завтра хозяйской музыки. Пожалуй, и волосяной балет устроит. Что тут делать? Вишь, как он глазищи-то выпучил! Разве прищурить один глаз и скривить рот на сторону, так авось и не узнает?
– Конечно, сделай искривленную морду, – посоветовал хозяйский сын. – Поглядит, поглядит да и скажет, что чужой.
– Нет, я лучше носовым платком одну половину лица закрою. Будто зуб болит.
Никандр вертелся на своем месте как на иголках.
– Да ты вот что: ты и в самом деле подвяжи скулу платком.
– Где тут подвязывать, коли уж он на меня во все глаза смотрит. Да из-за платка не будет ничего и на сцену видно. Нет, уж лучше искривление скулы, – отвечал Никандра и сделал такое лицо, что сидевшая рядом с ним купчиха так и отшатнулась от него.
– Ох, господи! Что с тобой, голубчик! – проговорила она. – Что это тебя кочевряжит?
– Зуб, сударыня, зуб!
– А коли зуб болит, то отчего ж у тебя глаз-то перекосило? Федор Иваныч, – обратилась она к мужу, – я боюсь его. Смотри-ка, что у меня с соседом-то. Как бы с ним падучка не приключилась. Эво, глаз-то!
Купец посмотрел и сказал:
– Иди, молодец! Выдь в коридор, коли тебя схватывать начало. Еще, чего доброго, на нас рухнешься. У меня жена на сносях. Ребенка ждем.
– Да ничего, это пройдет, – отвечал Никандра.
– Выдь, говорят тебе! А то силой выведут! – возвысил голос купец. – Али полицию звать!
– Уйди ты лучше от скандала! – толкнул в бок Никандра хозяйский сын. – Пойдем вместе.
Они оба вышли в коридор.
– Что тут делать?
– Самое лучшее дело: беги домой. Видно, уж не в час попал ты сегодня в театр. Посмотрел маленько, ну и будет! Да главное-то, что ваш свояк тебя узнает и все завтра хозяину расскажет. Ведь уж во все время представления искривление скулы не выдержишь.
– Где выдержать! И теперь-то лицо судорога сводит. Эх, плакал мой рубль-целковый! Ну, прощайте, Иван Гаврилыч! Досмотрите до конца представление, так завтра расскажете мне, в чем дело. А какая игра-та занятная!
Никандра вздохнул, надел шубенку, взял узелок с бельем и поплелся домой. По дороге он зашел на плот Фонтанки и смочил себе водой волосы.
– Ну, теперь хозяин будет в тумане, хоть свояк и расскажет ему, что видел меня в театре. Покажусь ему с мокрыми волосами, как будто от бани, а завтра – знать не знаю, ведать не ведаю! – пробормотал он и продолжал путь.
Гитарист
Улеглась пыль по Шлиссельбургской дороге. Теплый майский вечер. За воротами серенького деревянного домика-особняка сидит молодой человек в картузе, в коротеньком пальтичке нараспашку и в высоких сапогах. Розовая ситцевая рубашка навыпуск и глухая жилетка с цветными стеклянными пуговицами. Молодой человек смотрит вдаль на дорогу и меланхолически пощипывает струны гитары, то и дело поплевывая в колки и закрепляя их. На дворе через нарядные тесовые ворота слышен визг женских голосов и возглас: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло; взглянь на небо!»
– О черти! Ну вас ко всем лешим! Упарился! – раздался в калитке возглас, и со двора на дорогу вышел молодой кучер в безрукавке. Кучер, тяжело дыша от усталости, остановился перед гитаристом и долго смотрел на него в упор, слушая совсем незатейливую музыку. Гитарист старался наиграть какую-то чувствительную песню, но ничего не выходило.
– Пользуешься? – спросил его кучер.
– Пользуюсь вот, пока дяденька в отсутствии, – отвечал тот. – Да и какая тут может быть гитарная наука, коли наяриваешь, а сам как вор на дорогу глядишь, да смотришь, не едет ли он, чтоб бежать тебе да прятать от него музыкальный струмент.
– А крут он у вас.
– Совсем на манер крокодила. Эх, ежели бы вернулся он домой внезапно да застал эти самые игры у вас на дворе да меня с гитарой, так уж показал бы он свои турецкие зверства!
– Ну, со мной-то он не очень бы много поделал. Я тоже зубаст, – похвастался кучер.
– По зубам-то бы он тебя и потрафил.
– По зубам! А мировой-то на что? Нет, по зубам-то это он только вас гладит, потому что вы сродственники, и знает, что жалиться на него не пойдете. А я что? Я кучер, а он мне хозяин – вот и все колесо. Что он богатый купец-подрядчик и своим богатством важничает, так это мне наплевать. У меня свой павлин в голове. Меня за мое наездничество куда угодно в кучера возьмут. Да я в любой графской конюшне буду первый, – продолжал бахвалиться кучер, умолк и после некоторой паузы спросил: – Это у тебя уж которая гитара-то?
– Пятая. И ведь за кажинную, братец, по два с полтиной плачу.
– А те все четыре об твою голову разбил?
– Об голову. Да ведь как! Вдребезги. Переборы со струнами в руках остались, а гитарное мясо – в щепки. – Да как он тебе башку-то ни разу не проломил?
– А оттого, что ни разу ребром не попадал, а все норовит плашмя. Хитер тоже!
– Ну все-таки это оскорбление действием, хоть и без пролома. Очень уж вы все, сродственники, унижаетесь перед ним, павлина у вас в голове нет – вот оттого он над вами свои турецкие зверства и доказывает. А ты подыми голову да требуй хоть удовлетворения. Я вон у полковника Мигалова в кучерах жил, так тот меня только двумя перстами по лицу тронул, а я сейчас нос расковырял в кровь и пятнадцать целковых с него за это содрал, а то, мол, судиться буду, потому при свидетелях…
– Что ж ему значит при его богатстве пятнадцать целковых, да, наконец, у меня и свой капитал есть.
– А коли есть, то зачем же ты у него живешь?
– В опеке я – вот и весь сказ. Опекун он надо мной. Вот совершеннолетие в будущем году исполнится, тогда другой разговор будет.
– Дядя он тебе?
– Нет, я только так в племянниках существую, а у нас даже и родственного свойства нет. С измалетства дядей зову. Поговаривают, что он хочет полоумие моих чувств доказать, чтоб продлить опеку, но я не поддамся. – Врешь, поддашься. На каком же ты положении у него живешь?
– Да ни на каком. «Работай, – говорит, – на меня, а спи на себя». Да еще леностью попрекает.
– Дивлюсь! – произнес кучер. – Ну, а отчего же он так пронзительно гитару не любит?
– Толкует, что будто она дом христианский бесчестит. «У нас, – говорит, – в каждой комнате чудотворная икона, а ты с музыкой. Окромя того, – говорит, – гитара тебя от дела отвлекает, и ты к делу не пристрастен». А как я могу к его делу пристраститься? У меня чувствительность сердца огромная, и я к романсам уединенным слабость питаю, а он меня к своему подряду по мусорному очищению приставил. Велик интерес после гитары-то – мусорная койка да ящик! Вот ежели бы он меня в бани приказчиком посадил, ну, другой интерес. Так не сажает, говорит: «От билетов красть будешь». А там чудесно бы было! Днем, когда мало народу, сидел бы я за выручкой да нащипывал по струнам: «Шумит, гудит Гвадалквивир! Скинь мантилью, ангел милый». Вот он сей романс чувствительный. Я уж оба колена теперь делать могу.
Гитарист поплевал в колки и защипал струны, но не вышло ничего и похожего на некогда знаменитый и модный романс.
– А ведь чувствительности-то мало, – сказал кучер. – Мне кажется, что оттого ты потрафить не можешь, что очень уж много в колки плюешь. А ты плюй полегче.
– Чудак-человек, без плеванья нельзя. Через это струны слабнут. Нет, это просто оттого, что у меня все гитары разные. Вот ко второй гитаре, что на Пасхе об мою голову разбил, я уж было совсем привык, и такая чувствительность выходила, что, бывало, как заиграю, тетка Манефа сейчас в слезы. Привыкнешь к одному перебору, а он и разобьет струмент, ну, к новому-то опять сызнова привыкаешь. Вот и не выходит с непривычки.
– Кондратий Петрович, брось ты эту гитару и займись другой слабостью, – посоветовал кучер. – Что за радость, коли у тебя сноровки нет?
– Ни в жизнь не брошу! Пусть хоть десять струментов об мою голову разбивает, а гитарное пристрастие всегда при мне останется. Ведь вот и дядя мне тоже другое малодушество советует, да не могу. «Займись, – говорит, – голубиной слабостью – слова не скажу». Но разве голубь и гитара – один и тот же сюжет? Что такое голубь, коли у меня чувствительность чувств?
На дороге показалась пыль. Вскоре обозначилась купеческая тележка с мчащимся рысаком. Виднелся и «сам», правящий лошадью.
– Едет! Сам едет! – крикнул кучер и, встрепенувшись, бросился отворять ворота. Гитарист со всех ног побежал в калитку.
– Едет! Сам едет! – повторили на дворе хором женские голоса, послышалась беготня, и скоро все смолкло.
К воротам подъезжал на взмыленном рысаке «сам» и ни за что ни про что обругал «деревом стоеросовым» стоящего перед ним без шапки кучера.
Библиоман
Кабинет или лавчонка старых книг на Апраксином – определить трудно. Стены маленькой комнаты от пола до потолка заставлены книгами в старинных переплетах, помещающихся на полках. Книги на подоконнике и даже на полу. Посреди комнаты письменный стол и два стула, но и они заложены старыми книгами. У одной из полок роется маленький плешивый старичок в круглых очках в серебряной оправе. Он в рваном халатишке и опоясан желтым фуляром. Вошла молоденькая, хорошенькая девушка в ситцевом платье и начала искать места, где бы ей присесть.
– Господи! Даже и поместиться-то негде, – сказала она.
– А вот садись на краковскую печать конца прошлого столетия, – откликнулся, не глядя на нее, старичок. – Переплеты отличные, пергаментные. Посидишь в виде груза, так это даже хорошо. Сейчас я просматривал эти книги, так они растопырились. Прежняя-то бумага ведь не нынешней чета – тряпок не жалели. Что тебе?
– Ничего, папенька, я так… – отвечала дочь, и в голосе ее слышались слезы. – Сегодня вечером к Патрикеевым в гости звали, а в чем я пойду?
– В чем есть, в том и пойдешь.
– Это в ситцевом-то? Нет уж, покорнейше благодарю. Две недели тому назад просила я вас, чтобы вы мне купили шерстяного люстрину, но вы как бесчувственная мумия к моим речам…
– Будешь, матушка, мумией, коли денег нет.
– Как денег нет? Да вы в прошлую пятницу накупили у букиниста разных мышиных объедков на двадцать пять рублей.
– Мышиные объедки! – с сердцем обернулся к девушке старичок. – Ну, Лидонька, ежели бы ты мне была не дочь – задал бы я тебе за эти слова перцу с хреном! Дура ты, дитя мое, и больше ничего, коли ты такую редкость мышиными объедками называешь. Да знаешь ли ты, ежели я их покажу Творогову, то он заболеет от зависти.
– Есть от чего заболеть! Старые календари.
– Да, старые календари, но с приписками на полях заметок их владельцев. Знаешь ли ты, что это в то же время и приходо-расходная книжка повытчика Коркуркина, в которую он заносил в половине прошлого столетия и ряду прислуги, и стоимость роброна своей жены, цену сена и овса, сапог и прочего. Там можно даже проследить размеры взяток, которые брал повытчик с просителей. Ах ты, готтентотка! Ах ты, варварка! Печенег ты в юбке, а еще дочь библиомана! Ну, об чем ты плачешь, дурочка? Ведь у тебя есть шерстяное платье.
Старичок подошел к девушке и обнял ее.
– Стану я ветоши надевать!
– Ветошь-то, милая, лучше. Она имеет историческое значение.
– Дожидайтесь. Ведь платье – не книги. А еще все говорите: «Ах, как бы Лидоньку замуж пристроить!» Ну, кто меня возьмет, коли я хожу как чумичка!
– Все возьмут. Ты, прежде всего, богатая наследница. Умру – вот все это, что видишь, тебе останется. А чего, чего тут нет!
– Старые-то заплесневелые книги? Скажите, какое богатство! Да ими два дни печку топить – вот и все.
– Боже, какое невежество! Раскольничьими книгами, которым цены нет, печку топить! – воскликнул старичок. – Хочешь, на тебе из-за них сейчас рыбак Пуд Аверьяныч Густотестов женится, а у него полмиллиона. – Рыбак Густотестов старее попова кота без хвоста.
– Нужды нет, но зато ведь это ходячая раскольничья литература шестнадцатого и семнадцатого столетия. Все вымарки Димитрия, митрополита Ростовского, он наизусть цитирует. Не нравится рыбак – Творогов из-за моих книжных сокровищ на тебе с радостью женится. Он годков на двадцать помоложе рыбака будет. Ему и шестидесяти нет. Как у него глаза-то разгорелись, когда я ему показал «Письмовники» Курганова всех изданий. Чего-чего у тебя нет? «Путешествие из Петербурга в Москву» в трех экземплярах, из коих один даже неразрезанный. Полное собрание сочинений Новикова, принадлежавшее ему самому и с пометками его рукой, Мюльгаузен – всех изданий. А рукописи? Да им цены нет. Вот то, на чем ты теперь сидишь, стоит уже тысячи полторы. Ну, полно, не плачь.
Старик притянул к себе девушку и поцеловал ее в лоб.
– Дайте, папенька, хоть рубль-то серебром. Надо учтивость соблюсти и пирог Патрикееву послать. Ведь он сегодня именинник, – сказала дочь.
– Зачем пирог? А лучше пошли ему академический календарь 1879 года. У меня их два экземпляра, и это будет поважнее именинного пирога.
– Да ведь это для вас он важен, а не для Патрикеева. Разве от календаря откусишь?
– Не от хлеба единого человек сыт бывает, ангел мой.
– Но Патрикеев – не библиоман.
– Пусть привыкает быть библиоманом. Наша задача – пропагандировать наше дело. Вот тебе возьми и пошли. К календарю можно прибавить номер «Петербургских ведомостей» 1785 года.
Дочка вскочила с места.
– Нет, папенька, это уж из рук вон! – воскликнула она. – Я пошлю за доктором, и пусть он вас полечит.
– О, невежество, невежество! Значит, ты думаешь, что я в своем чердаке повихнулся?
– Ей-ей, думаю. Вы не пьете, не едите порядком, никуда не ходите, кроме как на Апраксин к букинистам, по ночам вскакиваете и бредите. Ну, чего вы вчера ночью кричали? Я думала, вас режут.
– Сон страшный приснился. И действительно резали! Только не меня, а книгу. Есть у меня неразрезанный экземпляр «Арифметической мудрости» прошлого столетия. В том его и достоинство, что он неразрезанный. Лежит он будто у меня на столе, вдруг подходит разбойник Творогов и давай его разрезать по листам.
В дверях показалась кухарка.
– Да, барышня, хорошенько их, вашего папеньку, – сказала она. – Кричат «караул», прибежали это ночью в кухню, схватили меня за ногу и стащили с кровати. «Иван Иваныч, это я, ваша Акулина», – бормочу им; крещу их, а они знай вопят: «Вор, вор». Всех соседей переполохал! Сегодня уж и то меня спрашивают: «Что ты у них, Акулина, украла?» Срам.
– Ну вот, важная вещь, коли человеку приснилось, – оправдывается старичок.
– Я и говорю соседям, да не верят. Что, говорю, у них украсть, хлам-то книжный из кабинета, что ли?
– Как ты смеешь книжную сокровищницу хламом называть! Пошла вон, дура! – затопал он на нее. – Хлам! У меня есть старопечатные книги чуть не самого праотца печати Гуттенберга, есть Брюсов календарь, а она – хлам!
– Папенька, успокойтесь. Ведь вы сами же ночью наделали ей неприятность. Ну, дайте ей копеек тридцать на кофей.
– Вот ей брошюра двадцатых годов вместо кофию. У меня ее три экземпляра! Бери, Акулина!
– Да куда же мне такая дрянь? Ах вы, сквалыжник, сквалыжник!
– Вон! – заорал старичок и, схватясь за голову, завопил: – Невежество! Невежество!
Нумизмат
– Оденетесь ли вы, наконец, Павел Семеныч, ведь сегодня Петра и Павла, и вы именинник! – топает жена, средних лет красивая женщина, на своего мужа, разгуливающего по комнатам в халате, переднике и с каким-то черепком в руках.
– Не замечаю, – мрачно отвечает, глядя куда-то в сторону, плюгавый и старый муж.
– То есть что это: моих слов вы не замечаете или то, что вы именинник?
– Не замечаю, что я именинник. Я тогда бываю именинник, когда приобрету какую-нибудь древнюю монету за дешевую цену. Вот 18 апреля действительно был именинник. Этот день мне памятен. Я купил у одного дурака за шестнадцать рублей персидскую монету царя Хозроя, которой теперь цены нет.
– Дурака! Неизвестно еще, кто дурак-то: продавец или покупатель.
– Варвара Тихоновна, молчать! А то я буду склонен думать, что имя Варвара – вам по шерсти кличка. Смотри! Еще одно невежественное слово по части нумизматики – и я уж буду тебя звать ужасным именем варварки. Жена известного нумизмата – и вдруг варварка!
– А вы думаете, что я так много обращаю внимания на ваши слова? Я уж давно привыкла их считать за мычание бессмысленного зверя. Да оденетесь ли вы, в самом деле! – дернула она его за рукав. – Ведь может кто-нибудь прийти поздравить вас.
– Постой, кислоту из черепка разольешь и только себе платье перепортишь!
– Снимайте сейчас халат!
– Сейчас, вот только арабские монеты кислотой почищу.
– Не дам я вам чистить их. Скажите, какое время нашел! Праздник Петра и Павла, его именины, а он с кислотой возится.
– Повторяю тебе, что для меня нет праздника. Вот ежели бы ты мне подарила какую-нибудь древлянскую монету, которой ни у кого нет, то это был бы для меня праздник и я торжествовал бы его три дня, а тебя, виновницу торжества, одел бы в пурпур и висон и, за неимением лошадей и колесницы, сам бы возил тебя по всему городу.
– Так бы вам и позволили делать на улице такие безобразия! Сейчас бы в полицию и взяли. Впрочем, что ж я возражаю на бессмысленные речи. Ведь вы совсем сумасшедший человек.
– Наконец-то за ум взялась! Ах ты, моя медаль времен Юлия Цезаря! Ну, поди я тебя хоть за будущее молчание-то поцелую.
– Не подходите ко мне! – взвизгнула женщина. – Вы мне гадки, противны, мерзки!
Муж остановился в недоумении.
– Ну, как знаешь. А я так вот, наоборот, ценю тебя за некоторые достоинства и даже как редкую хозяйку по дому, хотел сравнить с денежным знаком финикийской эпохи, – произнес он, повернулся и поплелся к себе в кабинет.
– Стойте, стойте! Куда ж вы? – окликала его жена. – Кстати о хозяйстве. Чем же мы будем сегодня угощать гостей, которые придут к вам на именины?
– Ежели ты говоришь о пище материальной, а не духовной, то это твое дело, – сказал муж, остановившись на пороге.
– Но ведь вы именинник, а не я.
– Знаю и намерен угостить моих гостей коллекцией древних монет. Я и десерт придумал: туранская монета царя Арджасна, вывезенная мне полковником Забубенковым из Средней Азии. Ей цены нет. Потом есть еще у меня кожаный славянский денежный знак, древность которого и определить невозможно.
Жена сложила на груди руки и покачала головой.
– Послушайте, ведь с вами говорят люди, так вы отвечайте по-людски, – сказала она. – Ведь один раз в году вы бываете именинник, один раз празднуете Петра и Павла…
– И Петра и Павла, матушка, не забуду. Ты очень хорошо знаешь, что у меня есть рубли и Петра, и Павла всех годов. Даже Петра III есть, а сунься-ка, поищи где-нибудь в другом месте такую редкость.
– Ну, вот и давайте их сюда. Серебряный рубль – все рубль. На них я и куплю всякого угощения.
Муж вспыхнул и плюнул.
– Называл тебя только Варварой, а уж теперь ты варварка! Настоящая варварка! – крикнул он. – Рубль Петра III стоит рублей семьдесят, а она понесет его в мясную лавку за ногу телятины или отдаст в винный погреб! Сшутила тоже. Ах ты, варварка времен гуннов и тевтонов! Не в конце девятнадцатого столетия тебе, невежде, жить, а надо переправить тебя в страны гиперборейские до Рождества Христова! Циник ты в юбке, китайский император, сжегший китайские книги, Аттила, поджигательница Александрийской библиотеки, Герострат в шиньоне!
И исторические эпитеты полились рекой. Жена слушала и молчала, с презрением и вместе с тем с какою-то жалостью глядя на мужа.
– Кончили? – сказала она наконец. – Подурачились для именин и будет. Давайте же мне двадцать пять рублей на покупку угощения.
– Двадцать пять рублей! – произнес муж. – Откуда у меня такие деньги?
– Как откуда? Вы еще вчера получили пенсиона тридцать три рубля с копейками.
– Получил, не отрекусь, но сейчас же пошел в Апраксин рынок и купил там в меняльной лавке за двадцать рублей три гроша царя Алексея Михайловича и две серебряные копейки Иоанна Грозного.
– Час от часу не легче! Три гроша и две копейки за двадцать рублей!
– Да пойми ты, что они втрое дороже стоят. Оставшиеся тринадцать рублей возьми, а копейки я оставлю себе на кислоту для чистки монет.
– Чем же я буду гостей угощать? Ведь я человек двадцать назвала. Вина надо купить, закусок, жаркое, сладкое. Ну, на жаркое я велю зарезать наших петуха и курицу. Двух птиц будет довольно. Петух громадный.
– То есть как это двух? Одну. Ты можешь зарезать только курицу.
– А петуха?
– Нельзя его зарезать, ежели его нет.
– Как нет? Да он еще вчера гулял по двору.
– Вчера днем гулял, это точно, а вечером я отправился ко всенощной, взял с собой петуха и занес его в меняльную лавку одного гостинодворского менялы. Он большой охотник до породистых петухов и петушиных боев.
– Ну? Чувствую, чувствую что-то недоброе…
– Ну, и сменял его на франк Генриха IV.
– Только этого недоставало! Да ведь петух-то был мой, а не ваш.
– Ты моя, и петух мой.
– Когда так, то вы мои, и ваши серебряные рубли мои! Прощайтесь с рублями!
Жена оттолкнула от дверей мужа и бросилась в кабинет. Он тоже побежал за ней. Послышалась борьба.
– Варвара! Варварка! Я лучше часы свои заложу, а плоть и кровь мою не тронь! – раздавались восклицания мужа.
В прихожей зазвонил колокольчик, и в гостиную вошел первый гость.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.