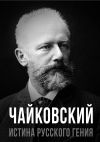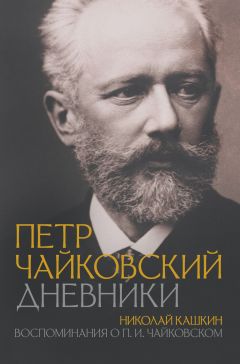
Автор книги: Петр Чайковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дневник № 8
Дневник № 8. Формата 1∕16. Переплет синего цвета; на корешке тиснение: ALBUM.
Записи, содержащиеся в этом дневнике, относятся к 1886–1888 годам и представляют собой изложение разновременно возникавших у П. И. мыслей по занимавшим его вопросам, главным образом принципиального значения.
Все записи сделаны чернилами.
1886
22 февр[аля] 1886 г. Какая бесконечно глубокая бездна между Старым и Новым Заветом. Читаю псалмы Давида и не понимаю, почему их, во‐1‐х, так высоко ставят в художественном отношении, и, во‐2‐х, каким образом они могут иметь что-нибудь общее с Евангелием. Давид вполне от мира сего. Весь род человеческий он делит на 2 неравные части: в одной нечестивцы (сюда относится громадное большинство), в другой праведники, и во главе их он ставит самого себя. На нечестивцев он призывает в каждом псалме Божью кару, на праведников – мзду; но и кара, и мзда земные. Грешники будут истреблены; праведники будут пользоваться всеми благами земной жизни. Как все это не похоже на Христа, который молился за врагов, а ближним обещал не земные блага, а царство небесное. Какая бесконечная поэзия и до слез доводящее чувство любви и жалости к людям в словах: «Пpuu∂ume ко Мне ecu труждающиеся и обремененные!» Все псалмы Давида ничто в сравнении с этими простыми словами.
29 июня 1886 г. Когда читаешь автобиографии наших лучших людей или воспоминания о них – беспрестанно натыкаешься на чувствование, впечатление, вообще художественную чуткость, не раз самим собою испытанную и вполне понятную. Но есть один, который непонятен, недосягаем и одинок в своем непостижимом величии. Это Л. Н. Толстой. Нередко (особенно выпивши) я внутренне злюсь на него, почти ненавижу. Зачем, думаю себе, человек этот, умеющий, как никто и никогда не умел до него, настраивать нашу душу на самый высокий и чудодейственно-благозвучный строй; писатель, коему даром досталась никому еще до него не дарованная свыше сила заставить нас, скудных умом, постигать самые непроходимые закоулки тайников нашего нравственного бытия, – зачем человек этот ударился в учительство, в манию проповедничества и просветления наших омраченных или ограниченных умов? Прежде, бывало, от изображения им самой, казалось бы, простой и будничной сцены получалось впечатление неизгладимое. Между строками читалась какая-то высшая любовь к человеку, высшая жалость к его беспомощности, конечности и ничтожности. Плачешь, бывало, сам не знаешь почему… Потому что на мгновение, чрез его посредничество, соприкоснулся с миром идеала, абсолютной благости и человечности… Теперь он комментирует тексты, заявляет исключительную монополию на понимание вопросов веры и этики (что ли); но от всего его теперешнего писательства веет холодом; ощущаешь страх и смутно чувствуешь, что и он человек… то есть существо, в сфере вопросов о нашем назначении, о смысле бытия, о Боге и религии, столь же безумно самонадеянное и вместе столь же ничтожное, сколь и какое-нибудь эфемерное насекомое, являющееся в теплый июльский полдень и к вечеру уже кончившее свое существование.
Прежний Толстой был полубог, – теперешний – жрец. А ведь жрецы суть учители, по взятой на себя роли, а не в силу призвания. И все-таки не решусь положить осуждение на его новую деятельность. Кто его знает? Может быть, так и нужно, и я просто не способен понять и оценить как следует величайшего из всех художественных гениев, перешедшего от поприща романиста к проповедничеству.
1 июля 1886 г. Когда я познакомился с Л. Н. Толстым, меня охватил страх и чувство неловкости перед ним. Мне казалось, что этот величайший сердцевед одним взглядом проникнет во все тайники души моей. Перед ним, казалось мне, уже нельзя с успехом скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставлять лишь казовую сторону. Если он добр (а таким он должен быть и есть, конечно), думал я, то он деликатно, нежно, как врач, изучающий рану и знающий все наболевшие места, будет избегать задеваний и раздражения их, но тем самым и даст мне почувствовать, что для него ничего не скрыто; если он не особенно жалостлив, – он прямо ткнет пальцем в центр боли. И того и другого я ужасно боялся. Но ни того ни другого не было. Глубочайший сердцевед в писаниях, оказался в своем обращении с людьми простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаружившей того всеведения, коего я боялся. Он не избегал задеваний, но и не причинял намеренной боли. Видно было, что он совсем не видел во мне объекта для своих исследований, – а просто ему хотелось поболтать о музыке, которою в то время он интересовался. Между прочим, он любил отрицать Бетховена и прямо выражал сомнение в гениальности его. Это уж черта, совсем несвойственная великим людям; низводить до своего непонимания всеми признанного гения – свойство ограниченных людей.
Может быть, ни разу в жизни, однако ж, я не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как когда Л. Н. Толстой, слушая andante моего 1‐го квартета и сидя рядом со мной, залился слезами.
11 июля 1886. Говорят, что злоупотреблять спиртными напитками вредно. Охотно согласен с этим. Но тем не менее я, т. е. больной, преисполненный неврозом человек, положительно не могу обойтись без яда алкоголя, против коего восстает г. Миклухо-Маклай. Человек, обладающий столь странной фамилией, весьма счастлив, что не знает прелестей водки и других алкоголических напитков. Но как несправедливо судить по себе – о других и запрещать другим то, чего сам не любишь. Ну вот я, например, каждый вечер бываю пьян и не могу без этого. Как же мне сделать, чтобы попасть в число колонистов Маклая, если бы я того добивался??? Да прав ли он? В первом периоде опьянения я чувствую полнейшее блаженство и понимаю в этом состоянии бесконечно больше того, что понимаю, обходясь без Миклухо-Маклахинского яда!!!! Не замечал также, чтобы и здоровье мое особенно от того страдало. А впрочем: quod licet Jovi, non licet bovi [619]619
Что подобает Юпитеру, не подобает быку (лат.).
[Закрыть]. Еще Бог знает, кто более прав: я или Маклай. Еще не такое ни с чем несравнимое бедствие: быть не принятым в число его колонистов!!!
12 июля. Прочел Смерть Ивана Ильича. Более, чем когда-либо, я убежден, что величайший из всех когда-либо и где-либо бывших писателей-художников, – есть Л. Н. Толстой. Его одного достаточно, чтобы русский человек не склонял стыдливо голову, когда перед ним высчитывают все великое, что дала человечеству Европа. И тут, в моем убеждении о бесконечно великом, почти божественном значении Толстого, патриотизм не играет никакой роли [620]620
Далее следует сплошь зачеркнутая П. И. страница дневника.
[Закрыть].
20 сент[ября]. Л. Толстой никогда ни про одного из вещателей истины (за исключением Христа) не говорит с любовью и восторгом или с презрением и ненавистью. Мы не знаем, каково он относится к Сократу, Шекспиру, Пушкину, Гоголю. Нам неизвестно, любит ли он Микел-Анджело и Рафаеля, Тургенева и Диккенса, Жорж Занда и Флобера. Может быть, близким его известны его симпатии и антипатии (в сфере философии и искусства), но печатно этот гениальный болтун не обмолвился ни одним словом, способным разъяснить его отношение к величинам, равным ему или близким по значению. Мне, напр[имер], он говорил, что Бетховен бездарен (в противоположность Моцарту), – но в печати ни по части музыки, ни по какой другой части он не высказывался. Я думаю, что, в сущности, этот человек способен склониться только перед Богом или перед народом, перед агломерацией лиц. Нет того человека, перед коим он бы склонился. Сютаев, в сущности, в глазах Толстого был не индивидуум, а сам народ и воплощение одной из сторон народной мудрости. А любопытно бы знать, что этот гигант любит и чего не любит в литературе?
20 сент[ября]. Вероятно, после моей смерти будет небезынтересно знать, каковы были мои музыкальные пристрастия и предубеждения, тем более что я редко высказывался в устном разговоре.
Начну понемножку и буду, коснувшись живших в одно время со мной музыкантов, говорить, кстати, и о личностях.
Начну с Бетховена, которого принято безусловно восхвалять и повелевается поклоняться ему как Богу. Итак, каков для меня Бетховен?
Я преклоняюсь перед величием некоторых его произведений, – но я не люблю Бетховена. Мое отношение к нему напоминает мне то, что в детстве я испытывал насчет Бога Саваофа. Я питал (да и теперь чувства мои не изменились) к Нему чувство удивления, но вместе и страха. Он создал небо и землю, Он и меня создал, – и все-таки я хоть и пресмыкаюсь перед Ним, – но любви нет. Христос, напротив, возбуждает именно и исключительно чувство любви. Хотя Он был Бог, но в то же время и человек. Он страдал, как и мы. Мы жалеем Его, мы любим в Нем его идеальные человеческие стороны. И если Бетховен в моем сердце занимает место, аналогичное с Богом Саваофом, то Моцарта я люблю как Христа музыкального. Кстати, ведь он жил почти столько же, сколько и Христос. Я думаю, что нет ничего святотатственного в этом уподоблении. Моцарт был существо столь ангельски, детски-чистое; музыка его так полна недоступно божественной красоты, – что если кого можно назвать рядом с Христом, то это его.
Говоря о Бетховене, я наткнулся на Моцарта. По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознавания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он.
Бетховен заставлял меня тоже трепетать. Но скорее от чего-то вроде страха и мучительной тоски.
Не умею рассуждать о музыке и в подробности не вхожу. Однако отмечу две подробности:
1) В Бетховене я люблю средний период, иногда первый, но, в сущности, ненавижу последний, особенно последние квартеты. Есть тут проблески – не больше. Остальное – хаос, над которым носится, окруженный непроницаемым туманом, дух этого музыкального Саваофа.
2) В Моцарте я люблю все, ибо мы любим все в человеке, которого мы любим действительно. Больше всего – Дон-Жуана, ибо благодаря ему я узнал, что такое музыка. До тех пор (до 17 лет) я не знал ничего, кроме итальянской, симпатичной, впрочем, полумузыки. Конечно, любя все в Моцарте, я не стану утверждать, что каждая, самая незначащая вещь его, есть chef-d’œuvre [621]621
Шедевр (фр.).
[Закрыть]. Нет! Я знаю, что любая из его сонат, напр[имер], не есть великое произведение, и все-таки каждую его сонату я люблю потому, что она его, потому, что этот Христос музыкальный запечатлел ее светлым своим прикосновением.
О предшественниках того и другого скажу, что Баха я охотно играю, ибо играть хорошую фугу занятно, но не признаю в нем (как это делают иные) великого гения. Гендель имеет для меня совсем четырехстепенное значение, и в нем даже занятности нет. Глюк, несмотря на относительную бедность творчества, симпатичен мне. Люблю кое-что в Гайдне. Но все эти четыре туза амальгамировались в Моцарте. Кто знает Моцарта, тот знает и то, что в этих четырех было хорошего, ибо, будучи величайшим и сильнейшим из всех музыкальных Творцов, он не побрезгал и их взять под свое крылышко и спасти от забвения. Это лучи, утонувшие в солнце – Моцарте.
1887
21 сент[ября 18]87 г. Как жизнь коротка! Как многое хочется сделать, обдумать, высказать! Откладываешь, воображая, что так много еще впереди, а смерть из-за угла уж и подстерегать начинает. Ровно год я не прикасался к этой тетради, и как многое переменилось! Как странно мне было читать, что 365 дней тому назад я еще боялся признаться, что, несмотря на всю горячность симпатических чувств, возбуждаемых Христом, я смел сомневаться в его Божественности. С тех пор моя религия обозначилась бесконечно яснее; я много думал о Боге, о жизни и смерти во все это время, и особенно в Ахене роковые вопросы: зачем, как, отчего? – нередко занимали и тревожно носились передо мной. Религию мою мне бы хотелось когда-нибудь подробно изложить, хотя бы для того, чтобы самому себе раз навсегда уяснить свои верования и ту границу, где они начинаются вслед за умозрением. Но жизнь с ее суетой проносится, и не знаю, успею ли я высказать тот символ веры, который выработался у меня в последнее время. Выработался он очень отчетливо, но я все-таки не применяю еще его к своей молитвенной практике. Молюсь все по-старому, как учили молиться. А впрочем, Богу вряд ли нужно знать, как и отчего молятся. Молитва Богу не нужна. Но она нужна нам.
1888
22 июня [18]88 г. Мне кажется, что письма никогда не бывают вполне искренни. Сужу по крайней мере по себе. К кому бы и для чего бы я ни писал, я всегда забочусь о том, какое впечатление произведет письмо, и не только на корреспондента, а и на какого-нибудь случайного читателя. Следовательно, я рисуюсь. Иногда я стараюсь, чтобы тон письма был простой и искренний, т. е. чтобы так казалось. Но кроме писем, написанных в минуты аффекта, никогда в письме я не бываю сам собой. Зато этот последний род писем бывает всегда источником раскаяния и сожаления, иногда даже очень мучительных. Когда я читаю письма знаменитых людей, печатаемые после их смерти, меня всегда коробит неопределенное ощущение фальши и лживости.
27‐го июня. Продолжаю начатое раньше изложение моих музыкальных симпатий и антипатий. Каковы чувства, возбуждаемые во мне русскими композиторами?
Глинка. Небывалое, изумительное явление в сфере искусства. Дилетант, поигрывавший то на скрипке, то на фортепьяно; сочинявший совершенно бесцветные кадрили, фантазии на модные итальянские темы, испытывавший себя и в серьезных формах (квартет, секстет), и в романсах, но, кроме банальностей во вкусе тридцатых годов, ничего не написавший, вдруг на 34‐м году жизни ставит оперу, по гениальности, размаху, новизне и безупречности техники стоящую наряду с самым великим и глубоким, что только есть в искусстве? Удивление еще усугубляется, когда вспомнишь, что автор этой оперы есть в то же время автор мемуаров, написанных 20 годами позже. Автор мемуаров производит впечатление человека доброго и милого, но пустого, ничтожного, заурядного. Меня просто до кошмара тревожит иногда вопрос, как могла совместиться такая колоссальная художественная сила с таким ничтожеством и каким образом, долго быв бесцветным дилетантом, Глинка вдруг одним шагом стал наряду (да! наряду!) с Моцартом, с Бетховеном и с кем угодно. Это можно без всякого преувеличения сказать про человека, создавшего Славься!? Но пусть вопрос этот разрешат люди, более меня способные углубляться в тайны творческого духа, избирающего храмом столь хрупкий и, по-видимому, несоответствующий сосуд. Я же скажу только, что, наверное, никто более меня не ценит и не любит музыку Глинки. Я не безусловный русланист и даже скорее склонен предпочитать в общем Ж[изнь] за Ц[аря], хотя музыкальных ценностей в Руслане, пожалуй, и в самом деле больше. Но стихийная сила в первой опере дает себя сильнее чувствовать, а Славься! есть нечто подавляющее, исполинское. И ведь образца не было никакого, антецедентов нет ни у Моцарта, ни у Глюка, ни у кого из мастеров. Поразительно, удивительно! Не меньшее проявление необычайной гениальности есть Камаринская. Так, между прочим, нисколько не собиравшись создать нечто превышающее по задаче простую, шутливую безделку, – этот человек дает нам небольшое произведение, в коем каждый такт есть продукт сильнейшей творческой (из ничего) силы. Почти пятьдесят лет с тех пор прошло; русских симфонических сочинений написано много, можно сказать, что имеется настоящая русская симфоническая школа. И что же? Вся она в Камаринской, подобно тому как весь дуб в желуде! И долго из этого богатого источника будут черпать русские авторы, ибо нужно много времени и много сил, чтобы исчерпать все его богатство.
Да! Глинка – настоящий творческий гений.
23 июля. Даргомыжский? Да! Конечно, это был талант! Но никогда тип дилетанта в музыке не высказывался так резко, как в нем. И Глинка был дилетант, но колоссальная гениальность его служит щитом его дилетантизму; да не будь его фатальных мемуаров, нам бы и дела не было до его дилетантизма. Другое дело Даргомыжский; у него дилетантизм в самом творчестве и в формах его. Быв талантом средней руки, притом не вооруженным техникой, вообразить себя новатором – это чистейший дилетантизм. Даргомыжский под конец жизни писал Каменного Гостя, вполне веруя, что он ломает старые устои и на развалинах оных строит нечто новое, колоссальное. Печальное заблуждение! Я видал его в эту последнюю пору его жизни, и, ввиду страданий его (у него была болезнь сердца), конечно, не до споров было. Но более антипатичного и ложного, как эта неудачная попытка внести правду в такую сферу искусства, где все основано на лжи и где правды в будничном смысле слова вовсе и не требуется, я ничего не знаю. Мастерства (хотя бы и десятой доли того, что было у Глинки) у Д. вовсе не было. Но некоторая пикантность и оригинальность у него была. Особенно удавались ему гармонические курьезы. Но не в курьезах суть художественной красоты, как многие у нас думают. Следовало бы рассказать кое-что рисующее личность Д. (я его довольно часто видал в Москве во время его успехов), да лучше не буду вспоминать. Он был очень резок и несправедлив в своих суждениях (напр[имер], когда он ругал братьев Рубинштейнов), а о себе охотно говорил в хвалебном тоне. Во время предсмертной болезни он сделался гораздо благодушнее, даже значительную сердечность к младшим собратьям проявил. Буду помнить только это. Ко мне (по поводу оперы Воевода) он неожиданно отнесся с участием. Он, наверное, не верил сплетне, что будто я шикал (!!!) в Москве на первом представлении его Эсмеральды.
Дневник № 9
Дневник № 9. «Записная книжка – День за днем – и Календарь на 1889 год».
Часть записей сделана чернилами, часть карандашом.
1889
Января 1/13. Встретил так, что и не вспомнил своевременно. Работал все утро – выход Авроры:

и т. д. Не пил водки за обедом. Это очень хорошо!.. После чая работал. I am not satisfied with ту domestic. I think he is not very honest [622]622
Я не удовлетворен своим слугой. Я думаю, что он не очень честен (англ.).
[Закрыть](900)!!!
2/14 января. День прошел как всегда, когда поглощен работой. Писал большое адажио 2‐го действия, и давалось трудно!!! Даже вечером голова заболела. Гулял перед ужином по двору. Сидел с Феклушей [623]623
Жена Алексея Софронова, слуги П. И.
[Закрыть] у Гаврилы Алексеевича. Луна!!! Приехал сегодня неожиданно Петя – фельдшер, коего не видел 13 лет. Легок на помине – вчера про него с Алёшей говорили. Погода стоит чудная.
3/15 января. Работалось так себе. Впрочем, не слишком тужился, и потому голова не болела. Перед ужином получил известие о смерти Д. В. Разумовского [624]624
Протоиерей, профессор Московской консерватории, знаток церковного пения и автор многих книг в этой области.
[Закрыть].
По утрам читаю Яна и смотрю на те вещи, про которые он говорит. Спасибо Юргенсону за подарок [625]625
П. И. Юргенсон прислал П. И. полное собрание сочинений Моцарта в издании Брейткопфа; оно и поныне сохраняется в Доме-музее П. И. Чайковского в Клину.
[Закрыть]. Письмо от Вольфа, приглашение в Берлин.
4/16 января. Экие чудные дни стоят! Несильный мороз, светло и начиная с 3 или 4 часов луна! Сердился утром на Ал[ексея] за камин. Работал, как всегда теперь, через силу. Кажется, я выдохся!!! Письма: от Юрг[енсона], Вольфа, Над. Ф [626]626
Н. Ф. фон Мекк.
[Закрыть]. и т. д. После обеда гулял долго и был внизу на реке. Дивно! После чая работал, но очень через пень в колоду. Не то!.. После ужина гулял по двору и саду. Вид от конца сзади на Клин и дом изумительны. Странно, что-то неладное в кишках.
5/17 января. Все та же удивительная, чудная, светлая зимняя погода. Работал сегодня вообще хорошо. Кончил 2[ – е] действие [627]627
Балет «Спящая красавица».
[Закрыть]. Проиграл его (длится полчаса). Письмо от Шпажинской, и только. Тяжело получать ее письма. Особенно хорошо чувствовал себя днем, ибо водки не пил. Тщетно ждал появление луны в 4 часа. Она изволила опоздать!!! Объявил решение, что еду завтра в Москву.
6/18 января. Два батюшки служили у меня, и оба завтракали. Тут же были Гаврило Алексеевич и его жена, Алексей и Феклуша. Гулял. Уехал в 7 часов в Москву. Моск[овская] гост[иница]. Ужин.
7/19 января. Москва. У Юргенсона. Свидание с Клименкой после 17 лет разлуки. Заседание. Обед у Юргенсона с Клименко. Весело. Ералаш (!!!). Ужин. Дома [полузачеркнуто].
8/20 января. Москва. Головная не то боль, не то остатки пьянства. В Усп[енском] сoб[ope]. Прогулка. Дома. Добровольский и Орлов. Завтрак (мой) у Лопашева с Юрг[енсоном], Клим[енко], Кашк[иным], Лар[ошем], Кат[ериной] Ив[ановной Ларош], Сашей Зил[оти]. В 7½ домой. Обед. Уехал. В Клину Василий. Вьюга. Стучание. Сцена с Алексеем.
9/21 января. Фроловское. Весь день письма писал. Всего написал 17. Решился вечером просить Всевол[ожского] о гонораре. Какое-то жуткое чувство.
10/22 января. Работа шла хорошо; написал весь антракт к сонной картине, и, кажется, ничего. После обеда с удовольствием прошелся. Было не холодно. Му domestic is very cold with me [628]628
Мой слуга очень холоден со мной (англ.).
[Закрыть]. Вечером играл увертюру Воеводы (отысканную по просьбе Юргенсона) и рассматривал партитуры балетов, когда-то данные мне Гербером.
11/23 января. Особенно хорошо работалось сегодня, как в старину. Многое сделал. Кончил 2[ – ю] карт[ину] 2[ – го] действия. Опыт с Дурой (мы поехали с Алёшей на шоссе, оставив ее на привязи, а Феклуша пустила ее через 5 минут после нас). Читал Достоевского (Двойник). Шоколад. Подслушивание.
12/24 января. Приезжали Юргенсон с Клименкой. Я ожидал массу гостей, но, кроме их, никого не было. Обед, разговоры, игра, прогулка, опять игра. О Толстом. Спал плохо.
13/25 января. Встал очень рано, т. е. успел чай пить с отъезжавшими. Начал В чем моя вера Толстого. Гуляя, встретил детей, шедших из школы. Пришла депеша от Всеволжского о 3000, также телеграмма от Панчулидзевой.
14/26 января. Работал все так же усердно. Является надежда кончить 4 первых картины до отъезда.
15/27 января. Приезжали Зилоти, Танеев (раньше других – играли с ним Моцарта) и Клименко. Спор о Толстом. 5‐я симфония в 4 руки.
16/28 января. Снегу навалило порядком. И вчера, и сегодня трудно ходить. Дети из школы в лесу. Работал до утомления. Страсть к шоколаду.
17/29 января. Через силу работал – уж очень устал. Утопал в снегу во время прогулки. Читаю В чем моя вера по утрам и изумляюсь мудрости, соединенной с детской наивностью. Письмо от Панчулидзевой. Комическое разрешение моих ожиданий.
18/30 января. Такого божественного чудного зимнего дня еще, кажется, никогда не бывало. Красота поистине изумительная. Кончил работу, т. е. первые 4 картины. Письмо от П. И. [Юргенсона] со счетом, повергшим меня в недоумение. Расстройство. После ужина une querelle avec der Diener [629]629
Фраза из французских и немецких слов.
[Закрыть]. He is not delicate [630]630
Он неделикатен (англ.).
[Закрыть].
19/31 января. Приготовление к отъезду. Выезд вечером в Петербург. Грустно было уезжать. С Алекс[еем] в холодн[ых] отнош[ениях].
20 января. Приезд. Цет [631]631
Юлий Цет, агент концертных турне.
[Закрыть]. Вася. Завтрак дома с ним вдвоем. У Бютнера [632]632
«Бютнер» («Битнер»), нотоиздательская фирма в Петербурге в 80‐х годах XIX в.
[Закрыть]. В Дирекции. Сидел на кв[артире] у больного Погожева. Обед у Angele и Гитри. Евгений Онегин с Фигнером [633]633
H. Н. Фигнер, певец (тенор), артист Мариинской оперы в Петербурге.
[Закрыть] и Медеей [634]634
Медея Мей, артистка Мариинской оперы, жена H. Н. Фигнера.
[Закрыть]. Сидел в оркестре.
21 января. Репетиция балета в Б[ольшом] театре. Все время сидел с О. Э. Направник. Обед у нас (Боб, Аня [635]635
А. П. Мерклинг.
[Закрыть], Цет, Вася). В Мих[айловском] театре (Marion Del[orme] в ложе с Аней и Мод[естом]) и в Дв[орянском] собр[ании]. Русский концерт. Стенька Разин Глазунова. Чай дома.
22 января. У Пантелеймона. У В. В. Бутаковой. В Дирекции у Всевол[ожского]. Переговоры с ним и Петипа о балете. Обед у Фигнера. У Палкина с Васей.
23 января. У Направника в 11 час[ов]. Я давал завтрак у Палкина Корсакову, Глазунову и т. д. Разные визиты. В 5 часов у Дир. театр, играл 2‐е действие балета. Обед у Кондратьева. Чай у Боба (сто раз божественного).
24 января. Выезд за границу. Завтрак на вокз[але] с Аней, О. Эд. Напр[авник] и Володей, Цетом, Модей. В отделении (большом) один. Соседи-испанцы. Обычная скука и пьянство. Шоколад.
25 января. Переехали границу. В отд[елении] спального вагона. Читал Доде Бессмертный.
26 января. Приезд в Берлин. У Вольфа. Завтрак у Дресселя solo. У Клиндворта [636]636
Выдающийся пианист, бывший профессор Московской консерватории, друг Рихарда Вагнера.
[Закрыть], у Бока, у Блоха [637]637
Георг Блох, основатель Opern-verein в Берлине, композитор и преподаватель консерватории.
[Закрыть]. Дома. Нездоровилось (зуб болел, ибо холодно). Обед в новом ресторанчике. Шлялся. Дома.
27 января. У Вольфа. У Арто. Завтрак у Дресселя. Болен. Дома. Едличка [638]638
Эрнст Алоизович Едличка, окончил Московскую консерваторию по классу Н. Г. Рубинштейна; с 1887 г. – профессор консерватории Клиндворта и Шарвенки в Берлине.
[Закрыть]. Вольф. С ним в Sing-Academie. Бах. Ужин у Вольфа-брата. Беседа о русск[ой] литерат[уре] с старичком.
28 января. Побывав у Вольфа, сидел дома и переправлял голоса Сюиты. Нездоровилось. Однако завтрак и обед у Дресселя.
29 января. Отъезд из Фридрихштрассе. Довольно много народу. Несимпатичный немец против меня (жена его провожала). Чтение. Обед в Ганновере. Приезд в 10½ в Кёльн. Hôtel du Nord. Симпатичная комнатка. Ужин. Симпатичное лицо.
30 января. Неизвестность о месте и часе репетиции. Тоска и уныние. Слишком рано в Гюрцепихе. Честный комиссионер с красными глазами. Наконец репетиция. Вюльнер [639]639
Капельмейстер в Кёльне.
[Закрыть]. Превосходный оркестр. Table d’hôte (нас всего трое). Вечером опять репетиция. Мне ужин в обществе музыкантов. Радость свидания с Галиром.
31 января. Репетиция. Шло отлично. Обед у Вюльнера. Тоска. Галир расстроен. Дома. Пьянство. Спал. Концерт. Смешная комната артистов. Галир. Певец Мейер. Очень успешно и большой успех. Ужин у Нейтцеля [640]640
Отто Нейтцель, пианист и музыкальный критик; в 1885 г. был преподавателем Московской консерватории.
[Закрыть] (Барон, Директ[ор] театра). Милая жена Нейтцеля.
2/13 февр[аля]. Отъезд из Кёльна. Уложился. Завтракал в 11 ч[асов]. Приходили Галир и Нейтцель. В вагоне. Сначала один; потом симпатичный юноша и опять один. Франкфурт. Отель Шван. Обед. Шалуны мальчишки. Прогулка. У докт[ора] Зигера. Дома.
2/14 февр[аля]. Не особенно волновался. Директор Мюллер и докт[ор] Зигер. Museum. Репетиция. Косман [641]641
Бернгард Косман, виолончелист-виртуоз; в 1866–1870 гг. состоял профессором Московской консерватории.
[Закрыть]. Холодность музыкантов; оркестр хуже Кёльнского. Сюита. Уверт[юра] 1812 г[од]. Очевидно неблагоприятное впечатление. Переговоры. Решено ее не играть. Обед у Космана. Он ужасно постарел. Любезная жена и дочки. У Мюллера. Худая, как лучина, жена. Кофе. Скука и тоска. Дома. Неприятное сознание неуспеха. У Космана. Ужин. Любезность и доброта их.
3/15 февр[аля]. Репетиция. Публика. Музыканты внимательнее. Кнорр [642]642
Иван Кнорр, окончил Лейпцигскую консерваторию; был в Харькове с 1874 г. преподавателем музыки, а в 1883 г. переехал во Франкфурт, где стал профессором в консерватории Гоха. Впоследствии автор биографии П. И. на немецком языке.
[Закрыть] (женатый на русской), Густав Эрлангер [643]643
Композитор и музыкальный критик в Берлине.
[Закрыть]. Дома. Завтрак соло. Композитор Уршпруг [644]644
Антон Уршпрух (Уршпруг), ученик Раффа и Листа, пианист, преподаватель консерватории во Франкфурте, композитор.
[Закрыть]. Прогулка. Дома. Пьянство. Сон. Концерт. Огромный успех. В артист[ической] комнате Косманы. С 2 барышнями сидел в зале. Ужин у доктора Зигера. Симпатичная обстановка. М-те Кваст [645]645
Жена известного пианиста и дочь композитора Фердинанда Гиллера.
[Закрыть] – дочь Гиллера. Домой в 1 ч[ас].
4/16 февр[аля]. Укладка. Визиты (Стасни, Lamond [646]646
Фредерик Ламон, пианист и композитор.
[Закрыть], Vede и племянник André, Косманы). Долг, уплаченный Густавом Эрлангером (когда-то лет 20 назад стуколка). С М-те Косман на вокзале. Завтрак. Кнорр, он и жена, старик Косман. Отделение. Всю дорогу кутил. В Лейпциге пересадка. Разговорчивый немец. Притворный, потом настоящий сон. Дрезден ночью.
5/17 февр[аля]. Встал в 8. Поправка (поверхностная голосов симфонии). Визиты г. Пражека и Зауэра [647]647
Эмиль Зауэр, пианист, ученик Франца Листа.
[Закрыть]. Обед в table d’hôte. Сосед, узнавший и заговоривший со мной. Прогулка по городу. Дома. Поправка. В театре Königin von Saba [648]648
«Царица Савская» (нем.) – опера К. Гольдмарка.
[Закрыть]. Мне очень не понравилась музыка. Плохие певцы, особенно тенор. Фальшь и условность. Дома. Kalter Aufschnitt [649]649
Холодная закуска из ломтиков разных сортов колбас, ветчины, мяса (нем.).
[Закрыть]и чай. Рано спать лег.
6/18 февр[аля]. Печальный день. Репетиция. Оркестр оказался третьестепенный. Симфония шла отвратительно. Неучтивость г. Риса [650]650
Франц Рис начатую с большим успехом карьеру скрипача должен был оставить по болезни; с тех пор посвятил себя музыкально-издательской деятельности (совладелец фирмы «Рис и Эрлер» в Берлине).
[Закрыть]. Пение девицы и тенора из Праги. Дома. У Зауэра. Он и жена (хорошенькая) – воркующие голубки. Очень милы. Славный обед. Дома. (Зауэр провожал.) Тоска. Шлялся после спанья. Не знал, как убить время. Дома. Ужин. Блест[ящее] освещение.
7/19 февр[аля]. Вторая репетиция. Возился до изнеможения. Отсутствие распорядителей. Обед за table d’hôte отдельно. Прогулка. Спал дома. Вечер у Зауэра. Мюллер. С ним домой. Пунш.
8/20 февр[аля]. Третья репетиция. Старательность музыкантов; угощение пивом. Продолжающееся отсутствие распорядителей. Плётнер явился к концу только. Я напрасно готовился к Ah perfido [651]651
Известная ария Бетховена.
[Закрыть]. Обед в ресторане. Спал. Концерт. Страшно боялся и скверно себя чувствовал, особенно вначале. Успех гораздо меньше, чем в Кёльне и Франкфурте. Однако туш. Ужин у Зауэра с гостями и речами.
9/21 февр[аля]. Берлин. Уложился. Девица Доброва с веерами. Визиты Грюцмахеру [652]652
Фридрих Вильгельм Грюцмахер, виолончелист-виртуоз.
[Закрыть] и Шуху [653]653
Эрнст Шух, дирижер; с 1863 г. был придворным капельмейстером Дрезденской оперы.
[Закрыть]. Обед у Зауэра со старухой и Мюллером. У Шольца [654]654
Бернгард Шольц, композитор, дирижер и теоретик музыки.
[Закрыть]. Автографы. Его пьесы. Странная жена. Вместе все трое в гостиницу и в кафе. Пиво. Газеты. Статья Гартмана [655]655
Людвиг Гартман, пианист, композитор, музыкальный критик.
[Закрыть]. На вокзале. Пиво. Уехал. В 111∕2 в гостинице. Ужин в комнате.
10/22 февр[аля]. У Вольфа. Его нет. Письма. У М-те Клиндворт. Завтрак у Дресселя. Зима. У Шнейдера [656]656
Карл Шнейдер, учитель музыки и музыкальный критик.
[Закрыть] – не застал. У Бока в магазине. Дома. Перешел в 1‐й №. Обед у Блохов. Куманин. Боки. С Боком в Opern haus. 9‐я симфония. Дома. Ужин. Телеграмма к Бернуту.
11 /23 февр[аля]. Сомнение насчет Шнейдера. Бок у меня. Ужасная погода. Я у Шнейдера. Перемены. Я согласен. У Дресселя. Визиты к Куманину и к Кудрявцеву. Вечер у Арто. В конце ужина Куманин; он прямо с обеда, на коем был Император. Американская львица. Бернштамы. С Куманиным домой.
12/24 февр[аля]. Когда я вышел, оказалось, что объявлений о концерте нет. Гнев. У Вольфа. Кое-что разъяснилось. Уплата 200 марок, полученных от Вюльнера. Обед у Клиндворта. Едлички. Пиво. Домой. Вечер у Кудрявцева. Карты. Поздний ужин. Святловская [657]657
А. В. Святловская, артистка Большого театра и профессор пения.
[Закрыть]. Проводил ее.
13/25 февр[аля]. Первая репетиция. Неизвестность о солистах. Серенада. Оркестр изумителен. Завтрак у Руммеля [658]658
Берлинский пианист.
[Закрыть]. Его собачка. Концерт. Дома. Сон о Папаше. Обед у Боков великолепный. Арто. Ее вопрос о ребенке. Маленький Гофман [659]659
Иосиф Гофман, пианист, еще ребенком с успехом выступал в концертах.
[Закрыть]. С Куманиным домой.
14/26 февр[аля]. В 11 ч[асов] генеральная репетиция. Матильда Ивановна и девицы Кудрявцевы. Завтрак у себя внизу. Heutlon. Косман не пришел. Прогулка. Пьянство дома. Концерт. Не особенно. Полный зал. С Косманом вышел. Ужин у Кудрявцева. Г-жа рыботорговка. Кафе Бауэр. Телеграмма от Dekostel.
15/27 февр[аля]. Мучительная тоска. Завтрак у посла. Он очень симпатичен. Попка. Секретари. Пассаж. Прогулка. Дома. Безумная тоска и слезы. Обед у Дресселя соло. Дома. Вечер у Клиндворта. Очень мило и трогательно. Ужин с Арто, Боками, Едличкой и т. д. в Belle-vue. Тоска.
16/28 февр[аля]. Уложился. Едличка. Вольф (деньги от Вюльнера и предл[ожение] Евг[ения] Он[егина] игр[ать] в буд[ущем] сез[оне]). Известие о смерти К. Ю. Дав [660]660
Карл Юльевич Давыдов, композитор и виолончелист.
[Закрыть]. С Едличкой к Кудрявцевым. Блины. Гр. Муравьев. У Клиндворта. Дома. Уплата. Обед у Дресселя (Боки, Арто, Больман [661]661
Георг Карл Больман, органист и капельмейстер в Копенгагене, композитор.
[Закрыть], Венявский [662]662
Генрих Венявский, пианист и композитор, был одно время профессором Московской консерватории.
[Закрыть]). Провожали Бок, Едличка, Баронесса Зенф [663]663
Баронесса Зенфт обратилась к П. И. с просьбой пожертвовать на памятник И. Раффу.
[Закрыть]. Один в вагоне. В 111∕2 в Лейпциге. Меня приняли как старого друга.
17/29 февр[аля]. Лейпциг. Альберт, Макс [664]664
Макс Эрдмансдерфер.
[Закрыть] и Эмма. В той же комн[ате] (№ 43). Все это мне приятно. Письма. Когель [665]665
Франкфуртский дирижер.
[Закрыть] пронюхал и пришел. Его предложение войти в дела с докт[ором] Абраамом (Петерс). Обед с ними двумя внизу в table d’hôte. Прогулка. Дома. Холод. В Театре. Der Barbier v. Bagdad, Die Puppen Fee [666]666
Названия спектаклей.
[Закрыть]. Ужин. Дома. Письмо от Бернута. Решил ехать в Гамбург после Женевы.
18/1 февр[аля]. Приходил Шефер (Vertreter Ратера [667]667
Представитель издательства (нем.).
[Закрыть]). Издатель Payne. Пешком к Бродским. Все по-старому, только Ольги Льв[овны] нет. Милые люди. Обед. Новачек и Синнинг. Прогулка. В 7 ч[асов] опять к ним. Мой 3‐ий квартет, феноменально исполненный. Ужин. Кленгель [668]668
Юлиус Кленгель, немецкий виолончелист.
[Закрыть] (у него жена только что родила). Домой в 1 ч[ас] ночи. Тоска моя немного улеглась.