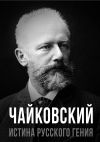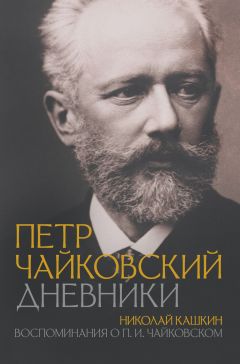
Автор книги: Петр Чайковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мая 6/18. В 10½ часов за мной зашел Боткин. Я расплатился и уехал. Провожали кроме Боткина Грегр и Гансен. Ехал в Pullmann саr’е. Все время сидел в курительном отделении, боясь разговоров с дамой, коей Грегр меня представил. В Филадельфию приехал в 3 часа. Посетил aus der Ohe. Завтракал внизу. Приходил весьма назойливый одесский еврейчик и выпросил денег. Гулял. В 8 часов концерт. Огромный театр полный. После концерта был в клубе, согласно давнишнему обещанию. Возвращение в Нью-Йорк, очень скучное и сложное. В спальном вагоне духота и теснота. Проснулся с головной болью. Бесконечно долго ехали домой с aus der Ohe. Писать подробно становится невозможным.
Мая 7/19. Спал до 9 часов, и голове стало лучше. Посещение Рейнгардта и Holls’а [817]817
Известный адвокат, впоследствии участник мирной конференции в Гааге.
[Закрыть]. От усталости и суеты отупел; ничего не понимал и только поддерживал свою энергию мыслью о предстоящем завтра отъезде. Письма с просьбой автографов одолели. В 12½ часов отправился к Майеру. Написал пресловутое письмо-рекламу с пропуском фразы о первенстве. Завтракал с ним и Рейнгардтом в итальянском ресторане. Дома ожидал композитора Brumklein. Он явился и проиграл мне несколько своих вещей, очень миленьких. В 4 часа пришел за мной M-r Holls. С ним и сестрами aus der Ohe мы отправились на Central’ный вокзал, сошлись с супругами Рено и поехали вдоль Гудсона. Через полчаса вышли из поезда и, усевшись в шарабан, по чудной, живописной дороге направились к даче Holls'a. Эта дача-вилла, весьма изящной постройки, стоит на высоком берегу Гудсона, и вид, открывающийся с балкона, из беседки и особенно с крыши дома, бесподобен. В 6 часов сели обедать. Беседа была оживленная, и мне было нетяжко, ибо чего я не могу вытерпеть теперь, ввиду скорого отъезда!!! Aus der Ohe после обеда играла. В 10½ часов сели опять в шарабан и по железной дороге вернулись домой. Рено толковал о моем ангажементе на будущий год. Зашел к aus der Ohe и простился с ними. Укладывался.
Мая 8/20. Старичок либреттист. Очень жаль было высказать ему нежелание написать оперу на его текст. Он был видимо огорчен. Только что он ушел, как уже явился за мной Данненрейтер [818]818
Ошибка. Следует читать: Данрейтер (пианист).
[Закрыть], чтобы везти на репетицию квартета и трио, которые сегодня вечером должны исполняться на торжественном вечере в Composer’s Club. Пришлось ехать довольно далеко. Играли квартет неважно, а трио даже совсем плохо, ибо пианист (M-r Huss, скромный и трусливый) совсем плох, даже считать не умеет. Дома не успел ничего сделать по части приготовления к отъезду. В карете отправился к Рено на lunch. Больше, чем когда-либо, они, т. е. М-те Рено и три дочери, относились ко мне восторженно и радушно. Старшая (Анна, замужняя) подарила мне роскошный портсигар; М-те Рено – массу духов; Алиса и ее сестра – печенья на дорогу. После них поспешил к Hyde. М-те Hyde поджидала меня. И тут много искренней восторженности, выраженной с свойственным ей юмором. Наконец мог заняться дома укладкой – занятие ненавистное. Притом у меня болела неистово спина. Усталый, пошел к Майеру. Я угостил его и Рейнгардта у Мартианелли [819]819
Мартианелли – ошибочно вместо Мартинелли. – Прим. М. И. Чайковского.
[Закрыть] прекрасным обедом. В 8 часов поспешил домой для перемены туалета. В 8½ за мной пришел Mowson. Composer’s Club не есть клуб композиторов, как я сначала думал, а особенное музыкальное Общество, цель коего – от времени до времени устраивать сеансы из сочинений одного композитора. Вчера вечер был посвящен мне, и происходил он в великолепной зале Metropolitan Opera. Я сидел в первом ряду. Играли квартет es-moll, трио, пели романсы, из коих некоторые исполнены прекрасно (Mists Alwes), и т. д. Программа была слишком длинная. В середине вечера M-r Smith читал мне адрес; я отвечал кратко по-французски; разумеется, овации. Одна дама бросила мне прямо в лицо великолепный букет из роз. Познакомился с массой людей, в том числе с нашим Генеральным консулом. После конца мне пришлось побеседовать с сотней лиц, написать сотню автографов. Наконец, усталый до изнеможения и страдая неистово от боли в спине, отправился домой. Так как пароход отходит в 5 час[ов] утра, то надо с вечера попасть на него. Наскоро уложился, переоделся; присутствовали при этом Рено, Майер и Рейнгардт. Внизу выпили 2 бутылки шампанского, после чего, распростившись с персоналом отеля, поехал на пароходе. Ехали очень долго. Пароход оказался таким же великолепным, как la Bretagne. Моя каюта офицерская; т. е. офицеры на этих пароходах имеют право продавать свои помещения, но и дерут неистово. Я заплатил 300 долларов (1500 фр.) за свою каюту!!! Но зато действительно хорошо и поместительно. Распростился с милыми американскими друзьями и вскоре после того лег спать. Спал плохо и слышал, как в 5 часов пароход тронулся. Вышел из каюты, когда проходили мимо статуи Свободы.
Мая 9/21. Несмотря на отчаянную боль в спине, оделся через силу, выпил внизу чаю и походил по пароходу, дабы освоиться с расположением частей его. Пассажиров огромная масса, – но общество их имеет другой характер, чем те, что ехали на Bretagne. Самая же разительная разница в том, что нет эмигрантов. В 8 часов позвали на Breakfast. Место мне указали уже раньше. Соседом имею средних лет господина, немедленно начавшего разговор. Все утро спал. К виду океана равнодушен. О предстоящем пути думаю без ужаса, но с тоской: хотелось бы поскорее! Пароход летит с особенной быстротой: это новый, роскошный Князь Бисмарк, совершающий свое первое обратное плавание. Из Гамбурга в Нью-Йорк он пришел на прошлой неделе, пробыв в плавании всего 6 дней и 14 часов. Дай Бог, чтобы и мы так же скоро проехали огромную дистанцию. На ходу он не так покоен, как Bretagne. Погода пока чудная. За lunch’ем ближе познакомился с моим vis-à-vis. Это господин неопределенной национальности (может быть, еврей, а я, как нарочно, рассказал ему историю про назойливого еврейчика), превосходно говорящий на всех языках. Живет он в Дрездене и торгует табаком en gros [820]820
Оптом (фр.).
[Закрыть]. Он успел уже узнать, кто я, или, если говорить правду, в самом деле видел меня дирижирующим в Нью-Йорке, – но, во всяком случае, он рассыпался в любезностях и в восторге перед моей знаменитостью и талантливостью. Привыкши в Нью-Йорке постоянно говорить, несмотря на охоту молчать, я без труда стал переносить его сообщество, тяготившее меня утром. Певица Antonia Mielke, про которую я знал, что она едет на этом пароходе и которой побаивался, к счастию, сидит не за одним столом со мной, о чем она, кажется, хлопотала. Я с ней свиделся уже перед самым обедом. После lunch’а хотел читать, но вместо того заснул и проспал добрых часа три. Вообще я удивительно много спал в этот день, а вечером вскоре после обеда опять на меня напала сонливость так, что я лег в постель в 10‐м часу и спал до 7 часов утра. Ничего особенного в течение дня не произошло. Подходил ко мне и совершил знакомство г. Аронсон с молоденькой женой, содержатель театра Casino, излюбленного Бюловом, о чем свидетельствует альбом автографов, присланный мне на днях для написания моего имени и нотной строчки. Прислужник моей каюты – Шредер, предобрый молодой немчик; за столом прислуживают двое тоже ласковых немца, это для меня очень важно. Вообще пароходом, каютой, едой я доволен. Так как эмигрантов нет, то ходить можно по нижней палубе, что очень приятно, ибо там я не встречаю своих спутников 1‐го класса и могу молчать.
Мая 11/22. День, ничем особенным не выдающийся. Погода была несколько туманная, как всегда близ Banks [821]821
Мелей (англ.).
[Закрыть]Ньюфаунланда, но тихая. К пароходу и публике я уже привык, и отношения мои установились. Я держу себя в стороне и, благодаря чудной каюте, где даже и ходить можно без затруднения, чувствую себя гораздо свободнее, чем на Bretagne. С соседом по столу разговариваю без натяжки. С другими соседями, американской семьей, – на, так сказать, шапочном знакомстве. С Mielke раз в день беседую об опере, певцах, Петербурге, где она пела 2 г[ода] тому назад в Ливадии. С Аронсоном и женой его только кланяюсь. Из остальных трехсот пассажиров не знаюсь пока ни с кем. Хожу в курительную и смотрю, как играют в карты. Мой сосед по столу целый день играет там в скат. В салон захожу, когда никого не бывает, по утрам. Там стоит изящный рояль Штейнве. При нем недурная музыкальная библиотека. Есть и мои творения. Распределение дня следующее. Утром, одевшись, звоню, и Шредер приносит мне чашку чаю. В 8 часов первый завтрак. Ем яичницу и пью чай с пфанд-кухеном. Чай хорош. Хожу потом по нижней палубе, занимаюсь, читаю. Под занятием разумею эскизы к будущей симфонии. В 12 часов раздается там-там – это призыв к 2‐му завтраку. Подают 2 горячих и массу холодных кушаний. Затем опять хожу, читаю, беседую с Mielke. В 6 часов обед. Он тянется до 7½. Пью кофе в Раухциммер, брожу по пароходу, особенно по нижней палубе, где только третьеклассники, коих немного. Спать ложусь рано. Два раза в день играет оркестр. Он состоит из стюардов 2‐го класса, коих человек 16, и играет совсем порядочно, хотя репертуар плохой. Первый раз они играют в 2 часа, второй во время обеда. Морем восхищаюсь мало. Оно великолепно, но я слишком переполнен стремлением домой. Здоровье превосходно. Аппетит, какого не было давно. Все три раза поглощаю огромную массу пищи. Эту ночь спал я почему-то скверно; беспрестанно просыпался. Читаю я теперь книгу Татищева Alexandre et Napoléon.
Мая 11/23. Мне так часто говорили в Нью-Йорке, что в это время года море превосходно, что я в это уверовал. О, какое разочарование! С утра погода портилась; пошел дождь, задул ветер, а вечером буря. Ужасная ночь! Не спал. Сидел на диване. К утру задремал.
Мая 12/24. Отвратительный день. Погода ужасная. Море беснуется. Морская болезнь. Рвало. За весь день съел один апельсин.
Мая 13/25. Вчера вечером, совершенно изнеможенный от усталости и нездоровья, я заснул одетый на своем диванчике и так проспал всю ночь. Сегодня качка меньше, но погода все-таки отвратительная. Нервы невыразимо напряжены и раздражены шумом и треском, не прекращающимся ни на минуту. Неужели я еще раз решусь на подобную муку?
В течение дня качка все уменьшалась, и мало-помалу погода сделалась очень хорошей. На меня нашло отвращение к обществу пассажиров; самый вид их злит и ужасает меня. Почти безвыходно сижу в своей каюте. Впрочем, за едой кроме обычного собеседника-табачника я уже теперь разговариваю по-английски с американской компанией, сидящей за нашим столом. Они весьма милые люди, особенно высокая, полная дама. Едут они на север Норвегии смотреть на полунощное солнце. Оттуда собираются в Петербург.
Мая 14/26. Ночь была превосходная, тихая, лунная. Начитавшись у себя в каюте, я долго гулял по палубе. Это было удивительно приятно. Все без исключения спали, и я был единственным из 300 пассажиров 1‐го класса вышедшим полюбоваться ночью. Красота неописанная, и словами этого не передашь. Странно теперь вспоминать ужасную ночь на воскресенье, когда в моей каюте все предметы, даже сундук, катались из одного угла в другой, когда какие-то ужасные толчки, приводившие в содрогание и казавшиеся последним усилием парохода бороться с бурей, наполняли душу мучительным страхом, когда в довершение ужаса электрическая лампа с колпаком свалилась и разбилась вдребезги!.. Я давал себе в ту ночь слово никогда больше не плавать по морю. Но мой стюард Шредер говорит, что при каждой скверной погоде он дает себе слово бросить пароходную службу и при каждом возвращении в гавань стремится в море и скучает без него. То же, может быть, будет и со мной. Погода сегодня окончательно установилась превосходная. Пассажиры поговаривают о концерте сегодня, в салоне, и пристают, чтобы я играл. Вот что отравляет морское путешествие: это обязательное знакомство с обществом пассажиров.
Мая 15/27. Погода установилась прекрасная. Изредка перепадали маленькие дождички. По мере приближения к Ламаншу море все делалось оживленнее. Целые сотни небольших рыболовных суден пестрели на виду парохода. Около 2 часов дня стал виден английский берег, местами скалистый и живописный, местами ровный, покрытый свежей весенней травкой. А впрочем, ничего особенного не произошло, за исключением разве бала после обеда, на коем я присутствовал не более пяти минут. Круг знакомства расширился ужасно. К счастью, могу целыми часами прятаться в своей превосходной каюте. В 2 ч[аса] ночи пришли в Саутгантон [822]822
Саутгантон и далее Санутгантон – ошибочно вместо Саутгемптон.
[Закрыть]. Здесь часть пассажиров, в том числе Аронсоны и американская семья, едущая в Норвегию, вышли. Я проснулся и вышел посмотреть на отход маленького пароходика. Любовался превосходным солнечным восходом.
Мая 16/28. После Санутгантона и острова Вайт я опять спал и проснулся в 7 часов слегка простуженный. Погода продолжает быть превосходна. Большую часть утра провел на палубе в компании братьев Тидеманов, моих новых друзей, любуясь берегом Англии и видом массы пароходов и парусных суден, снующих по каналу. Промелькнули Фолькстон, Дувр. Немецкое море очень оживленно. Ночью Гельголанд вдали.
Мая 17/29. Рано утром пришли в Куксгавен. В б часов нам дали завтракать. В 8 мы пересели на маленький пароход и при звуках марша и криках «ура» доехали до таможни. Очень долгий осмотр и ожидание поезда. Я сидел в купе с Гюльзе, Тидеманами и певцом Арамбуро [823]823
Певец (тенор), выступавший в итальянской опере в Москве.
[Закрыть]. В 12 часов приехали в Гамбург. Я остановился в Hôtel St. Petersburg.
Николай Кашкин
Воспоминания о П. И. Чайковском
I
25 октября 1893 года в Петербурге скончался от холеры Петр Ильич Чайковский. Кончина эта во многом изменила положение русской музыки; из рядов ее представителей внезапно ушел самый энергичный, неутомимый, талантливый деятель, бесконечно преданный своему делу и служивший примером для всех других. Не нам ценить значение покойного в искусстве: оставленное им художественное наследие так велико и богато, занимает такое высокое место в русском искусстве, что вполне верный приговор ему может быть сделан лишь будущими поколениями; мы же стоим еще слишком близко к этой высокой художественной силе, безвременно угасшей, чтобы окинуть всю ее беспристрастным и вполне сознательным мысленным взором. Имя Чайковского было знаменито не в одной России, весь цивилизованный мир знал его, и не много имен между современными музыкантами было, окружено таким ярким ореолом славы, особенно там, где русские «друзья» не успели внести свою лепту на алтарь собственной ограниченности, разъясняя читающей публике преувеличенность якобы ее симпатий к любимому композитору.
Жизнь людей, подобных моему почившему другу, как я имею смелость называть его, представляет настолько выдающийся интерес, что даже мелочные подробности ее могут быть ценными, позволяя иногда яснее понимать и ценить совершенное ими в деле искусства. Мне, пишущему эти строки, довелось быть близким к покойному, в особенности в первой половине его композиторской деятельности, пока он состоял профессором Московской консерватории, – и потому я считаю своей обязанностью записать мои воспоминания о нем, не задаваясь определенной программой, не делая выбора, а просто сообщая все, что придет на память из его жизни. Быть может, при этом придется упоминать и о других лицах, касаться некоторых подробностей московской жизни, но я постараюсь ограничиться в этом отношении лишь необходимым и не отклоняться по возможности от главного предмета. Считая воспоминания мои просто материалом для будущего биографа, я не буду заботиться особенно о стройности литературной формы и потому заранее должен просить снисхождения за могущую встретиться бессвязность и отрывочность рассказа.
* * *
Впервые узнал я имя Чайковского в 1864–65 году из писем ко мне Г. А. Лароша, бывшего вместе с ним учеником Петербургской консерватории и писавшего о нем как о будущей звезде русской музыки; эти письма имели, кажется, влияние на приглашение Петра Ильича в Москву, и потому я о них упоминаю. В Москве существовали с 1863 года открытые Музыкальным обществом классы, служившие подготовлением для будущей консерватории. Гармонию в классах преподавал Н. Г. Рубинштейн, но он мог уделять на это очень мало времени, и притом самый предмет мало интересовал его; во всяком случае для консерватории, открытие которой предполагалось в 1866 году, необходим был преподаватель этого предмета, а также и других отделов теории музыки. В то время в России было очень немного людей, которым возможно было бы поручить такое дело, и выбор Н. Г. Рубинштейна остановился сначала на А. Н. Серове, который дал было свое согласие, но колоссальный успех «Рогнеды» в Петербурге и неуспех «Юдифи» в Москве приковал его к Петербургу и заставил отказаться от московской деятельности. Отказ этот воспоследовал осенью 1866 года, и тогда, не видя другого исхода, Н. Г. Рубинштейн решился взять одного из учеников Петербургской консерватории, первый выпуск которой предстоял в декабре 1865 года. (В первые годы существования Петербургской консерватории выпускные экзамены бывали в декабре). Когда Н. Г. сообщил мне о своем намерении, то я поспешил ему показать письма Лароша, где говорилось о Чайковском, и таким образом последний был намечен кандидатом. Отправившись в Петербург, Н. Г. увиделся с Г. А. Ларошем, усиленно старавшимся об успехе кандидатуры своего товарища и друга, а личное свидание с П. И. Чайковским и впечатление, им произведенное, заставило Н. Г. Рубинштейна принять окончательное решение и пригласить П. И. даже вопреки советам Н. И. Зарембы, бывшего тогда профессором теории музыки в Петербургской консерватории и предлагавшего другое лицо, также из числа оканчивавших курс, Г. Г. Кросса, бывшего потом профессором фортепиано в Петербургской консерватории и скончавшегося несколько лет назад. Основанием для предпочтения, оказанного Н. И. Зарембой последнему, были, вероятно, более зрелый возраст (Г. Г. Кроссу было тогда около 40 лет) и педагогическая опытность, ибо Г. Г. Кросс еще до поступления своего в число учеников Петербургской консерватории был уже довольно известным в Петербурге фортепианным учителем и пианистом, между тем как П. И. начал серьезные музыкальные занятия менее нежели за три года до времени, о котором говорится. Впрочем, в консерватории в последние полтора года он исправлял уже должность репетитора по классу гармонии, то есть поправлял задачи учащихся, потому что Н. И. Заремба, ученый музыкант и превосходный лектор, не имел, кажется, способности достаточно быстро выполнять эту работу, или, быть может, она казалась ему просто слишком скучной.
Невзирая на это обстоятельство, в Петербурге Чайковскому не особенно доверяли; музыкантам, вероятно, казалось сомнительным, чтобы светский молодой человек, дилетант, в 2½ или 3 года мог сделаться вполне законченным, серьезным музыкантом. Такое недоверие оправдывалось тем, что никому почти не была известна та невероятно огромная энергия, которую молодой музыкант влагал в свои классные работы.
Мне представляется нелишним упомянуть здесь о некоторых обстоятельствах, сопровождавших поступление Петра Ильича в консерваторию, как он сам рассказывал их.
Окончивши в 1859 году курс в училище правоведения, он поступил в службу в департамент министерства юстиции и вел жизнь светского молодого человека. В обществе Петр Ильич блистал, между прочим, своими музыкальными талантами; в училище он был учеником известного пианиста и педагога Р. Кюндингера и с большим эффектом играл две Des-dυr’ных пьесы: «Ноктюрн» Деллера и «Aufforderung zum Tanz» [Приглашение к танцу] Beбeра. Питая с детства страсть к музыке, будущий автор «Онегина» не смел и думать сделаться музыкантом: по господствовавшим тогда воззрениям в обществе, это было совсем немыслимо. У Петра Ильича был родственник, кузен, молодой конногренадерский офицер, также очень любивший музыку и усердно занимавшийся ею. Молодые люди часто встречались в обществе и до известной степени соперничали своими музыкальными талантами. Дальше я буду, сколько припомню, говорить словами самого Петра Ильича: «Однажды, – рассказывал он, – мы встретились где-то c ***, стали говорить о музыке, и он между прочим сказал, что может сделать переход из одного тона в какой угодно другой не более как в три аккорда. Меня это заинтересовало, и к удивлению моему, какие ни придумывал я далекие переходы, они моментально исполнялись. Я считал себя в музыкальном отношении более талантливым, нежели ***, а между тем я и подумать не мог проделать то же самое. Когда я спросил, где он научился этому, то узнал, что существуют классы теории музыки, открытые Русским музыкальным обществом, где можно узнать все эти премудрости; я немедленно отправился в эти классы и записался слушателем у Н. И. Зарембы».
Такое незначительное, по-видимому, обстоятельство послужило поворотным пунктом во всей жизни Петра Ильича. Впрочем, первое время он, посещая классы и слушая лекции Зарембы, сам почти не работал, а следовательно, оставался на уровне дилетантского отношения к делу. Но все изменилось вследствие вмешательства еще нового лица, А. Г. Рубинштейна, очень интересовавшегося классом теории музыки и часто бывавшего в нем. Во время этих посещений и просмотра работ учащихся А. Γ. тотчас же отличил выдающиеся способности молодого человека, но в то же время заметил и небрежность его в занятиях. А. Г. поступил со свойственной ему решимостью и прямотой; он обратился однажды после класса к привлекшему на себя его внимание ученику, сказал свое мнение о его таланте и вместе с тем обратился с просьбой или заниматься вполне серьезно, или покинуть классы, потому что, как говорил А. Г., он не мог переносить поверхностного отношения к делу со стороны столь даровитого молодого человека. Петр Ильич питал в то время к А. Рубинштейну просто чувство обожания, и сказанное им решило его судьбу бесповоротно: служба и светская жизнь отошли совершенно в сторону, их сменило страстное увлечение занятиями музыкой. Молодой человек обнаружил в этом отношении невероятную, сказочную энергию; некоторое понятие могут дать слова А. Г. Рубинштейна, сказанные им в моем присутствии и в присутствии Петра Ильича, когда последний был уже профессором Московской консерватории: «Чайковский работал удивительно, – говорил А. Г. – Однажды в классе композиции я задал ему написать контрапунктические вариации на данную тему и прибавил, что в подобной работе имеет значение не только ее качество, но и количество, предполагая при этом, что он напишет десяток-другой вариаций, а вместо того на следующий класс я получил их, кажется, более двухсот. Куда же мне было, – с добродушным смехом прибавил рассказчик, – просмотреть все это, пришлось бы употребить гораздо больше времени, нежели во сколько они были написаны». Посредством такой работы молодой дилетант в три года успел сделаться вполне законченным музыкантом, что доказала его экзаменная работа: кантата для соло, хора и оркестра на текст из оды Шиллера «К радости». Кантата эта сохранилась, И, мне кажется, ее бы следовало напечатать, да и сам автор даже в последнее время своей жизни говорил, что совсем не считает эту кантату очень слабой работой и охотно бы увидал ее в печати.
В Москву Чайковский приехал в первых числах января 1866 года и немедленно вступил в исполнение обязанностей преподавателя по классу гармонии. Московское отделение Музыкального общества не располагало тогда большими денежными средствами, расходы по содержанию классов сокращались насколько возможно и самые классы помещались при квартире Н. Г. Рубинштейна, на Моховой, в доме Воейковой, ныне графини Крейц; Общество платило половину стоимости всей квартиры, а преподаватели классов пения и инструментальных получали вознаграждение непосредственно от учащихся по восьми рублей в месяц за два урока в неделю. В теоретических классах плата была гораздо меньше, едва ли не по два рубля в месяц. Когда приглашен был П. И. Чайковский, в классе гармонии учащихся было немного, и платой с них труд преподавателя во всяком случае не оплачивался, поэтому ему было предложено по 50 рублей в месяц впредь до открытия консерватории, которое предполагалось в ближайшем сентябре. Хотя жизнь в Москве была в то время много дешевле, нежели теперь, но и тогда 50 рублей в месяц были деньги небольшие, и Н. Г. Рубинштейн, которого П. И. с первого раза очаровал своей изящной скромностью, еще в Петербурге предложил ему поселиться пока у него, вследствие чего новый преподаватель прямо со станции железной дороги приехал в квартиру Рубинштейна со всем своим небольшим багажом. У Рубинштейна жил тогда молодой скрипач, г. Шрадик, приобретший впоследствии европейскую известность, – так что в квартире, кроме самого хозяина, было двое жильцов. Сам Рубинштейн видел своих сожителей только за утренним чаем, после которого он уезжал и возвращался обыкновенно поздней ночью; исключения из этого общего правила были редки. Шрадик был, что называется, человеком покладистым и для сожительства вполне удобным, но он по нескольку часов в день играл на скрипке и в это время был, конечно, соседом не особенно приятным; впрочем, он скоро уехал на отдельную квартиру. Пришедши однажды утром в свой фортепианный класс, я узнал от Н. Г. Рубинштейна о том, что его новый жилец прибыл и уже водворился в своей комнате; вместе с тем он предложил мне познакомиться с ним немедленно, на что я изъявил полнейшее согласие, и мы отправились в квартиру Рубинштейна, где я и увидел в первый раз Петра Ильича, который показался мне очень привлекательным и красивым; по крайней мере в лице его был ясный отпечаток талантливости и вместе с тем оно светилось добротой и умом. Через посредство Г. А. Лароша мы уже ранее знали друг друга заочно, вследствие чего мы встретились уже почти как знакомые и наши отношения сразу приняли простой, товарищеский характер. Сколько мне помнится, я тут же предложил П. И. отправиться по окончании моего класса ко мне обедать, на что он согласился и через несколько часов уже сидел в моей квартире. За обедом у нас, конечно, завязались оживленные разговоры, и мы проболтали очень долго, а может быть, и поиграли в четыре руки на фортепиано, что П. И. всегда очень любил. Обед и послеобеденная беседа укрепили мои симпатии к новому товарищу; нас сближала не только музыка, в которой вкусы наши очень сходились, но и литература. П. И. всегда много читал, я также был близко знаком в особенности с русской литературой, и обсуждения различных писателей, поэтов и композиторов давали нам неистощимые темы для разговоров. В то время кроме Глинки и Моцарта, занимавших в его музыкальных симпатиях всегда первое место, П. И. очень увлекался Шуманом, преклонялся, разумеется, перед Бетховеном, но не особенно любил Шопена, находя у него некоторую болезненность выражения, а также избыток личной чувствительности; пылкие, мужественные порывы Шумана и его мечтательная сентиментальность привлекали его более. Впоследствии исполнение Шопена Н. Г. Рубинштейном заставило его в значительной степени изменить свое мнение; впрочем, и ранее он находил у Шопена гениальные черты, особенно в его этюдах и прелюдиях.
В литературе кроме. Гоголя и Пушкина, Чайковский был восторженным поклонником Островского, Толстого и Тургенева, в особенности первых двух, а также и Достоевского. Французским языком П. И. владел прекрасно и хотя читал довольно много на этом языке, но не придавал особенного значения французской литературе, по крайней мере по сравнению с русской. По-немецки он тогда знал мало и совсем не читал, а из английской литературы знал только некоторые из романов Диккенса и Тэккерея в русских переводах, английского же языка он совсем не знал до последнего десятилетия своей жизни.
Я уже упоминал, что внешний вид П. И. производил весьма выгодное впечатление, но нельзя было сказать того же о его костюме. Он приехал в Москву в необыкновенно старой енотовой шубе, которую дал ему А. Н. Апухтин, употреблявший ее в деревенских поездках; сюртук и прочие принадлежности костюма гармонировали с шубой, так что в общем новый преподаватель был одет не только скромно, но просто очень бедно, что, впрочем, не помешало ему произвести прекрасное впечатление на учащихся при своем появлении в классах: в фигуре и манерах его было столько изящества, что оно с избытком покрывало недочеты костюма. Однако Н. Г. Рубинштейн нашел, что новому преподавателю не мешает приобрести новый сюртук, и предложил было ему кредит своего портного, но потом вспомнил, что Генрих Венявский, всегда останавливавшийся у Рубинштейна при своих приездах в Москву, забыл у него в последний раз сюртук, почти новый; так как прошла уже годичная давность, то сюртук поступил во владение П. И., и таким образом расхода на этот предмет можно было избежать. Правда, Венявский был значительно выше П. И. и толще, так что сюртук был не совсем впору, но молодой композитор этим не стеснялся и носил его с таким гордым достоинством, как будто это было платье от лучшего портного.
В преподавании гармонии П. И. ввел коренные изменения. Н. Г. Рубинштейн руководствовался книжкой своего учителя Дена, в которой все излагалось в виде примеров на цифрованном басе; сверх того книжка имела то неудобство, что была на немецком языке, многим из учащихся недоступном. П. И. гармонию проходил у Н. И. Зарембы, который преподавал по системе своего учителя, известного теоретика А. Б. Маркса, приводившего все к гармонизации данного верхнего голоса. Не рискуя с самого начала применять какие-нибудь самостоятельные приемы преподавания, П. И. следовал неуклонно системе, по которой сам учился; впоследствии он изменил свой взгляд на этот предмет и почти половину курса гармонии пользовался упражнениями на цифрованном басе. Учащиеся очень скоро оценили и полюбили своего молодого преподавателя, умевшего объяснять все живо и хорошо, а кроме того бывшего безукоризненно добросовестным и аккуратным н своих занятиях. Сам П. И. всегда считал себя плохим педагогом, но в этом отношении он был несправедлив. Он не имел, правда, никакой склонности к учительству, занимался этим делом скрепя сердце, как наиболее удобным трудом для приобретения средств к существованию, но безукоризненная добросовестность, ум и знание дела поневоле заставили его быть хорошим преподавателем, в особенности для учеников более талантливых, с которыми он мог объясняться прямо примерами из богатого запаса своей музыкальной памяти.
Немедленно по приезде П. И. в Москву Н. Г. Рубинштейн предложил ему написать что-нибудь для исполнения в одном из концертов Музыкального общества; предложение это вполне соответствовало желаниям самого композитора, и он немедленно принялся за работу. Квартира Н. Г. Рубинштейна имела то неудобство, что рядом помещался фортепианный класс и долетавшая оттуда музыка была большой помехой, не говоря о времени, когда упражнялся на скрипке Шрадик. Были, конечно, и свободные часы, но сравнительно немного, а работать поздно вечером П. И. никогда не любил и прибегал к этому средству в самых крайних случаях спешной работы. Нужда, как говорят, научит калачи есть, научила она и П. И. находить удобное для занятий композицией место и притом место в высшей степени оригинальное. Тогда существовал против манежа на Неглинной трактир «Великобритания», бывший в 50‐х годах главным местом студенческих собраний, потому что он был ближе всех к помещениям казеннокоштных студентов университета, проводивших в этом трактире едва ли не все свое свободное время. В 1866 году казенных квартир для студентов уже не существовало, обитатели их разбрелись по всему городу, и прежний характер «Великобритании» утратился. В том же доме и теперь есть трактир, но он помещается внизу, а прежний был в верхнем этаже; по вечерам там было шумно и многолюдно, но утром обыкновенно посетители отсутствовали, кроме разве нескольких студентов, игравших на биллиарде; остальные залы, довольно большие и высокие, бывали почти пусты. В этих залах, сидя за чаем, с карандашом и нотною бумагой в руках, молодой композитор набросал эскизы нескольких из своих первых сочинений; вследствие малого числа посетителей трактирный орган молчал, что имело особенную привлекательность для музыканта, убегавшего от музыки из своей квартиры.