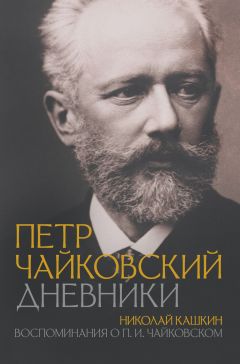
Автор книги: Петр Чайковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Сближению с Μ. А. Балакиревым отчасти содействовало письмо, которое Петр Ильич напечатал в № 23 «Современной летописи» за 1869 год. После выхода А. Г. Рубинштейна из Петербургского музыкального общества и консерватории в 1867 году Μ. А. Балакирев, по его же указанию, сделался дирижером концертов Общества и вел их два сезона с большим успехом, пропагандируя в особенности сочинения молодых русских композиторов, в том числе и Чайковского. С Н. Г. Рубинштейном Μ. А. Балакирев был в очень хороших отношениях; в одном из петербургских концертов Н. Г. Рубинштейн сыграл два фортепианных концерта: A-dur Листа и d-moll Литольфа и продирижировал симфонию своего брата «Океан», а Μ. А. Балакирев должен был продирижировать одним из концертов Музыкального общества в Москве и даже приехал было с этой целью, но не помню какое совершенно не зависящее от Н. Рубинштейна обстоятельство заставило отложить этот концерт.
В конце сезона 1868/69 года в среде петербургской дирекции Музыкального общества восторжествовало направление, враждебное г. Балакиреву с его национальными стремлениями, так что последнему пришлось покинуть капельмейстерское место при Обществе. Петр Ильич всегда с большой горячностью относился ко всяким явлениям, касавшимся области русской музыки; в данном случае все его симпатии находились на стороне талантливого русского музыканта, незаслуженно вынужденного покинуть пост, дававший ему возможность широкой деятельности и влияния на музыкальное дело. Как только Петр Ильич узнал о совершившемся удалении Μ. А. Балакирева, он тотчас же написал горячее, полное негодования письмо, о котором я упомянул выше. Письмо это оканчивалось так: «Г. Балакирев может теперь сказать то, что изрек отец русской словесности, когда получил известие об изгнании его из Академии Наук: «Академию можно отставить от Ломоносова, – сказал гениальный труженик, – но Ломоносова от Академии отставить нельзя». – Впрочем, в Москве очень многие негодовали на поступок с Μ. А. Балакиревым, а Н. Г. Рубинштейн даже предложил ему свое участие в качестве пианиста в концертах Бесплатной школы, во главе которой стоял г. Балакирев. Письмо Чайковского произвело значительное впечатление благородной горячностью и искренностью тона; В. В. Стасов перепечатал его в «С.‐ Петербургских ведомостях» со своим послесловием и дополнением в том же духе. У нас в Москве мы все одобрили поступок Чайковского, хотя в нем как будто и заключалось объявление войны Петербургскому музыкальному обществу, то есть тогдашнему составу его дирекции.
Позднею весной 1869 года Μ. А. Балакирев приехал в Москву и поселился на Воздвиженке, в двух шагах от консерватории, помещавшейся тогда на той же улице, и мы часто виделись; вероятно, к этому времени относятся и те шутки по поводу «Фатума», о которых я упоминал. Нужно прибавить, что Μ. А. исполнил перед тем «Фатум» в одном из последних концертов Музыкального общества, бывших под его управлением. Μ. А. Балакирев, Чайковский и я были большими любителями длинных прогулок пешком и совершали их иногда вместе. Помнится, что на одной из подобных прогулок Μ. А. предложил Чайковскому план увертюры «Ромео и Джульетта», по крайней мере, у меня воспоминание об этом связывается с воспоминанием о прелестном майском дне, лесной зелени и больших соснах, среди которых мы шли. Μ. А. уже знал до известной степени характер таланта Чайковского и находил, что предложенный сюжет вполне для него подходит; вместе с тем видно было, что Μ. А. сам увлекается им немало, ибо он с такою ясностью и подробностью излагал план сочинения, как будто оно уже было ему известно. План, приноровленный к сонатной форме, был таков: сначала вступление религиозного характера, изображающее Фра Лоренцо, потом allegro h-moll (Μ. А. большею частью назначал тональности), рисующее картину вражды Монтекки и Капулетти с сопровождающими ее уличными ссорами, схватками и т. д. Затем следует переход к любви Ромео и Джульетты (вторая тема Dès-dur) и заключение экспозиции сюжета и тем. Так называемая разработка, то есть сопоставление тем в разнообразных видах и комбинациях, переходит к повторению экспозиции, называемому на техническом языке репризой, причем первая тема allegro появляется в первоначальном виде, а тема любви является в D-dur и все оканчивается смертью любовников. Μ. А. так убедительно и живо излагал предлагаемый им сюжет, что сумел немедленно возбудить пламень фантазии у молодого композитора, которому подобная тема была в высшей степени подходяща. Петр Ильич вскоре уехал из Москвы на лето, вероятно в деревню, в Киевскую губернию, и к сентябрю вернулся с увертюрой «Ромео и Джульетта», кажется, вполне оконченной, по крайней мере, он играл ее нам на фортепиано и даже много раз, ибо И. А. Клименко не мог достаточно насытиться этой композицией, с ее чудной темой любви. Нам всем увертюра чрезвычайно понравилась, и мы были уверены, что и в публике она будет иметь очень большой успех, но обстоятельства первого исполнения так несчастно сложились, что новое сочинение было замечено гораздо менее, нежели того заслуживало. Исполнение состоялось 4 марта 1870 года в концерте Музыкального общества, а перед тем произошел случай, который на этот вечер совершенно отвлек внимание публики от музыки. Дело в том, что за несколько времени перед тем одна из учениц консерватории, подвергшаяся выговору директора, сочла себя этим оскорбленной и подала на него жалобу мировому судье. Консерватория тогда еще не имела утвержденного устава, ее директор и преподаватели никакими официальными правами по своему месту не пользовались, и по жалобе обиженной дело рассматривалось как вопрос об оскорблении между частными лицами. Дело это возбудило множество толков и в обществе, и в печати, безмерно раздувших ничтожный на самом деле случай. Мировой судья признал дело себе неподсудным, видя в его участниках все-таки директора училища и ученицу, но Мировой съезд, взглянув на эго иначе, признал Н. Г. Рубинштейна виновным и приговорил его к штрафу в 25 рублей или к трехдневному заключению. Н. Г. Рубинштейн и мы все, в том числе и Петр Ильич, находили, что при подобном взгляде положение наше, то есть преподавателей в консерватории, становилось очень неудобным, и потому решили, если Сенат согласится со взглядом Съезда, оставить консерваторию. Сенат позднее отменил решение по делу, признав его неподсудность Съезду, и, вероятно, все этим бы и окончилось, только в обществе некоторое время поговорили! бы за и против. Решение Мирового съезда состоялось за день или за два до концерта 4 марта и благодаря популярности Рубинштейна немедленно сделалось известным всей Москве. Одна из московских газет в самый день концерта поместила довольно злостную заметку, в которой приглашала поклонников Н. Г. Рубинштейна поднести ему 25 рублей, дабы гарантировать его от необходимости отбывать заключение. Заметка эта вызвала большое негодование и подала повод к такой демонстрации в концерте, подобной которой мне не случалось видеть ни раньше, ни позже: начиная с первого выхода на эстраду Н. Г. Рубинштейна и до окончания концерта он был предметом неслыханных оваций со стороны публики; тут же, в боковой зале Собрания, кто-то сочинил ему адрес, под которым немедленно явилось несколько сотен подписей, – одним словом, о концерте чуть не все забыли, и я, сидя на хорах, немало досадовал, что «Ромео и Джульетта» играется в первый раз при таких обстоятельствах, когда большинство залы интересовалось не сочинением, а только дирижером, стоявшим во главе оркестра. После концерта мы, в том числе Рубинштейн и Чайковский, отправились ужинать и за ужином разговор почти исключительно шел о демонстрации публики. Только недавно из письма Петра Ильича к И. А. Клименко, сообщившему его мне, я узнал, что Петр Ильич был чрезвычайно обижен тем, что присутствовавшие за ужином ничего ему не сказали о его сочинении, но он совершенно ошибался, видя в этом равнодушие или неодобрение. Конечно, присутствовавшие, подобно публике в концерте, слишком увлеклись злобой дня и поступили просто невежливо по отношению к композитору, но можно принять во внимание, что самую композицию мы знали уже несколько месяцев и немало говорили о ней с автором, а кроме того, быть может, некоторые, как, например, я, стеснялись говорить о том, что публика была занята совсем другим. Во всяком случае доказательством интереса, возбужденного в нашей консерваторской среде к новому произведению, может служить то, что Н. Г. Рубинштейн вслед затем выразил непременное желание видеть увертюру напечатанной за границей и взял на себя устроить это дело с берлинской фирмой «Боте и Бок», что и было исполнено в то же лето, – а К. К. Клиндворт, друг и поклонник Вагнера и Листа, через несколько времени поднес Петру Ильичу, в знак уважения к его таланту, превосходное переложение увертюры для двух фортепиано в четыре руки, напечатанное года три спустя в Петербурге у В. Бесселя.
Μ. А. Балакирев увидел внушенное им сочинение, вероятно, весной 1870 года, некоторые части увертюры не понравились ему, и он стал настаивать на переделке, что автором и было исполнено летом 1871 года. Переделки были довольно существенны и значительны; во‐первых, вновь написана, взамен прежней, интродукция увертюры, потом уничтожен бывший в конце похоронный марш и заменен теперешним заключением, и наконец кое-где сделаны переделки в инструментовке. Много лет спустя Петр Ильич еще раз переделал «Ромео и Джульетту», на этот раз почти исключительно в смысле сокращения некоторых длиннот.
К осени 1869 или 1870 года, кажется, последнее верней, должно относиться намерение Чайковского написать фантастическую оперу «Мандрагора», оставшееся неисполненным, чему отчасти был причиной я. Сюжет оперы был ему предложен в виде сценария одним из друзей не-консерваторских. Петр Ильич если задумывал какое-нибудь сочинение, то обыкновенно не говорил об этом никому, боясь всякого чужого вмешательства и советов, исключения из этого правила были редки, и одним из них был случай с «Мандрагорой». Однажды я сидел у него вечером, когда он жил уже на собственной квартире, мы с ним играли в четыре руки, а потом он сыграл вновь написанное сочинение «Хор насекомых», очень мне понравившееся. Петр Ильич сообщил, что пишет оперу и этот хор будет одним из ее нумеров; сказал, что сюжет очень поэтичен и очень ему нравится, а потом показал мне даже самый сценарий. Прочитав «Мандрагору», я нашел, что в ней действительно много поэтичного, но в общем сюжет показался мне гораздо более подходящим для балета, нежели для оперы. Петр Ильич стал оспаривать мое мнение, а я с жаром защищал его, пустился в детали и указал ему возможность комичности каких-то сценических положений. Спор продолжался довольно долго. Вдруг я заметил, что лицо Петра Ильича изменилось, и он почти со слезами сказал мне, что я своего добился, оперы на этот сюжет он писать не может, но так огорчен этим, что на будущее время никогда не будет мне сообщать своих намерений и ничего не покажет. Он так был расстроен, что я сам огорчился успешностью моих доказательств. Впоследствии Петр Ильич, кажется, был даже доволен, что оставил этот сюжет, и вопреки своим угрозам иногда все-таки спрашивал моего мнения о своих предположениях. «Хор насекомых» был исполнен в Москве с большим успехом, а потом и в Петербурге, в одном из концертов Бесплатной школы под управлением Μ. А. Балакирева, но с того времени он точно канул в воду, даже партитура и голоса его исчезли; случайно только нашелся неизвестно для чего сделанный клавираусцуг с выписанными вокальными партиями; клавираусцуг этот находится у П. И. Юргенсона.
IV
В первом семестре 1870/1871 года в состав преподавателей консерватории поступили Н. А. Губерт и H. С. Зверев, сделавшиеся оба очень близкими людьми Петру Ильичу; впрочем, его знакомство с ними начинается раньше.
Как я упоминал уже, наш тесный консерваторский кружок собирался иногда по вечерам у А. И. Дюбюка; там мы познакомились с Николаем Сергеевичем Зверевым, которого А. И. Дюбюк представил нам в качестве своего бывшего ученика. Наш новый знакомый был лет на шесть старше меня и Чайковского, но жизненным опытом и уменьем ценить обстоятельства и людей он превосходил нас во много раз и в этом отношении, как и по возрасту, ближе подходил к Н. Г. Рубинштейну, с которым он также познакомился. H. С. Зверев держался с большим тактом, говорил немного, но обдуманно, и вообще производил весьма выгодное впечатление. На музыкальную дорогу он попал довольно сложным путем. Родившись в небогатой дворянской семье в Волоколамском уезде, он был отдан в Московскую 2‐ю гимназию пансионером и назначался, по примеру двух старших своих братьев, в военную службу, но вышло иначе. В гимназии в то время был инспектором поэт Л. А. Мей; он обратил внимание на своего ученика, узнал о желании его поступить в университет и уговорил родителей не препятствовать этому. Однако курс в университете не был окончен, отчасти, быть может, благодаря совершенно неожиданному получению довольно большого наследства, состоявшего из имений, разбросанных в трех губерниях. Нужно было привести все в известность и порядок; затем следовало поступление на службу и жизнь в Петербурге. H. С. Зверев очень любил музыку с самых юных лет; но, по воззрениям того времени, всякий так называемый порядочный человек мог заниматься музыкой только между делом, как любитель, не иначе. В Москве Зверев брал уроки у А. И. Дюбюка, а переселившись в Петербург, у А. Гензельта и занимался фортепианной игрой несравненно усерднее, нежели службой. Между тем жизнь шла на широкую ногу, les plaisirs de la table [удовольствии стола] всегда играли значительную роль в жизни Зверева, кроме того, он еще не мог почти обедать или ужинать один и с каким-то особенным увлечением любил угощать по возможности многих, да eщe роскошно, и вследствие того имения стали уходить одно за другим, пока не продалось последнее. Впрочем, один случай позволил мне узнать совсем особенную продажу одного из имений. Мы однажды вместе со Зверевым, когда он уже был профессором консерватории, выходили из ворот консерватории и, распрощавшись, взяли двух извозчиков и поехали в разные стороны. Мой извозчик спросил, не Николай ли Сергеевич Зверев только что говорил со мной, и на утвердительный ответ сообщил, что это их бывший барин, хороший барин, только очень уж простой. Я в свою очередь спросил, что это значит, и услышал следующий рассказ. Зверев, задумав продать имение, созвал крестьян и предложил им откупиться на волю (это было при крепостном праве), купив вместе с тем всю землю; он сказал им, какую цену дает сосед-помещик за имение, а с них он хотел взять то же самое, только рассрочив уплату на несколько, что-то довольно много лет. Мужики согласились с величайшей радостью, а барин укрепил официально за ними все права на землю, и, выдав вольную, стал ожидать уплаты. Но мужики не могли между собой столковаться, поскольку каждому платить, и кончили тем, что ничего не заплатили, а барин и спрашивать не стал, только назвал их свиньями. «Да мы и действительно настоящими свиньями против него вышли», окончил свой рассказ извозчик; сам Зверев никогда не упоминал об этом деле.
В департаменте Зверев едва ли считался очень усердным чиновником, сердце у него не лежало к службе, а потому он вышел в отставку, решился сделаться учителем музыки и с этой целью переехал в Москву, где удобнее было начать совершенно новую деятельность. А. И. Дюбюк был полезен своему бывшему ученику рекомендациями в обширной среде своих знакомых, в том числе и тех из преподавателей консерватории, которые у него бывали. H. С. Зверев обратился к Петру Ильичу с просьбой давать ему уроки теории музыки, и хотя тот совсем не давал частных уроков, но позволил своему новому знакомому приходить к нему по воскресеньям, кажется; эти уроки послужили началом сближения, которое превратилось в дружбу, окончившуюся только со смертью обоих, умерших почти в одном месяце. H. С. Зверев в скором времени сделался одним из любимейших и популярнейших учителей фортепиано в Москве, а из среды его консерваторских учеников вышли теперешние ее преподаватели А. И. Галли и С. Μ. Ремезов, а также бывший недолгое время профессором консерватории известный пианист А. И. Зилоти. H. С. Зверев был также в наилучших отношениях с Н. Г. Рубинштейном.
Он был истинно добрым человеком, не на словах только, а на деле; значительную часть своего заработка он отдавал преимущественно неимущим из учащихся в консерватории, но также помогал много и посторонним лицам. Эта черта характера и строгая добросовестность в занятиях вызывали к нему общие симпатии и среди учащих и учащихся в Московской консерватории. Впрочем, он был вообще уважаемым человеком в московском обществе.
Совсем иным путем дошел до консерватории Н. А. Губерт. Он родился в семье петербургского музыканта из иностранцев и получил очень хорошее общее образование в одном из лучших петербургских мужских пансионов; между прочим, он, кроме русского, очень хорошо владел французским и немецким языками. Рано лишившись родителей, он должен был доставать средства к жизни уроками на фортепиано. Пытливый ум его искал разрешения различных вопросов и сомнений в серьезном и разнообразном чтении, область которого для него расширялась отличным знанием двух иностранных языков. Выдающиеся музыкальные способности (он лет десяти играл публично с оркестром) доставили ему довольно видное положение в музыкальном мире Петербурга; но сам Н. А. не довольствовался теми музыкальными знаниями, какие он имел, и чтобы дополнить их, он поступил в Петербургскую консерваторию учеником специально по классу теории музыки и композиции, ибо карьера пианиста-виртуоза его не пленяла. Он окончил курс вслед за Г. А. Ларошем и отправился вторым капельмейстером в Киев, где тогда уже существовала частная опера, из Киева он поступил в Московскую консерваторию, заменив выбывшего Г. А. Лароша. С Чайковским они были знакомы раньше, еще по Петербургу, в Москве они только сблизились гораздо больше. Консерваторский кружок очень скоро оценил своего нового товарища, внушавшего общее уважение умом, знанием и талантливостью; некоторые, в особенности Н. Г. Рубинштейн, сошлись с ним очень близко. Н. А. Губерт для мало знавших его имел как будто суровый, необщительный характер, на самом же деле это было олицетворение доброты и мягкости. Он был благороднейшим мечтателем-идеалистом, в уме которого тяжелый опыт жизни оставил заметную пессимистическую складку, особенно проявлявшуюся в его юморе, которым он был наделен в значительной степени. Между прочим, Н. А. Губерт хорошо владел пером и еще в Петербурге сотрудничал в качестве музыкального критика в различных журналах. Переселившись в Москву, он возобновил эту деятельность на страницах «Московских ведомостей», что послужило к дальнейшему сближению с Чайковским, придававшим большое воспитательное значение серьезным статьям о музыке. Губерт и Зверев очень подружились между собой и наилучшие отношения между ними продолжались до самой смерти Губерта, скончавшегося на руках Зверева 26 сентября 1888 года. Чайковский чувствовал к обоим теплую и неизменную привязанность. Со Зверевым его сближали преимущественно практические стороны жизни; он ценил в нем его ум, благородство и готовность содействовать во всяком добром деле. В Губерте его пленял возвышенный склад ума, способность критического анализа, начитанность и благородство убеждений; у него он иногда искал и находил нравственное утешение и поддержку в своих неудачах, которыми композиторское поприще Петра Ильича было обильно почти до последнего десятилетия его деятельности, зато и сам был верным другом и опорой в трудные минуты жизни, которых немало досталось и на долю Губерта.
Кроме неудач с «Воеводой» и «Фатумом», о которых мы уже говорили, Чайковского в то время постигали и другие, в том числе и со второй его оперой «Ундина», написанной около того же времени. История возникновения этой оперы мне мало известна; кажется, Петр Ильич едва ли не случайно набрел на готовое либретто «Ундины», сделанное гр. В. А. Соллогубом для А. Ф. Львова, написавшего на него музыку; но опера эта, поставленная на сцене в Петербурге в 1848 году, не имела никакого успеха и была после двух представлений снята с репертуара, а либретто ее вошло в Смирдинское издание сочинений графа Соллогуба, где Чайковский и нашел его. «Ундина» была, должно быть, написана быстро, потому что к началу 1870 года она была уже совсем готова. В Москве на постановку новой русской оперы тогда нельзя было рассчитывать, и Петр Ильич отослал свою «Ундину» в Петербург, где она была рассмотрена в театральном комитете и забракована безусловно. Чайковский перенес это огорчение сравнительно спокойно, и даже не особенно огорчился, когда, будучи в Петербурге несколько времени спустя и зайдя в театральную контору для получения обратно своей партитуры, ее никак не могли отыскать, так что он и уехал ни с чем. В Москве он рассказывал мне о своей неудаче, и когда я посоветовал ему обратиться в Петербург с письменным запросом относительно своей партитуры, то он решительно отказался, говоря, что это поведет к отставке какого-нибудь маленького чиновника, а ноты все-таки не найдутся, или найдутся как-нибудь случайно. Несколько лет спустя партитура действительно нашлась, Чайковский получил ее и немедленно уничтожил, что, вероятно, случилось бы также, если б он ее получил и ранее, потому что, при его впечатлительности ко всякому неодобрению его сочинений, строгий вотум комитета, вероятно, заставил его возненавидеть свое произведение. «Ундина» осталась почти совершенно не известной даже ближайшим друзьям Чайковского. Вероятной причиной этого была уверенность композитора, что он не встретит между нами особенного сочувствия к избранному им сюжету, который считался у нас гораздо более пригодным для балета, нежели для оперы, а ему всегда было трудно и неприятно отказываться от запавшей ему в душу идеи. Когда партитура оперы была уже отослана в Петербург, то есть корабли уже были сожжены, тогда только он решился сыграть нам кое-что на память, да и то очень немногое. Один нумер из оперы, ария «Ундины», был исполнен в одном из концертов, бывших тогда в Большом театре; между прочим, этот концепт может дать понятие о том, с каким трудом Чайковский завоевывал в то время симпатии публики. Среди различных нумеров программы находились превосходное adagio из его первой симфонии и эта ария, исполнявшаяся не помню кем. В инструментовке арии было введено фортепиано, имевшее довольно сложную и красивую партию, исполнение которой взял на себя Н. Г. Рубинштейн. Несмотря на хорошее исполнение, ни тот, ни другой из этих нумеров не имели и тени успеха; сколько помнится, после adagio раздалось даже легкое шиканье. Итальяномания парила тогда так безраздельно в стенах Большого театра и среди посещавшей его публики, что русскому сочинению трудно было пробить себе дорогу. Только с падением итальянской оперы вкусы публики повернули в другую сторону. Впоследствии ария «Ундины» вошла в музыку к «Снегурочке» Островского, в виде песни Леля «Земляничка ягодка», но так как Чайковский написал ее уже по памяти, то инструментована она была совсем иначе, нежели сначала, и фортепиано было выпушено. Один марш из «Ундины» вошел во вторую симфонию (вторая часть, Es-dur), да еще тема дуэта Гульбранда и Ундины послужила для одного adagio в балете «Лебединое озеро» – больше, сколько мне известно, из оперы не осталось никаких следов.
В конце 1870 года Петр Ильич был уже занят новою оперой – «Опричник», либретто которой было сделано им самим и подверглось нескольким переделкам. На «Опричнике» очень вредно отозвалось желание воспользоваться частью музыки из первой оперы «Воевода», которая уже была снята с репертуара в то время. Одно из заимствований – песня «Соловушко» – не повело за собой никаких неудобств, но другое, почти целый акт, происходящий у князя Жемчужного, с появлением в его саду опричников, Басманова и Андрея Морозова, заставило, ради сохранения музыки из «Воеводы», целиком ввести в сюжет сцену, довольно слабо мотивированную и потом составлявшую одну из главных причин ненависти к «Опричнику» его автора, много лет потом собиравшегося переделать капитально свою оперу и принявшегося было за эту работу всего за несколько дней до своей неожиданной кончины, причем он успел только отметить места, подлежащие переделке, по партитуре, взятой с этой целью из театральной библиотеки в Петербурге.
Петр Ильич, отдавшись сравнительно поздно серьезным музыкальным занятиям, далеко не имел вполне ясно установившихся взглядов на музыку, какие бывают у людей, с детства живущих в музыкальной среде и в самой жизни сродняющихся с известными наклонностями и симпатиями в искусстве. Он должен был приобретать эти наклонности и симпатии путем сознательной работы над собою и, главным образом, разумеется, путем изучения музыкальной литературы. Сколько мне помнится, он тогда, то есть около 1870 года, не особенно легко читал оркестровые партитуры и предпочитал знакомиться с симфоническою литературой в переложениях для фортепиано в четыре руки, в чем очень часто и я бывал его партнером за фортепиано. Камерных ансамблей, в особенности струнных квартетов, он в то время знал мало, и самый характер этой музыки ему давался трудно, даже тембр звучности струнного квартета наводил на него по временам скуку, а последних квартетов Бетховена он почти не выдерживал. Между прочим, он однажды признался мне, что чуть не упал со стула от дремоты, которую нагнал на него большой а-mоll’ный квартет Бетховена. Что касается до сочетания фортепиано со смычковыми инструментами, то он, преклоняясь перед многими произведениями этого рода, особенно Бетховена, говорил, что не может представить себе желания сочинить что-либо для такого соединения инструментов, но, как известно, потом он сам написал колоссальное по замыслу и выполнению фортепианное трио в память Н. Г. Рубинштейна. Звучность струнного квартета стала ему мила гораздо ранее, и он сам взялся за эту форму сочинения. Впрочем, в этом случае отчасти имело значение одно внешнее обстоятельство. Чайковскому очень хотелось летом 1871 года отправиться за границу, но денег на это не было; тогда, кажется, Н. Г. Рубинштейн посоветовал ему дать свой концерт, то есть концерт из своих сочинений, но для этого написать что-нибудь новое. Концерт нужно было устроить с наименьшими расходами и вообще в очень скромных размерах, а потому об участии симфонического оркестра не могло быть и речи. Следовательно, приходилось ограничиваться вокальными и инструментальными сочинениями соло или дать камерный ансамбль. Таким камерным ансамблем и был квартет, написанный Петром Ильичем приблизительно к этому времени. Andante этого квартета приобрело потом огромную и всемирную известность. Русская песня, составляющая его первую тему, была записана с голоса штукатура, который весной 1870 года работал в доме Сергеева на Знаменке и несколько дней сряду будил Петра Ильича своим пением; мелодия песни очень понравилась ему, и она действительно проникнута глубоко народным характером. Слов, через окно, над которым штукатур висел в своей качалке, нельзя было расслышать, и когда Петр Ильич, отыскав певца во дворе во время перерыва в работе, хотел записать слова, то они оказались крайне неинтересным и почти лишенным смысла продуктом фабричной поэзии, который совсем не вязался с напевом и был, очевидно, новейшего происхождения, быть может, произведением самого штукатура, сочиненным в характере и духе новейших русских песенников. В подмосковном фабричном районе такое сочетание новейших текстов со старинными мелодиями встречается не особенно редко; фабричная цивилизация гнушается мужицкими словами и старается заменить их текстами в своем духе. Как бы то ни было, вопреки прежнему нерасположению Чайковского, струнный квартет был написан; самый концерт Чайковского состоялся 16 марта 1871 года в малом зале Собрания, и хотя зал был не совсем полон, однако все же очистилось несколько сотен рублей за расходами, и эти сотни рублей послужили основным фондом для поездки за границу, которая все-таки состоялась. Я не могу теперь припомнить всех подробностей этого концерта, единственного, данного Чайковским в свою пользу в Москве. Квартет его исполнялся Ф. Лаубом, И. В. Гржимали, незадолго перед тем поселившимся в Москве, Л. Минкусом и В. Ф. Фитценгагеном. Припоминаю еще, что исполнялось, кроме того, сочинение для женского соло и хора «Природа и любовь», напечатанное, кажется, только очень недавно. Самое сочинение это было написано по просьбе Б. О. Вальзек, бывшей профессором по классам пения в консерватории. Петр Ильич был очень дружен с г-жой Вальзек и написал «Природу и любовь» для концерта ее учениц, повторивших потом это сочинение в концерте самого композитора. Концерт, между прочим, посетил И. С. Тургенев, бывший тогда в Москве и заинтересовавшийся молодым композитором, слухи о котором до него дошли еще за границей. Внимание знаменитого писателя было тогда замечено публикой и было истолковано в благоприятном для композитора смысле, тем более что Тургенев отозвался самым лестным образом о его произведениях, хотя главного из них, струнного квартета, он не застал уже, приехав после начала.
С сентября 1870 года во внешних обстоятельствах жизни Петра Ильича произошло то изменение, что он перестал быть сожителем Н. Г. Рубинштейна и, к великому огорчению последнего, переехал на отдельную квартиру, которую нанял на углу Спиридоновки и Гранатного переулка в доме Лебедева. Квартира была дешевенькая, крохотная и не особенно удобная, но представляла полную свободу для занятий, что и составляло главную потребность. Петр Ильич взял в услужение деревенского парня, который сам готовил обед себе и барину, всегда состоявший неизменно из щей и гречневой каши; дальше кулинарные способности слуги, кажется, не шли, а барин, бывший в то время очень неприхотливым относительно стола, довольствовался этим; впрочем, он довольно часто обедал у кого-нибудь из знакомых или в ресторане. Денежные средства Петра Ильича в это время были значительно лучше прежних: в консерватории он имел 27 часов в неделю занятий и 2 700 рублей в год жалованья, которое он получал в учебные девять месяцев, по 300 рублей в каждый. Сверх того, от времени до времени являлось и дополнение к этим доходам в виде композиторского заработка, очень, впрочем, небольшого, вроде, например, речитативов к опере «Черное домино» Обера, которые им были сделаны по заказу антрепренера итальянской оперы Мерелли. «Черное домино», как вообще французские комические оперы, написана с диалогом, а итальянцы в опере диалогов не допускают. «Черное домино» было поставлено для г-жи Арто, в ее бенефис; она пела все ансамбли по-итальянски, а свои нумера соло по-французски и была удивительно хороша в этой прелестной опере. За речитативы Чайковскому было заплачено, сколько помнится, 150 рублей, и он находил это вознаграждение очень хорошим.









































