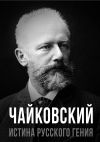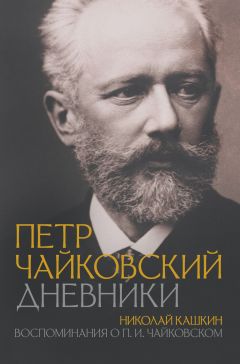
Автор книги: Петр Чайковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мне припоминается один случай, характеризующий отношение Чайковского к деньгам. Однажды в 1891 году мы отправились в гости в имение к одному знаменитому артисту, который приехал за нами на железнодорожную станцию, и мы отправились потом вместе. Ехать в экипаже пришлось час или более, шли разные разговоры; между прочим, наш амфитрион спросил: «Петр Ильич! Где вы помещаете свои капиталы?» В ответ на это Петр Ильич сначала в полном недоумении широко раскрыл глаза, потом разразился безумным хохотом: ему никогда в жизни не приходила мысль о возможности помещать капиталы иначе как в виде расходов или подарков. Я тотчас же, конечно, понял, в чем дело, но собеседник наш стал недоумевать о причинах неожиданной веселости своего гостя. Тот наконец, совсем почти задохнувшись от смеха, прерывающимся голосом сказал, что в последний раз он помещал капиталы в Московской гостинице, где останавливался, а где будет помещать в следующий раз – не знает. Для человека сколько-нибудь практического такое отношение к деньгам просто невероятно, но у Чайковского оно было именно таким.
Во Фроловском я гостил несколько раз. Однажды были приглашены слушать только что оконченную «Пиковую даму» несколько человек из консерватории. Почему-то я приехал днем раньше всех, и композитор тотчас же после обеда начал мне играть свою оперу по порядку, с начала. В первой картине я похвалил балладу Томского. «Какой вздор! – с досадой воскликнул композитор. – Слушай дальше». Сцена Германа с Лизой во второй картине привела меня в совершенное восхищение, но на этот раз мои выражения восторга были приняты благосклонно. После коротенького перерыва, во время которого автор сказал мне, что он чрезвычайно доволен своим подражанием Моцарту в интермедии следующего акта, игра продолжалась. Интермедия сделана действительно мастерски, но я был выбит из первоначального настроения, остался как-то холоден и только заметил, что нумер, называвшийся сарабандой, не имеет ни ритма, ни характера этого танца; название было немедленно уничтожено. В следующей картине, сцене в спальне графини, Чайковский заставил меня играть фигуры альтов и басов, а сам играл остальное и пел. Эта картина, несмотря на сравнительно слабое окончание, произвела на меня глубочайшее впечатление, и я не мог вымолвить ни одного слова. Сам автор был взволнован, мы встали из-за фортепиано и оба порознь несколько времени молча ходили по комнатам. Удивительно сильна и поэтична оказалась сцена с призраком графини; такая даже незначительная деталь, как зоревая фанфара, давала, казалось мне, особенно поэтичный оттенок музыке; таинственные гармонии, сопровождающие появление призрака, тоже очаровали меня. Остальные две картины опять несколько расхолодили впечатление, хотя застольная песня Германа очень понравилась.
Автор был доволен в общем впечатлением, произведенным на меня «Пиковой дамой», и сообщил некоторые подробности ее сочинения. По его словам, с сюжетом этим к нему приставали года два, сначала он просто смеялся над мыслью написать оперу на этот сюжет, «потом, – говорил он, – мне пришло в голову, что сцена в спальне у графини великолепна, а потом и пошло и пошло». В черновом наброске «Пиковая дама» была написана в шесть недель, во Флоренции. По рассказу композитора, он так увлекся сюжетом во время писания, что вполне уверовал в истинность происшествия, и когда окончил последнюю сцену, то ему стало очень жаль Германа, он начал его оплакивать горько, и решив, наконец, что не может оставаться в городе, где Герман умер – то есть во Флоренции, уехал на следующий день в Рим. Чайковский рассказывал со смехом о своем сумасшествии, как он говорил, но я не смеялся, припоминая другую оперу, в которой подобное же увлечение сюжетом доставило ему большое несчастие.
На другой день приехали остальные гости, и я опять прослушал «Пиковую даму», только на этот раз играл, кажется, А. И. Зилоти, большой поклонник композиций Чайковского и хороший чтец, нот. Впоследствии, на сцене, впечатление от оперы вышло несколько иное, нежели полученное при первоначальном знакомстве. Сцена Германа с Лизой во второй картине как-то не выходит, не имеет на сцене той силы и прелести, какие находишь, разбирая оперу за фортепиано. Застольная песня Германа тоже обыкновенно не удается, она кажется очень тяжело написанной, а интермедия пастушков и пастушек кажется со сценой милее и в музыке. Основные части оперы: сцены в спальне графини и в казарме у Германа остаются и на сцене столь же сильными, как и при чтении.
Летом 1890 года я прогостил во Фроловском почти два месяца кряду. Место это уже утратило тогда для Петра Ильича свою первоначальную прелесть, потому что владелица продала лес на сруб и его вырубили почти весь. Но все-таки Фроловское было еще мило его обитателю своей уединенной тишиной; он даже подумывал о покупке его, но имение было слишком велико, и необходимо пришлось бы возиться с полевым хозяйством, что было немыслимо для Петра Ильича, так что мечты о покупке пришлось оставить. В первой половине лета вместе со мною во Фроловском гостили Μ. И. Чайковский и Г. А. Ларош. Сходясь вечером вчетвером, мы, кроме обычных занятий музыкой, чтением и беседами, иногда играли в карты, в винт. Петр Ильич играл охотно три роббера, но потом уставал, и карты мы бросали. Летом пошли в лесу и парке в большом количестве грибы; Петр Ильич занимался собиранием их, вместо обычной прогулки, даже с некоторой страстностью и торжествовал, набирая грибов почти всегда более меня, довольно опытного в этом занятии; грибы за столом были у нас в разных видах ежедневно и, к удивлению нашему, не надоедали нам. Однажды утром, перед чаем, мы вышли с Петром Ильичом на террасу дома и любовались превосходной погодой: вдруг Петр Ильич с громким криком упал на землю, я испугался и не знал, что с ним делается; оказалось, что он просто увидел около террасы несколько белых грибов, закричал от страха, как бы я не захватил их прежде него, и повалился на землю с единственной целью перегородить мне дорогу своим телом, самому ползком скорее добраться до кустов и взять оттуда грибы; мы немало потом смеялись этому охотничьему задору. Хорошо знакомый с лесом, Петр Ильич знал грибные места, но никому их не показывал, даже опасался, что за ним будут следить, и нарочно ходил разными обходами.
В середине лета Модест Ильич и Г. А. Ларош уехали в Петербург, и мы остались вдвоем. Покончив с «Пиковой дамой» и корректурами ее клавираусцуга, Петр Ильич принялся за сочинение смычкового секстета, во исполнение обещания, данного Петербургскому обществу камерной музыки. Вначале работа шла трудно, потому что в техническом отношении она была совершенной новостью для композитора, хотя и написавшего уже перед тем три смычковых квартета и фортепианное трио. В квартете он имел против двух скрипок один альт и одну виолончель, а в секстете при том же числе скрипок он имел их по два, что давало возможность сделать полнее и гуще средние и нижние регистры, но в то же время нарушало равновесие между верхними и нижними голосами; быть может, октет, то есть просто удвоение квартета, было бы легче писать, потому что там соотношение между верхними и нижними голосами вполне нормально, то есть вполне тождественно с соотношением в квартете.
Я был занят тогда довольно большим переводом и занимался в комнате верхнего этажа, выходившей в парк, а Петр Ильич писал внизу; изредка до меня в дообеденное время долетали отрывочные, едва взятые на фортепиано аккорды: это значило, что композитор проверяет иногда сочетания, получившиеся в результате контрапунктических комбинаций. Секстет поначалу обещал быть очень хорошим сочинением. Хотя первая тема отзывалась чем-то вроде Рейсигера, но вторая тема и все развитие первой части были чрезвычайно интересны. Когда мы сходились за обедом или ужином в начале сочинения секстета, Петр Ильич жаловался, что ему очень трудно совладать с этой задачей; несколько дней спустя он сообщил, что дело идет лучше, а потом, полушутя, говорил, что иначе как для секстета трудно и писать, – так что задача писания для такого сочетания инструментов казалась вполне разрешенной.
Оказалось, однако, что и самый опытный музыкант может ошибаться относительно действительного эффекта звучности сравнительно с тем, что он видит на бумаге. Первая часть секстета, со второй темой в характере широкой итальянской кантилены, не представляла особых затруднений, а по складу едва ли не напоминала скорее симфоническое, нежели камерное сочинение. В дальнейших частях композитор намеревался строже держаться камерного стиля и прибег к сложным контрапунктическим комбинациям, дающим каждому из инструментов полную самостоятельность и равноправность с остальными. На бумаге и за фортепиано комбинациями этими приходилось только любоваться, так все было интересно, стройно и красиво. Одному играть секстет на фортепиано почти невозможно не только à livre ouvert [с листа] с партитуры, но даже едва ли можно сделать и на бумаге достаточно удовлетворительное переложение. Мы стали пробовать играть в четыре руки, и дело оказалось до известной степени возможным, хотя кое-как мы проиграли две шестиголосные фуги, и обоим они очень нравились. Особенно интересной казалась фуга, в которой инструменты по два вступали в унисон с темой, потом сейчас же делились на две самостоятельные партии, и простая тема превращалась таким образом в двойную; фуга эта казалась нам чрезвычайно удачною.
Наконец секстет был окончен, и автор остался им совершенно доволен, однако из осторожности не отдал его немедленно печатать, как с ним иногда бывало прежде, а решился прослушать его ранее в исполнении инструментами, для которых он был написан. Это сделать было тем удобнее, что Петру Ильичу все равно приходилось осенью ехать в Петербург по случаю постановки на сцену «Пиковой дамы», а там устроить исполнение секстета было легко. Вполне законченная партитура была отправлена в Петербург на имя председателя общества камерной музыки, ныне уже умершего Е. К. Альбрехта, с просьбой отдать расписать партии и приготовить их к приезду автора в Петербург. Е. К. Альбрехт пришел от сочинения в полный восторг и писал своему покойному брату в Москву, что между произведениями этого рода секстет должен занять первое место. Потом о секстете замолчали; в печати он не появлялся, и об исполнении в Петербурге ничего не было слышно. Приехав в Петербург в первых числах декабря к постановке на сцену «Пиковой дамы», я спросил Чайковского о судьбе его последнего сочинения и, к изумлению своему, услышал, что оно никуда не годится и требует капитальной переделки. Положим, огорченный автор выразился слишком сильно, однако в самом деле на пробе секстета оказалось, что многое, пленявшее нас на бумаге, в исполнении нельзя было разобрать. Скрещивания голосов в инструментах с однородным тембром приводили к тому, что было невозможно следить за самостоятельным движением голосов в контрапунктических комбинациях, терявших вследствие того всякий интерес, да и звучность получалась некрасивая, – особенно неудачною на практике оказалась наиболее нравившаяся нам фуга с двойной темой, которую пришлось совсем выпустить и заменить новой частью. Секстет был переделан и окончен в теперешней печатной редакции только в 1892 году.
Лето 1890 года закончилось нашей поездкой с Чайковским в Тульскую губернию, в имение H. Н. Фигнера, усадьба которого оказалась превосходной, с великолепным видом на широкую даль полей, с роскошным старинным парком, отличным купаньем и т. д. Мы провели там дня два, немного рассматривали «Пиковую даму» и, простившись с радушными хозяевами, разъехались в разные стороны: Петр Ильич отправился, кажется, в Рязанскую губернию, а я остался на несколько дней в Туле у одного старого приятеля.
IX
В жизни Чайковского наименее понятную для меня черту составляют его поездки по Европе в качестве дирижера – исполнителя собственных произведений. Я упоминал уже о том, как трудно далось ему дирижерство и как он только в 1886 году смог переломить свою застенчивость и взяться за разучивание «Черевичек» в Большом театре, а потом дирижировать и публично в трех первых представлениях этой оперы, перед залой, переполненной все три раза насколько возможно. Начиная с этого времени и до конца жизни Петр Ильич нередко выступал в качестве капельмейстера в России и за границей. Еще в конце того же 1887 года и в начале следующего он сделал довольно большую концертную поездку по Европе, описанную им самим в форме дневника, помещенного после его смерти в «Русском вестнике» за 1894 год № 2. Где ни являлся в концертах наш композитор со своими сочинениями, везде он имел очень большой успех в публике, а еще более среди музыкантов, но успехи эти стоили ему тяжкого насилия над самим собой, отзывавшегося даже на его здоровье. По его собственным рассказам я знаю, что он не испытывал ни малейшего наслаждения в дирижерстве, он всегда отбывал его, как тяжелую работу, и чувствовал облегчение только по окончании исполнения. Перед концертом он просто мучился, и страдание обыкновенно отражалось на его лице, когда приходилось дирижировать не своими сочинениями, а чужими. На юбилее 50‐летия артистической деятельности А. Г. Рубинштейна, праздновавшемся в Петербурге, Петр Ильич дирижировал музыкальной частью праздника и был в таком ужасном состоянии, что перед самым началом концерта с ним была истерика и он должен был употребить всю силу воли, чтобы овладеть собой и довести дело до конца. Несмотря на все мучения, он все-таки сравнительно охотно принимал приглашения в разные места в качестве дирижера даже съездил в Соединенные Штаты Америки. Композиторская известность давала авторитет Чайковскому, когда он являлся и в качестве капельмейстера, но он не в силах был вполне пользоваться этой выгодой; предупредительная внимательность к нему членов оркестра позволяла ему прилично выполнять дирижерские обязанности, но капельмейстером, вдохновляющим свой оркестр, он никогда не был. Самые успехи в публике как будто не особенно его увлекали, а сопровождавшие такие успехи чествования различного рода были ему просто тяжелы. У меня есть письмо, относящееся к первой его дирижерской поездке за границу; оно писано после успеха в лейпцигском Гевандгаузе и сопровождавших его оваций. Письмо начато 1/13 января в Любеке и окончено 9/21 января 1888 в Гамбурге; так как оно рисует его состояние в это время, то я приведу из него некоторые отрывки.
Письмо начинается так: «Ну можно ли было ожидать, что я встречу Новый Год в Любеке? Вот уже два дня как я здесь и предстоит еще остаться трое суток. Этот отдых в незнакомом городе, в одиночестве и полной свободе оказывает на меня необыкновенно благотворное влияние. Он до того нужен был и я до того счастлив, что могу целый день молчать и ни с кем не сталкиваться, что ощущение спокойствия и свободы заглушает всякое чувство тоски. Я встречал Новый Год у себя в комнате и нисколько не грустил. Утром занимаюсь зубрением вещей, которые придется дирижировать, перед обедом гуляю (погода чудная), в 11∕4 обедаю в табльдоте и упорно молчу, наблюдая за целой толпой актеров и актрис, сидящих рядом со мной» и т. д. В другой части письма, помеченной 2/14 января, говорится: «Удовольствие мое кончилось. Вчера пошел в «Африканку». В антракте меня ловят несколько господ; оказалось, что меня узнали; пошли знакомства, разговоры о музыке, просьбы пойти в клуб, обещания навещать меня, уговариванья остаться и т. д. Я объявил, что болен, иду спать, что завтра утром уезжаю и т. д.».
Из приведенных строк письма видно, что композитор совсем не приходит в восторг от того внимания, которым его окружают, а между тем у него все-таки не хватает решимости отказаться от появлений в публике и предоставить исключительно другим пропаганду своих сочинений. Иногда самые сочинения страдали от этого, чему примером может служить пятая симфония e-moll, которую музыкальный мир несколько лет почти игнорировал вследствие неудачного первоначального исполнения под управлением автора. Симфония была написана в 1888 году и тогда же напечатана, так что в 1889 году ее исполнили в одном из симфонических собраний Музыкального общества в Москве, уже по печатным партиям. Если Чайковскому случалось дирижировать своими сочинениями, репутация которых уже более или менее установилась, то он относился к этому сравнительно спокойно. Но выступая с произведением совершенно новым, он чувствовал себя иначе, и в нем пробуждалась вся его болезненная неуверенность в своих силах, что чрезвычайно вредно отзывалось на репетициях и на самом исполнении в концерте. С пятой симфонией дело пошло так плохо, что она совсем почти не имела успеха не только в публике, но даже среди музыкантов, из которых многие из-за неудовлетворительного, вялого исполнения усомнились в самых достоинствах сочинения. Между тем о симфонии было уже известно в других местах, автор обещал сам продирижировать исполнением своего нового произведения в Петербурге и Гамбурге и сдержал свое обещание, но в обоих городах получился такой же неуспех, как и в Москве. В музыкальной прессе едва ли не один я отозвался о новом произведении с большим сочувствием, а вообще русские и немецкие рецензенты в лучшем случае отнеслись к нему снисходительно, а в худшем – с полным порицанием. Сам композитор просто возненавидел свою симфонию и однажды указал мне, что непременно бы ее уничтожил, если бы она не была уже напечатана. О несчастной симфонии совсем забыли с того времени и едва ли где-нибудь исполняли, пока в прошлом году за нее не взялся теперешний капельмейстер лейпцигского Гевандгауза и филармонических концертов в Берлине, г. Артур Никит, под управлением которого та же симфония имела, блестящий успех в Лондоне, Лейпциге, Берлине, Москве и теперь займет, можно надеяться, подобающее ей место в репертуаре симфонических концертов.
Позднее годом или двумя была написана баллада для оркестра «Воевода», но автор уже не отдал ее печатать раньше исполнения, которое и состоялось под его управлением в Москве. Я был на репетиции концерта и видел, что композитор относится к своему детищу с полным недоверием, что заметно было по вялой безразличности оттенков и полному отсутствию стремления сделать исполнение хорошим. В концерте баллада прошла кое-как, не сделала впечатления на слушателей и в ту же ночь партитура ее была уничтожена автором. Таким образом довольно значительное по объему сочинение погибло, хотя, быть может, совсем не заслуживало этой участи. Впрочем, если не ошибаюсь, одному из молодых друзей Чайковского удалось спасти оркестровые партии баллады, и в таком случае партитуру можно, конечно, восстановить по ним. Сам композитор или забыл об оркестровых партиях, или же, когда прошел первый пыл раздражения, не стал доводить до конца дело уничтожения своего сочинения, над которым он работал довольно много. Вероятно, наследники Чайковского могут, если пожелают, восстановить едва не уничтоженное сочинение и вряд ли оскорбят этим память покойного.
Гамбургское исполнение пятой симфонии связано было со встречей между Брамсом и Чайковским, о которой последний нередко вспоминал. Познакомились они еще года за два перед тем в Лейпциге, а к исполнению симфонии e-moll Брамс нарочно приехал в Гамбург. Он пригласил Чайковского завтракать, отлично угостил его и в дружеской застольной беседе откровенно признался, что симфония ему совсем не нравится. По словам Чайковского, это было сказано так искренно и просто, что он не только не был оскорблен строгостью критики, но даже почувствовал еще большую симпатию к прямодушному художнику, которого он очень уважал и ранее. В свою очередь и Чайковский высказался с полной откровенностью о своем взгляде на композиторскую деятельность своего знаменитого собеседника, и затем они расстались большими друзьями, но встретиться им больше уже не пришлось.
X
Чайковский особенно крепким на вид не казался, но в сущности был здоров и вынослив; привыкнувши в деревне гулять во всякую погоду, он был к простуде почти не чувствителен, только очень боялся ветреной погоды, не столько вредной, сколько неприятной для него. Единственной его хворью был род гастрической лихорадки, от времени до времени появлявшейся у него и сопровождавшейся иногда довольно сильным жаром; но все это очень скоро проходило само собою, уступая лечению домашними средствами; к помощи медиков Петр Ильич прибегать не любил. Как бы то ни было, но с приближением к 50‐летнему возрасту стали появляться признаки старости и утомления, хотя старческих недугов и недомоганий не было никогда вплоть до самой смерти. Внешним образом Петр Ильич сильно постарел в последние годы жизни: редкие волосы на голове совершенно поседели, лицо покрылось морщинами, стали выпадать зубы, что ему было особенно неприятно, потому что иногда мешало говорить вполне ясно; еще более чувствительно было постепенное ослабление зрения, сделавшее для него чтение по вечерам при огне затруднительным и таким образом лишавшее главного развлечения в затворнической жизни, которую он вел в деревне, так что одиночество становилось ему иногда тягостным, особенно в длинные зимние вечера.
Утомление начало сказываться в том, что задуманное новое сочинение уже не поглощало его так всецело, как это было прежде, стали все чаще являться моменты, когда мысль требовала отдыха и развлечения в каком-нибудь ничтожном занятии, не требующем умственного напряжения, Петр Ильич говорил иногда, что его в значительной степени удовлетворила бы возможность иметь вечером партию в винт – роббера на три – больше играть с удовольствием он почти не мог, – но в деревне этого устроить было невозможно, не заводя знакомства в Клину, чего он отнюдь не хотел делать ради сохранения полной свободы. Сколько мне кажется, вечеров тоскливого одиночества было все-таки у Чайковского немного, чаще же он по-прежнему мог жить в сочинении, которое занимало его в данный момент. Впрочем, кроме собственных сочинений, его занимали и чужие; если какая-нибудь новость ему нравилась, то он подолгу и с любовью изучал ее. Так, например, он очень долго не разлучался с партитурой «Испанского каприччио» Н. А. Римского-Корсакова, в котором его пленяли новизна и блеск оркестровых эффектов; помнится, что, приезжая в Москву на несколько дней, он привозил и партитуру с собою, хотя, вероятно, знал уже наизусть все, но ему приятно было, не утруждая памяти, открыть ноты и прочитать еще раз уже хорошо ему известное [825]825
С этой композицией Н. А. Римского-Корсакова у Чайковского вышел случай, характеризующий его нервозную конфузливость. «Испанское каприччио» должны были исполнять в концерте, но вдруг как-то оказалось, что некому играть на кастаньетах; Петр Ильич немедленно предложил свои услуги. Концертмейстер оркестра И. В. Гржимали полушутя, полусерьезно оказал ему: «Смотри, Петр Ильич, не просчитай вступления». «Неужели ты почитаешь меня за такого осла, – с негодованием отвечал Петр Ильич, – что с партитурой в руках (у него была своя) я не сумею вступить вовремя?» Увы! так именно и случилось, партитура не помогла, потому что у нервозного музыканта не хватило присутствия духа начать щелкать в свои кастаньеты как раз вовремя, хотя он превосходно знал, когда именно это нужно было сделать, – и пришлось ему в наказание выслушать немало насмешек.
[Закрыть]. Таким же образом он увлекся оперой А. С. Аренского «Сон на Волге» но уже по клавираусцугу, потому что партитуры у него не было. Петр Ильич говорил мне, что сначала он отнесся к этому сочинению довольно равнодушно, но бессознательное чувство чего-то привлекательного заставило его вернуться к нему, и затем, чем более он изучал оперу, тем более она ему нравилась, а многие сцены он находил превосходными. Последним из подобных увлечений была оркестровая сюита Г. Э. Конюса «Из детской жизни», которую Петр Ильич ставил очень высоко.
Читать ноты по вечерам легче, нежели книги, потому что нотный шрифт удобнее схватывается глазом, – и потому подобное чтение могло ему наполнять иногда свободное время. Нужно прибавить еще раскладывание пасьянса, которым покойный друг мой иногда занимался, но не более нескольких минут кряду, достаточных для двух пасьянсов, бывших ему известными – другим он не выучился, – но пасьянсовые карты составляли необходимую принадлежность его письменного стола; он даже чуть ли не брал их с собой в свои путешествия.
Года за четыре до смерти Петр Ильич сделал опыт, совершенно неудавшийся, поселиться на зиму в Москве. В то время он вошел в состав дирекции Музыкального общества в Москве и, относясь к этому, как и ко всяким принимаемым на себя обязанностям, вполне серьезно и добросовестно, он считал необходимым быть в Москве постоянно во время концертного сезона. В это же время ему было предложено Петербургской консерваторией 5 000 рублей в год, с тем чтобы он посвящал два часа в неделю на просмотр работ учащихся в классе свободного сочинения и, разумеется, переехал бы для этого в Петербург. Не желая принимать на себя обязательства жить постоянно в Петербурге, Петр Ильич отказался от предложенного ему жалованья и места, но в то же время ему пришло в голову, что, живя в Москве или близко под Москвой, он мог бы – конечно, он предполагал без жалования – взять на себя такие обязанности в Московской консерватории; но, к сожалению, это предположение не состоялось, потому что по новому уставу должность директора Музыкального общества не совместима с исполнением профессорских обязанностей в консерватории, хотя я и приводил пример такого совмещения, бывший гораздо ранее в Петербурге.
Квартиру Чайковский нанял в переулке в конце Остоженки и устроился там весьма недурно. Сам он был первое время очень доволен, но когда начались посещения посторонних лиц, становившиеся все более и более частыми, а звонки по утрам мешали заниматься, Петр Ильич придумал выставить на подъезде медную доску с аншлагом: «Дома нет. Просят не звонить». Всякий мимоидущий школьник, прочитав этот аншлаг, считал, конечно, непременной обязанностью позвонить посильнее и скрыться, и звонки не менее прежнего досаждали бедному композитору. Наконец, задумав приняться за сочинение «Пиковой дамы», композитор решил, что в Москве этим заниматься нельзя, и потому немедленно уехал за границу, в Италию, как я уже говорил ранее. Тем кончилось московское житье Петра Ильича, и больше он уже не покушался обзаводиться квартирой в городе.
Продолжая по-прежнему часто ездить за границу, Чайковский в последние годы жизни не мог уже оставаться там долго, его очень скоро начинало тянуть на родину, в Россию, и он немедленно возвращался. Помнится, он было решил на продолжительное время поселиться в Париже и хотел нанять квартиру вместе с жившим там А. И. Зилота. Пробыв однако в Париже дня три, Петр Ильич затосковал, изменил принятое решение и немедленно возвратился в Россию.
Село Фроловское под Клином было очень мило его обитателю своей тишиной, уединенностью и, наконец, тем, что он успел свыкнуться и с домом, и с окрестностями. Мужики в селе очень ухаживали за своим барином, щедро дававшим им на угощение к большим праздникам и на свои именины 29 июня, да, вероятно, и помогавшим им в случаях нужды. Зная, что во Фроловском нет купанья, за исключением очень непривлекательного пруда близ дома, крестьяне воспользовались небольшим родником в лесу, сделали запруду, и явился небольшой водоем с прозрачной как хрусталь водой; но она была так холодна, что купаться в ней было невозможно. Петр Ильич все-таки был очень тронут заботами о нем крестьян.
В 1891 году пришлось, однако, расстаться с Фроловским. Дом ветшал и становился неудобным, а кроме того, выживали несносные осенние мухи, день и ночь жужжавшие у потолка и которых ничем нельзя было истребить. Чайковский призывал даже на совет архитектора, и тот ему сказал, что от мух избавиться можно, только оштукатурив вновь весь дом. Петр Ильич не хотел брать на себя расход такого ремонта и предпочел переехать опять в Майданово, где, впрочем, он прожил не особенно долго, вероятно, с год. В Майданове я только один раз посетил Чайковского; знаю, что это было довольно поздней осенью, но погода стояла великолепная, солнечная, и последние остатки зелени еще украшали парк и поля. Это посещение относилось, вероятно, к осени 1891 года, и с тех пор при жизни Чайковского я уже не бывал в Клину и его окрестностях. Теперь я не могу припомнить причины, мешавшей бывать, но, вероятно, зимой 1891/92 Чайковский часто бывал в Москве, в начале лета я уехал за границу, а когда возвратился, то Чайковский сам уехал в конце лета. Из Майданова Чайковский переехал в Клин и нанял дом в самом конце города, на московском шоссе. Своим новым помещением он очень был доволен и несколько раз говорил мне, что для прогулок это место удобнее и Фроловского и Майданова, звал меня осмотреть вместе близлежащий городской лес, но мне не пришлось ни разу поехать в Клин в 1892/93 году зимой. Весной 1893 года Петр Ильич уехал в Англию, где он должен был подвергнуться церемонии возведения в доктора Кембриджского университета. Припоминается, что перед отъездом Петр Ильич говорил, что очень грустно провел день своего рождения 25 апреля. В день рождения он иногда приглашал приехать кое-кого к нему в гости или же сам приезжал в Москву и созывал нас к себе в Московскую гостиницу, где обыкновенно останавливался. В последний свой день рождения он приехал к вечеру в Москву, никого о том не предупредивши, и все же почему-то ждал, что кто-нибудь наведет о нем справки в гостинице, но ожидания были напрасны, и он провел вечер один.
Летом 1893 года мы разъехались с Петром Ильичем, как и в 1892 году, только на этот раз уехал раньше он, а перед возвращением его из Англии я отправился в свою очередь за границу. Только что я вернулся из-за границы, как Чайковский опять уехал в Гамбург по случаю постановки на тамошней сцене его «Иоланты», но эту последнюю поездку за границу он сделал необыкновенно быстро, употребив всего шесть дней на это.
Во время пребывания в Англии Петра Ильича умер один из наших общих друзей, К. К. Альбрехт; впрочем, это не было неожиданностью, потому что неизбежность его близкой кончины была известна уже за несколько месяцев раньше. К осени готовилась нам новая потеря: в последних числах сентября скончался H. С. Зверев после долгой и мучительной болезни. Случилось так, что Петр Ильин не получил вовремя известия о смерти H. С. Зверева и не попал на его похороны, чем был очень огорчен и винил в этом не без основания московских приятелей. К панихиде в девятый день Чайковский приехал из Клина, и тут мы с ним увиделись два-три раза и провели вместе последние часы его пребывания в Москве.
Чайковский провел, если не ошибаюсь, в Москве три дня с 7 октября по 9. Один раз мы встретились на панихиде в церкви Николы в Гнездниках, а оттуда Петр Ильич поехал в Данилов монастырь на могилу Зверева. 9 октября утром он обещал быть в консерватории, где ему должны были спеть сделанный им из одного места фортепианной фантазии Моцарта вокальный квартет. Музыка Моцарта осталась почти без изменений, а слова написал сам Чайковский. Квартет был сделан еще в марте 1893 года, и Петр Ильич тогда еще выражал желание послушать его. Е. А. Лавровская обещала ему дать выучить квартет учащимся в ее консерваторском классе, а в этот приезд сообщила, что квартет готов, и утром 9 октября несколько человек собрались его слушать в консерваторской зале. Мы с Чайковским уселись рядом посредине залы, квартет спели очень хорошо, и Петр Ильич попросил его повторить, что и было исполнено. Он сказал мне, что для него эта музыка имеет неизъяснимую прелесть, и он сам не может хорошенько отдать себе отчет в том, почему эта необычайно простая мелодия так ему нравится. Отблагодарив исполнителей и Е. А. Лавровскую, Петр Ильич ушел из консерватории, пригласив меня обедать у него вечером в Московской гостинице.