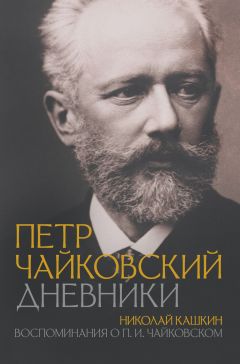
Автор книги: Петр Чайковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Петербургская неудача с симфонией имела своим последствием то, что огорченный автор ее перестал возлагать надежды на поддержку и сочувствие оттуда и теснее примкнул к московскому кружку музыкантов, среди которых талант его ценился очень высоко. К ослаблению связи с Петербургом послужило также и то обстоятельство, что А. Г. Рубинштейн в 1867 году покинул основанную им консерваторию и надолго уехал из России, предприняв длинный ряд концертных путешествий по Европе и даже в Америке.
В декабре 1866 года Г. А. Ларош окончил курс в Петербургской консерватории и вслед за тем переселился в Москву, где тотчас же поступил в число преподавателей консерватории. Сколько помнится, Ларошу пришлось даже поселиться в квартире Н. Г. Рубинштейна вместе с Петром Ильичом. Вызвано это было состоянием здоровья г. Лароша, которому в холодную погоду воспрещен был выход на воздух. Так как при этом условии посещение зимой классов консерватории делалось невозможным для нового преподавателя, то Н. Г. Рубинштейн предложил и ему поселиться в его квартире, имевшей непосредственное сообщение с консерваторией. Такое близкое соседство Чайковскому было, конечно, очень приятно, тем более что в часы работы соседи, благодаря удобству квартиры, не мешали друг другу. П. И. всегда чувствовал к Г. А. Ларошу большую привязанность, нисколько не ослабевшую в нем до конца жизни, поэтому переселение такого дорогого ему человека в Москву увеличило в его глазах ее притягательную силу, и он постепенно делался все более и более москвичом, каким и сошел в могилу. Только в последние лет шесть-семь стали досаждать ему различные неприятности в Большом театре, где с ним не особенно церемонились. Такие сюрпризы, как беспричинное снятие с репертуара «Черевичек», единственное в своем роде представление «Чародейки», снятие с репертуара «Мазепы», – сильно его огорчали и оскорбляли, особенно по сравнению с тем вниманием и предупредительностью, какие он встречал в петербургском Мариинском театре, так что Петербург, благодаря Мариинской сцене, получил первенствующее значение в его глазах в качестве поприща его артистической деятельности.
Московская консерватория и некоторые из членов ее корпорации были так близки П. И., имели столь важное значение в его жизни, что мы считаем необходимым поговорить о некоторых из них, и прежде всего о самом основателе и директоре Московской консерватории; мы даже считаем нелишним в самых общих чертах коснуться хода его артистического развития, тем более что о нем, несмотря на огромную популярность Н. Г. Рубинштейна при жизни, очень мало было известно тогда, а еще менее теперь; человеческая натура так счастливо устроена, что людей, выходящих из рядов живых, скоро забывают, как бы ни поклонялись им перед тем. Надеюсь, мне простят мое небольшое отклонение в сторону от главного предмета и не посетуют за него.
Н. Г. Рубинштейн родился 2 июня 1835 года в Москве, в Замоскворечье, в приходе Николы в Толмачах, где отец его имел собственный дом. Он выказывал в самом раннем возрасте выходящие из ряду вон музыкальные способности и был вообще очень богато одаренною натурой. Не бывши в гимназии, он в 15‐летнем возрасте подготовился к экзамену, и едва минуло ему 16 лет, поступил в университет, на юридический факультет. Попавши в кружок товарищей, мало интересовавшихся профессорскими лекциями, он и сам отбывал посещение их как необходимую повинность, и с трудом окончил курс в 1855 году действительным студентом. Во время выпускных экзаменов он уже был женихом, и свадьба состоялась тотчас по окончании их. Одним из условий брака был отказ от публичной артистической карьеры, но занятия уроками музыки были разрешены. Н. Г. Рубинштейн зачислился в канцелярию губернатора и набрал массу фортепианных уроков, начинавшихся в иные дни в семь часов утра; как он мне рассказывал позже, уроки доставляли ему до 7 000 рублей в год, что при существовавшей тогда плате в три рубля за час должно было составить сумму около 2 400 часов в год, то есть не менее девяти часов в сутки, считая, за исключением праздников и короткой летней вакации, около 260 учебных дней в году. Если к этим девяти часам в день прибавить время, нужное на переезды между уроками, то весь день окажется занятым. Рубинштейн действительно рассказывал мне, что он обыкновенно возвращался домой только к позднему обеду, а несколько часов спустя, когда в салоне его жены начинался вечер, он укладывался спать, чтобы встать ранним утром и отправиться вновь на уроки. Резкая разница во взглядах на общественную роль искусства и самый образ жизни необходимо должны были привести к разлуке супругов, которая и состоялась с небольшим через два года после свадьбы; детей у Рубинштейна не было. Для будущей артистической и общественной деятельности Н. Г. эти годы были, пожалуй, очень полезны. Будучи насильственно оторван от артистических успехов, он продолжал, конечно, принадлежать музыке всеми силами своей страстной натуры, только должен был в стремлении к любимому искусству весь сосредоточиться в себе и таким образом дополнить и привести в порядок приобретенные им урывочно различные сведения.
Учился музыке Н. Г. Рубинштейн не особенно систематично; вначале, с четырехлетнего возраста, учительницей его была мать, сама хорошая пианистка, потом от 9 до 11‐летнего возраста он учился в Берлине у Т. Куллака и теории музыки у знаменитого Дена – в консерватории хранятся различные его контрапунктические работы, написанные детской рукой, – потом, по возвращении в Россию, учителем его сделался А. И. Виллуан, бывший также учителем старшего брата, имевшего в то время уже европейскую известность, – весь курс обучения он кончил в 13‐летнем возрасте и с тех пор учителей музыки уже не имел. В университете он хотя и не приобрел солидных знаний в юридических науках, но получил дисциплину ума и всегда с живейшим удовольствием и благодарностью вспоминал годы своей университетской жизни. Запрет являться перед публикой помешал ему увлечься легкими для такого таланта и вместе с тем соблазнительными успехами виртуоза и заставил углубиться во внутреннюю работу над собой. Светлый ум, блестящие способности и несокрушимая энергия, которую он вкладывал во всякое дело, позволили ему развить богатые задатки своей натуры, опыт жизни также заставил его узнать многое, и таким образом, очутившись двадцати трех лет на свободе, он обладал трезвостью взгляда и знанием людей, обыкновенно не дающимися в таком возрасте, а он уже мог выступить на поприще самостоятельной деятельности во всеоружии ума, таланта и знания своего дела. Все это я рассказываю со слов знавших Н. Г. Рубинштейна в его юношеские годы, а отчасти по его собственным рассказам, сам я тогда еще не был в Москве.
Относительно артистического значения Н. Г. Рубинштейна в то время может дать понятие рассказ графа Л. Н. Толстого, который я позволю себе привести здесь. В самом конце 50‐х годов граф Лев Николаевич задумал вместе с несколькими из друзей своих устроить музыкальный кружок в Москве, члены которого могли бы собираться поочередно в разных местах. На устройство таких музыкальных собраний члены вносили несколько десятков рублей каждый и с общего согласия предложили взять на себя главную роль очень популярному тогда в Москве учителю музыки, Л. Оноре, мужу известной певицы, урожденной Пильсудской. Л. Оноре был отличным пианистом, очень любимым в аристократических кругах Москвы, а вместе с тем благороднейшим артистом. Он прямо сказал обратившимся к нему лицам, что если они хотят устроить что-либо действительно прочное и серьезное, то должны обратиться к Николаю Рубинштейну, как лучшему и главному представителю музыкального мира в Москве. Дело на этом остановилось, потому что вскоре открылось отделение музыкального общества в Москве с Н. Г. Рубинштейном во главе, граф Лев Николаевич переселился на долгое время в Ясную Поляну, члены его кружка большею частью поступили в члены нового Общества, а один из них, покойный князь Ю. А. Оболенский сделался его директором. Я привел этот рассказ для характеристики значения, которым Н. Г. Рубинштейн, несмотря на молодость, пользовался в то время между музыкантами.
С открытием действий Музыкального общества явилось поприще, достойное таланта и энергии Н. Г. Он с самого начала поставил себе задачей жизни успех этого дела, которому он отдался со всем пылом своей души. Хотя ему тогда еще не было 25 лет, но, как я уже говорил, он был умудрен опытом и жизнью, умел пользоваться всякою благоприятною минутой, но умел также и ждать, когда было нужно, с неослабною верой в то, что труды его не останутся бесплодны. Москва тогда была очень мало музыкальным городом, не только по сравнению с европейскими центрами, но даже и с Петербургом. Концерты первоклассных виртуозов были в ней не особенной редкостью, но симфоническая музыка была почти неизвестна. Среди дворянства и образованного купечества были, правда, кружки, в которых усердно играли квартеты классических композиторов, преимущественно Гайдна и Моцарта, но кружки эти были слишком замкнуты и носили совершенно приватный, домашний характер. Сочинения Шумана, например, были неизвестны не только любителям, но и большинству тогдашних музыкантов, даже Бетховена хотя и признавали, но относились к нему весьма критически. Среди таких условий серия десяти симфонических концертов была предприятием очень смелым, требовавшим для своего успеха какого-нибудь особенного обстоятельства. Таким особым обстоятельством и была огромная артистическая сила, стоившая во главе дела, которое вначале нужно было поддерживать с необыкновенными усилиями. Весь бюджет доходов симфонических собраний в первые три-четыре года существования Общества составлял в среднем 600–700 рублей на каждое собрание, то есть столько, сколько платили потом жалованья одному Μ. К. Эрдмансдерферу, а тогда этими деньгами нужно было оплатить все расходы: залу, публикации, солистов и т. д., не говоря о жалованье капельмейстеру. Н. Г. Рубинштейн ясно понимал данное положение и прежде всего отказался от всякого вознаграждения за свой труд; не довольствуясь этим, он привлекал к участию различных московских артистов, главным образом вознаграждая их своими личными услугами: участием в их концертах, доставлением выгодного заработка на вечерах у частных лиц, с которых сам лично не брал ничего за участие в этих вечерах, хотя и составлял главную причину их устройства и т. д. В несколько лет вкус к симфонической музыке пустил в Москве прочные корни и дела Музыкального общества стали процветать, а концерты, за покрытием всех расходов, начали давать значительный ежегодный доход, образовавший капитал, давший возможность открыть консерваторию и пополнять ее дефициты в первые шесть лет существования. Зато личные дела Н. Г. Рубинштейна запутались, и он, раньше не имевший долгов, начал их делать с первого года существования Общества, так что с открытием консерватории он сам принял жалованье в 3 000 рублей за директорство, профессорские классы и дирижерство в концертах.
В деле искусства Н. Г. Рубинштейн был чистейшим идеалистом, не допускавшим ни компромиссов, ни личных симпатий и антипатий. Он всегда был готов на услугу и помощь всякому артисту, в особенности русскому, и в этом отношении решительно не соображался со своими средствами, а просто отдавал, что имел в данную минуту. Дирижером Н. Г. сделался только с начала концертов Музыкального общества, раньше ему приходилось дирижировать два-три раза в случайных концертах, но огромная талантливость помогла ему твердо стать на этом поприще с первых шагов. Экономя всячески траты по концертам, он не мог делать много репетиций, а следовательно, не мог особенно гнаться за отделкою деталей, но это выкупалось цельностью художественного замысла, и в оркестровом исполнении под его управлением всегда чувствовалась могучая артистическая натура капельмейстера, умевшего воодушевлять и увлекать исполнителей, а с ними и публику. Мне приходилось слышать немало первоклассных дирижеров, но некоторые сочинения, как, например, пятая симфония Бетховена, которую, между прочим, мне приходилось слышать под управлением и Берлиоза, и Вагнера, – ни в чьем исполнении не делала на меня такого полного и сильного впечатления, как в исполнении Н. Г. Рубинштейна. Сочинения, требовавшие особенной страстности колорита, как, например, «Ночное шествие» и «Мефисто-вальс» Листа, никому не удавались так, как ему, и не увлекали настолько слушателей. Чайковского он вскоре стал очень высоко ставить как композитора, и между ними образовался род взаимодействия: исполнитель своим талантом влиял на композитора, а композитор, в свою очередь, полетом своего вдохновения воодушевлял исполнителя, так что они сроднились как-то в художественном отношении между собою и Рубинштейн как бы сделался истолкователем и провозвестником идей Чайковского. Никакие другие композиции не вызывали в Рубинштейне такого напряжения всех его артистических сил при исполнении, как всякое новое сочинение Чайковского, и последний едва ли приобрел так скоро свою известность, если бы не имел возле себя друга и артиста, всеми силами души готового содействовать его успеху. Чайковский умел это ценить и с своей стороны сделался преданнейшим его другом и помощником в делах консерватории и Музыкального общества; только смерть Рубинштейна положила конец этой обоюдной привязанности, и Чайковский в своем фортепианном трио воздвиг своему другу такой памятник, какого удостаивались немногие из музыкантов.
Вторым лицом в консерваторском кружке можно назвать умершего в июне 1893 года К. К. Альбрехта, очень близкого П. И. Чайковскому человека. Он был сыном бывшего капельмейстера русской оперы в Петербурге, которому выпала честь постановки в 1842 году на сцену «Руслана и Людмилы», Выучив сына основным началам музыки, а также игре на смычковых инструментах, капельмейстер, живший на пенсии в Гатчине, отправил его в Москву, где пятнадцатилетний музыкант поступил на службу в оркестр Большого театра и должен был начать вести самостоятельную жизнь. К. К. Альбрехт был в двухлетием возрасте привезен в Россию, прошел четыре класса русской гимназии, но русским языком владел довольно плохо до конца жизни, то есть говорил он бегло, но делал нередко ошибки, свойственные иностранцам: путал виды глагола, склонения, спряжения и т. д. В Большом театре он играл на виолончели; в то время в оркестре был превосходный виолончелист Шмидт, бывший учителем К. Ю. Давидова, одновременно с которым брал уроки и Альбрехт, но, при всей музыкальной талантливости, неудобный склад руки заставил его отказаться от виртуозной карьеры и ограничиться скромною ролью члена оркестра. Увлекаясь музыкой Шумана, камерные сочинения которого он хорошо знал еще в Гатчине, в доме отца, Альбрехт перенес свое увлечение и на журнальные статьи Шумана о музыке, изданные тогда уже в отдельных четырех томиках, – а оттуда и на основанную им музыкальную газету «Neue Zeitschrift für Musik» [Новая музыкальная газета], давно перешедшую в другие руки и в это время, под редакцией Бренделя, ставшую органом передовой музыкальной партии в Германии, во главе которой стояли Вагнер и Лист. Влияние Шумана отразилось и на литературных вкусах молодого музыканта, зачитывавшегося, подобно ему, Жан Поль Рихтером и между поэтами едва ли не более всех любившего Рюккерта за изящество формы. В Москве Вагнера тогда совсем не знали, хотя А. Н. Серов уже напечатал ряд восторженных статей о нем, но русских музыкантов тогда было мало, да и те ничего почти не читали, а немцы, если и читали, то разве такие строго консервативные статейки, в которых и Бетховен одобрялся только до последнего периода его творчества. Под влиянием своей газеты Альбрехт сделался сторонником самой крайней передовой музыкальной партии в Германии. Особенность взглядов, подкрепленная значительною начитанностью, знанием музыкальной литературы и далеко не заурядной талантливостью, доставила Альбрехту авторитетное положение в среде сотоварищей по оркестру, большинство которых не имело никакого образования и понимало только написанное нотными знаками. Те же качества Альбрехта обратили на него внимание Рубинштейна, который подружился с ним, а с открытием деятельности Музыкального общества предложил ему быть его помощником, на что Альбрехт изъявил полнейшую готовность, и с того времени до конца жизни Рубинштейна был его лучшим и ближайшим сотрудником по всем делам Общества и консерватории, принося в жертву свои личные дела и интересы. Бесконечно скромный по натуре, он не только не старался выдвинуть напоказ свою неустанную и многостороннюю работу, напротив, старался сколь возможно тщательно скрыть ее от постороннего глаза, так что вполне знать и ценить его могли только близкие люди, но зато такие близкие люди и сохранили к нему неизменную дружбу до конца жизни. Н. Г. Рубинштейн, уезжая в 1881 году больной за границу, откуда привезли только его тело, на случай смерти своей взял с дирекции Музыкального общества согласие, облеченное в форму официального постановления, назначить Альбрехту, в случае выхода его из консерватории, пенсию, переходящую по смерти его в половинном размере семье. Н. Г. заботился, именно об Альбрехте не только в силу его заслуг, но и потому, что знал его за неизлечимого мечтателя, который без него не сумеет себе создать прочного положения; так и случилось на самом деле.
Альбрехт подкупал Чайковского своим тонким музыкальным вкусом и способностью критического анализа, потом Чайковский очень высоко ценил задатки композиторского таланта у Альбрехта, хотя они и выражались почти исключительно в неоконченных, или даже едва начатых сочинениях – ему совсем недоставало композиторской техники и в то же время мешало стремление к гармоническим экстравагантностям, свойственным последователям вагнеро-листовской школы. Наконец, Альбрехт был очень интересным собеседником со своими оригинальными суждениями, немного вычурным, навеянным чтением Ж. П. Рихтера, языком, причем эта вычурность часто очень комично осложнялась ошибками. в русском языке, дававшими бесконечный материал для шутливых насмешек Чайковского и других близких друзей Альбрехта; Чайковский был к нему очень искренно привязан.
Между иностранцами-профессорами Чайковский не был тогда ни с кем особенно близок. Он восторгался несравненной игрой Ф. Лауба, но сблизиться с ним не мог, во‐первых, потому, что Лауб, кроме музыки и ружейной охоты, ничем не интересовался, а во‐вторых, – помехой был язык: Лауб говорил только по-немецки и едва начинал объясняться по-русски, а Чайковский несколько понимал немецкий язык, но не говорил на нем.
Больше точек соприкосновения было у него с виолончелистом Б. Коссманом, превосходным виртуозом, отличным музыкантом, образованным человеком вообще, к тому же прекрасно владевшим французским языком. Коссман, поселившись в меблированных комнатах, вел совершенно затворническую жизнь, мало с кем знакомился и никогда не приглашал к себе никого. Ко мне он очень изредка приходил по приглашению, и тогда обыкновенно бывал и Чайковский, причем устраивалась партия в ералаш; Коссман играл очень хорошо и был игроком строгим, одним из тех, от которых Чайковскому доставалось за рассеянность. После игры садились за ужин, Коссман оставался, хотя никогда не ужинал, но охотно принимал участие в беседах, длившихся иногда за полночь. Чайковский сохранил о Коссмане хорошее воспоминание и навестил его года два назад во Франкфурте, где он состоит профессором консерватории. Коссман покинул Московскую консерваторию после трехлетнего пребывания в ней; оставаясь совершенно чуждым Москве и России, он страшно скучал и томился здесь, тем более что семья его проживала в Германии, где он имел собственный дом в Баден-Бадене.
С Иосифом Венявским знакомство Чайковского было кратковременно, ибо, как уже выше сказано, он после первого полугодия вышел из консерватории, и позже им с Чайковским почти не приходилось встречаться.
Иногда мы собирались по вечерам у А. И. Дюбюка, очень радушного и хлебосольного хозяина. Петр Ильич восхищался его действительно замечательной игрой на фортепиано; в исполнении сочинений Фильда и вообще композиций той эпохи ему решительно не было равного. Кроме того, А. И. Дюбюк всегда был веселым, чрезвычайно остроумным рассказчиком и собеседником. К числу прочих талантов он присоединял еще талант повара и готовил тут же при нас превкусные ужины, во время которых веселые беседы не умолкали. Остальных лиц из консерватории, имевших близкое отношение к Петру Ильичу, мы коснемся впоследствии.
В то время учительский персонал консерватории делился на профессоров и преподавателей; Чайковского и в этом отношении не баловали: он был зачислен преподавателем и не принимал участия в совете, состоявшем из профессоров; только спустя некоторое время совет, по моему предложению, переименовал его в профессора, и таким образом он начал принимать участие в делах, что, впрочем, его не особенно интересовало. Членами совета в то время наполовину состояли иностранцы, почти не понимавшие по-русски, и потому все обсуждение вопросов велось по-французски или по-немецки, даже протоколы совета за первое полугодие составлялись Венявским по-французски, только со второго полугодия, когда секретарем сделался Г. А. Ларош, они начали редижироваться по-русски. Преобладание иностранных языков в заседаниях совета длилось много лет, но потом стало уменьшаться, и наконец в последние годы, уже не слышно почти иного языка, кроме русского. Чаще всего прения в совете велись по-немецки, и мы с Чайковским не только выучились понимать этот язык, но понемногу приобрели навыки говорить на нем.
Зимою 1866/67 года композиторская деятельность Чайковского была посвящена опере «Воевода» да переделке симфонии. Кроме того, к весне 1867 года Петр Ильич по просьбе Рубинштейна написал фортепианную пьесу «Scherzo à la russe» [ «Русское скерцо»], исполненную последним с большим успехом. Эта пьеса, вместе с другой – «Impromptu», напечатана была тогда под op. 1. Вторая пьеса для печати не предназначалась, она была написана значительно раньше и лежала у Петра Ильича среди других его петербургских работ, но в этой тетради было несколько пустых листов бумаги, на которых и было написано новое сочинение, которое, впрочем, по словам Г. А. Лароша, также было переделкой части струнного квартета, написанного еще в Петербурге. Когда П. И. Юргенсон захотел напечатать «Scherzo à la russe», то Рубинштейн передал ему находившуюся у него тетрадку, а П. И. Юргенсон, не получив никаких указаний, велел награвировать все в ней находящееся, так что Чайковский увидел уже свои обе пьесы в корректуре; сначала он был неприятно поражен тем, что «Impromptu» также награвировано, а потом решился примириться с совершившимся фактом. Во всяком случае, этот op. 1 был первым сочинением Чайковского, появившимся в печати, если только не была уже напечатана первая половина его сборника «50 русских народных песен», аранжированных для фортепиано в четыре руки. В эти зимние месяцы Петр Ильич уже занимался очень усердно сочинением оперы «Воевода», так что А. Н. Островский не успевал ему доставлять либретто, которым он занимался только в свободное от других работ время. Композиция эта очень занимала Петра Ильича, и он говорил, что не испытывал раньше такого наслаждения, как при этой работе, которая, впрочем, была окончена еще не скоро. На лето Петр Ильич уехал, если не ошибаюсь, на балтийское прибережье и жил преимущественно в Гапсале; там написаны три фортепианные пьесы «Souvenir de Hapsal» [ «Воспоминания о Гапсале»], ор. 2. Первая из них навеяна видом старинных развалин замка в Гапсале; наибольшею популярностью из этих пьес пользуется № 3 «Chant sans paroles» [ «Песня без слов»].
Осенью Петр Ильич привез уже значительную часть оперы «Воевода» оконченной; в том числе был большой оркестровый нумер «Танцы сенных девушек», который был исполнен в декабре того же года и очень понравился, так что исполнялся потом несколько раз в различных концертах. Между прочим, в конце сезона 1867/68 года был в Большом театре большой концерт в пользу голодающих финляндцев. Н. Г. Рубинштейн, для придания большего интереса концерту, предложил Петру Ильичу самому продирижировать своими «Танцами»; после некоторого колебания он согласился, и так как оркестр уже хорошо знал это сочинение, то никаких затруднений на репетиции не было. Зная застенчивость Петра Ильича, я очень опасался за него, но сам он храбрился. В концерте я отправился за кулисы, где был дирижер-дебютант, и подошел к нему; он сказал мне, что к собственному своему изумлению не чувствует никакого страха. Мы поговорили немного, потом перед его нумером я ушел на свое место в партер. Вскоре вслед затем вышел Петр Ильич, и я с первого взгляда увидел, что он совершенно растерялся: он шел между местами оркестра, помещавшегося на сцене, как-то пригибаясь, точно старался спрятаться, и когда наконец дошел до капельмейстерского места, то имел вид человека, находящегося в отчаянном положении. Он совершенно забыл свое сочинение, ничего не видел в партитуре и подавал знаки вступления инструментам не там, где это было действительно нужно; к счастью, оркестр так хорошо знал пьесу, что музыканты не обращали внимания на неверные указания и сыграли «Танцы» совершенно благополучно, только посмеивались, глядя на композитора. Петр Ильич после говорил мне, что от боязни ему казалось, будто голова у него не держится прямо, а все гнется набок, и все время он делал только усилия удержать ее. Лет около двадцати после того Петр Ильич не брал в руки дирижерской палки и, быть может, не взял бы ее никогда, если бы особенное обстоятельство не заставило его это сделать. Особым обстоятельством была предполагавшаяся постановка в Москве оперы Чайковского «Черевички», задержанная продолжительною болезнью г. Альтани. Петру Ильичу перед этим Петербургское филармоническое общество предложило продирижировать одним из его концертов; чтобы испробовать свой силы для «Черевичек», он согласился попытаться еще однажды выступить на капельмейстерском поприще, но на этот раз восторженный прием со стороны музыкантов и публики так ободрили его, что все прошло вполне благополучно. После этого опыта Петр Ильич сам решился дирижировать исполнением своих «Черевичек» в Москве и вообще сделался весьма известным дирижером, путешествовавшим со своими сочинениями и дирижерским жезлом по различным концам Европы, но вполне свыкнуться с выходом перед публикой он не мог до конца жизни, и всякий концерт, которым ему приходилось дирижировать, стоил ему даже физических страданий; меня всегда поэтому удивляла готовность, с которой он принимал приглашения на участие в различных концертах, то в России, то за границей, преимущественно за границей.
В декабре 1867 года в Москву приехал Гектор Берлиоз, удрученный годами, болезнями и несчастиями разного рода. Вид гениального артиста внушал невольное сожаление: беспомощная, согнувшаяся фигура, полузакрытые глаза, болезненное выражение лица производили впечатление очень тяжелое. Только становясь перед оркестром, Берлиоз постепенно оживал, глаза загорались и во всех движениях и облике его проявлялась некоторая энергия; но, уходя с капельмейстерского места, он почти тотчас же опять получал вид больного, близкого к смерти. В честь Берлиоза в зале консерватории был устроен обед, в котором кроме профессоров консерватории приняли участие некоторые дамы. За обедом, в ответ на тост, Берлиоз произнес довольно длинную речь, растрогавшую всех; он говорил о тогдашнем печальном состоянии музыки во Франции, или даже, как он выразился, об отсутствии ее, вскользь упомянул о своем положении – его тогда во Франции совсем не признавали и скорее ценили как остроумного фельетониста «Journal des Débats», нежели как композитора, – и закончил прославлением успеха музыки в России, который он нашел через двадцать с лишком лет после своего первого посещения нашего отечества. Многие потом говорили речи, в том числе и Петр Ильич сказал прекрасную речь по-французски, в которой со свойственным ему энтузиазмом сделал оценку высоких заслуг нашего парижского гостя. Берлиоз очень оживился за этим обедом, по окончании которого его окружили дамы, и он провел еще несколько часов в оживленных разговорах, пленяя собеседников изяществом речи и тонким остроумием. Посещение Берлиозом Петербурга и Москвы в сезон 1867/68 года принесло ему последние жизненные радости, дальше ему остались только «труд и болезнь», по выражению псалмопевца. Особенно сильное впечатление произвел концерт в экзерциргаузе, на котором слушателей было около 12 000, и вся эта толпа восторженными криками, сливавшимися с тушем оркестра, приветствовала старца, стоявшего перед ней на высокой концертной эстраде. В письме к одному из парижских друзей Берлиоз говорил, что никогда в жизни он не испытал впечатления столь сильного, как в этот раз: письмо это потом было напечатано. Гром успехов Берлиоза не окончился с пребыванием его в России, отголоски их были последним артистическим напутствием его в иной мир; на следующий год, раннею весной в Петербурге под управлением Μ. А. Балакирева был исполнен его «Те Deum», а в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна, оркестром и хором, всего около 500 человек, был исполнен при огромном стечении публики его колоссальный «Requiem» [ «Реквием»]. Телеграммы из Петербурга и Москвы, извещавшие об этих исполнениях, были получены Берлиозом уже на смертном одре, вскоре затем он угас навеки. Парижане могут быть благодарны России, оказавшей величайшему из французских композиторов те предсмертные почести, в которых отказала ему наполеоновская Франция, преданная культу Оффенбаха.
После торжества Берлиоза, в марте 1868 года наступил черед первого действительно большого успеха Чайковского; его симфония «Зимние грезы», забракованная в Петербурге, была исполнена в Москве и встретила в публике такой горячий прием, который превзошел даже наши (т. е. друзей Чайковского) ожидания. После концерта несколько человек, в том числе Рубинштейн, отправились ужинать в прежний двухэтажный московский трактир Гурина, на месте которого теперь находится здание большой Московской гостиницы. Чайковский был очень взволнован и возбужден, крупный успех такого серьезного сочинения, как его g-moll'ная симфония, подействовал на него очень сильно, и это возбуждение выразилось довольно оригинально: когда Н. Г. Рубинштейн после короткого спича предложил тост за здоровье автора новой симфонии, то Чайковский со всеми перецеловался и потом разбил все бокалы, «чтобы, – говорил он, – никто уже не мог пить из этой посуды после только что провозглашенного тоста». Первая часть симфонии потом еще раз подвергалась переделке, и партитура симфонии была напечатана лишь несколько лет спустя. Симфонию эту в Москве играли еще дважды: один раз под управлением Эрдмансдерфера, и в присутствии Чайковского, которому публика сделала овацию, а другой раз под управлением В. И. Сафонова, и оба раза симфония имела весьма большой успех, который не был, следовательно, случайностью на первый раз.









































