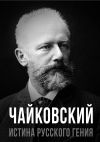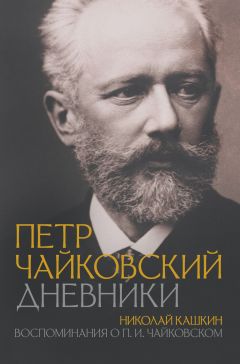
Автор книги: Петр Чайковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В этом же году Чайковский, если не ошибаюсь, составил свой учебник гармонии, выдержавший потом много изданий. В составлении книжки ему, впрочем, значительно помогла одна из его тогдашних учениц, которая так хорошо составила записки по его лекциям, что Петру Ильичу оставалось только дополнить их кое-где, прибавить еще несколько задач и учебник был готов; в нем были значительные пробелы, но достоинства его заключались в простоте, ясности изложения и практичности подбора задач.
Сочинение оперы значительно подвинулось вперед, и она была почти окончена. В опере «Воевода» было взято несколько мелодий народных песен, в том числе одну Петр Ильич сам записал, в сборниках песен раньше этой мелодии не было. Я говорю о песне «Соловушко», которую композитор перенес потом без изменения в свою оперу «Опричник». Мелодия этой песни была записана в деревне Мазиловой, близ Кунцева, под Москвой, где ее пела крестьянка, у которой Петр Ильич вместе с Г. А. Ларошем пили чай однажды на прогулке; подлинный текст песни начинался словами «Коса ль моя, косынька»; в опере к народной мелодии приделана вторая часть, составляющая как бы ее дополнение, далеко уступающая первой в значительности и красоте.
В этом году весной в Москве был короткий сезон итальянской оперы, в составе которой была примадонна Д. Арто, одна из талантливейших и умнейших певиц, какие мне удалось слышать когда-либо. На Чайковского она тоже произвела большое впечатление, а так как он в это время занимал уже очень видное положение в московском музыкальном мире, вращался также в кругу театрального начальства, то ему пришлось познакомиться со всеми членами итальянской труппы, в том числе и с г-жой Арто, которая обратила на него особенное внимание и часто приглашала к себе. Ближайшим результатом этого знакомства было сочинение «Romance sans paroles» [ «Романс без слов»], ор. 5, для фортепиано; пьеса эта посвящена знаменитой артистке и приобрела большую популярность. Итальянская опера хотя и не особенно щеголяла ансамблем исполнения, но в ней было несколько артистов и артисток, нравившихся публике; кроме Арто, наибольший успех имел красавец-тенор Станьо, в настоящее время пользующийся гораздо большей известностью, нежели тогда. Вообще итальянская опера пользовалась весной 1868 года весьма большим успехом, и антрепренер, г. Мерелли, нажил хорошие деньги.
III
С осени 1868 года Н. Г. Рубинштейн переменил квартиру и переехал на Знаменку, в дом, кажется, Макарова, а его бывшая квартира для увеличения помещения консерватории была отдана инспектору К. К. Альбрехту. Оставить прежнюю квартиру Рубинштейна заставила также ее близость и непосредственное сообщение с консерваторией, вследствие чего в квартиру слишком часто заходили различные профессора и преподаватели, часто с делами весьма неважными; в иные дни визиты эти бывали так часты и многолюдны, что квартира едва не переставала принадлежать хозяину, ибо одни посетители сменяли других, не считая неконсерваторских, входивших с улицы. Когда Рубинштейн бывал дома, то прислуга все время должна была держать горячий самовар, потому что Н. Г. любил от времени до времени выпить стакан чаю и мог это с промежутками делать весь день, даже до глубокой ночи; это чайное угощение предлагалось и гостям, так что некоторые из имевших много часов занятий в консерватории приходили даже просто затем лишь, чтобы напиться чаю. У Рубинштейна не хватало духа сказать, что это его стесняет нередко, и он предпочел переменить квартиру, а вместе с ним переехал и Петр Ильич, поместившийся очень удобно на новом месте этажом выше самого хозяина квартиры, со внутреннею лестницей для сообщения. Квартира Рубинштейна отделялась от соседней очень тонкой, вероятно, не капитальной стеной, и это было едва ли не самым крупным неудобством квартиры, потому что за стеной стояло фортепиано, очень часто играли разные танцы и, в особенности, с неуклонным постоянством польку-мазурку Штрауса «Stadt und Land» [ «Город и деревня»], крепко засевшую в памяти у всех нас; иногда эта музыка бывала очень надоедлива, особенно, если собирались также заниматься музыкой у Рубинштейна, или же мы с Петром Ильичом, как бывало нередко, проигрывали какие-нибудь новые сочинения в четыре руки. Петр Ильич хорошо читал ноты, когда приехал в Москву в 1866 году, но потом он делал в этом постоянные успехи и в последние годы своей жизни он сделался настоящим Notenfresser’oм [824]824
Дословно – «пожирателем нот».
[Закрыть], насколько может им быть человек, не владеющий настоящей первоклассной фортепианной техникой. Так же было и с чтением партитур; вначале он читал их, за фортепиано, порядочно, не более, сколько помнится, но потом и в этом сделал огромные успехи, потому что навык здесь играет большую роль. Иногда вечера наши бывали вокальные; Петр Ильич набирал большую груду романсов из неизвестных и малоизвестных нам, сам он в таких случаях был певцом, а Г. А. Ларош или я были аккомпаниаторами. Подобное чтение музыки делалось без Н. Г. Рубинштейна, продолжавшего не бывать по вечерам дома. У Петра Ильича в молодости был очень небольшой, но приятный голос с оттенком баритонового тембра; среди композиторских голосов, какие мне приходилось слышать, голос его был одним из лучших, но никто не пел с таким мастерством в оттенках и в музыкальной декламации; в этом отношении я отдавал ему преимущество даже перед Даргомыжским. Сам Петр Ильич при своей застенчивости, от которой он не освободился до конца дней, позволял себе свои вокальные упражнения только при нас с Ларошем, да может быть, еще при нашем общем друге И. А. Клименко, о котором я поговорю сейчас; даже присутствие Н. Г. Рубинштейна его стесняло, и едва ли он когда-нибудь при нем пел; впрочем, все пение Петра Ильича ограничивалось чтением неизвестных ему романсов, своих же собственных сочинений он не пел никогда, разве только случалось играть какой-нибудь отрывок из новой оперы, тогда он вполголоса пел, насколько мог, вокальные партии.
Относительно своих сочинений Петр Ильич был чрезвычайно щепетилен и никогда сам не заводил о них разговора, хотя, в сущности, всегда жаждал услышать о них какой-либо отзыв, но совсем не придавал значения голым похвалам, если не был убежден в их полной искренности; зато, если он замечал, что какое-нибудь новое сочинение его производило действительно глубокое впечатление на кружок близких ему людей, то, насколько я его знал, он должен был испытывать ощущение блаженства, хотя тщательно старался скрывать это. Да, впрочем, мы все как-то боялись лишней экспансивности в выражении чувств, и горячих похвальных речей Петру Ильичу от нас слышать почти не приходилось, он должен был скорее догадываться, не столько по смыслу слов, сколько по интонации, по выражению лиц о том, что ему могло быть сказано. У всех нас было какое-то общее чувство стыдливости в этом отношении, мы точно боялись, чтобы очень громкое выражение чувства не дало повод заподозрить его искренность, и щеголяли своею сдержанностью, вероятно, доходившей иногда до неестественной натянутости; впрочем, короткость наших отношений позволяла нам легко понимать друг друга с полуслова.
Вообще отношения Петра Ильича и ближайших к нему по консерватории людей заходили за пределы простой, обыкновенной дружбы; общность интересов в занятиях, наполнявших их жизнь, и взаимное доверие порождали такую тесную связь, какую можно сравнить разве с ближайшей родственной, и едва ли эта связь не была главною причиной, почему Петр Ильич считал Москву как бы своей родиной, своим естественным убежищем, куда он всегда возвращался как домой, после своих странствований по различным местам Европы и России. Связь эта с годами едва ли слабела, но нити ее порывались одна за другой в силу того неумолимого закона, который уносил одного за другим туда, откуда нет возврата, членов дружеской семьи, и Петру Ильичу до своей собственной кончины не раз пришлось испытать тяжкое горе прощания с дорогими ему людьми. Хотя кружок редел с годами, но старое чувство привязанности к месту, где он жил, не слабело в том, кого нам, немногим оставшимся, пришлось также проводить на место вечного покоя; теперь кружка этого нет, его несчастные обломки не могут быть названы этим именем.
Если память меня не обманывает, зимой 1867∕68 года в Москву приехал архитектор Иван Александрович Клименко, вероятно, бывший знакомым с Чайковским по Петербургу; по крайней мере я, будучи в Петербурге, кажется, летом 1865 года, встретил И. А. Клименко у Лароша, вероятно, встречался с ним и Петр Ильич. И. А. Клименко, состоящий в настоящее время городским архитектором в Таганроге, наделен отличными музыкальными способностями, которые, впрочем, ему не пришлось развить в полной мере – склад обстоятельств жизни помешал этому, но у него замечательно тонкий музыкальный слух и несокрушимо твердая память. Он всегда был страстным любителем музыки, любителем очень образованным и тонким, умевшим ценить и любить музыку не по смутным, безотчетным впечатлениям заурядного аматера, а с полным сознанием того, что и почему ему нравилось; словом, он судил как настоящий музыкант, значительно начитанный в литературе своего искусства. Музыка была естественным пунктом сближения между вновь приезжим и консерваторским кружком, а вскоре сближение перешло в дружеские отношения; И. А. Клименко сделался постоянным членом наших собраний, где бы они ни происходили, тем более что он был очень интересным собеседником, отличным рассказчиком, хорошим диалектиком в спорах, нередко затевавшихся в нашей среде, и т. д. Наш новый друг, восторженный поклонник музыки вообще, сделался восторженным же поклонником таланта Петра Ильича. В то время таких поклонников еще почти не существовало, в публике талант молодого композитора признавали немногие, да и то с большими оговорками; положим, московские музыканты все относились к нему с большим уважением, но музыканты публики не делают. В И. А. Клименко дорого было не только его горячее одушевление, с которым он высказывал свои суждения о музыке, еще дороже было то, что он умел их высказывать дельно и с толком, так что иногда он был в этом отношении очень интересен и для музыкантов вообще, указывая им какую-нибудь деталь, упущенную ими из вида, или давая какое-нибудь новое освещение внутреннего характера и содержания композиции, которое другим не приходило в голову. Петр Ильич почувствовал к И. А. Клименко большое расположение, потом превратившееся в такое чувство привязанности, какое можно назвать почти влюбленностью; он слишком умел ценить отзывчивость и симпатии к нему, тем более человека, мнением которого он дорожил. Вместе со своим новым другом Петр Ильич посещал общих знакомых, в том числе А. Д. Кочетову (Александрову) и С. А. Рачинского, художественным и литературным вкусам которого они оба очень симпатизировали. А. Д. Александрова была тогда примадонной русской оперы и обладала, между прочим, редким, особенно тогда, среди вокальных артистов качеством – хорошим музыкальным образованием, соединявшимся с природным дарованием; она читает с листа всякую вокальную музыку без запинки, так что к ней можно принести любую новую оперу и пройти, если угодно, всю, что для музыканта представляет интерес не малый.
Опера «Воевода» была, если не ошибаюсь, вполне окончена летом 1868 года или, быть может, некоторые части ее доинструментовывались осенью, но едва ли; во всяком случае этой осенью уже зашла речь о ее постановке. Либретто оперы, как я уже говорил, делал А. Н. Островский, взявший на себя этот труд совершенно бескорыстно, просто из чувства симпатии к молодому талантливому музыканту. Петр Ильич был в довольно хороших отношениях с лицами, стоявшими во главе театрального управления в Москве, что, конечно, способствовало скорейшему разрешению вопроса о постановка оперы в благоприятную сторону, но много также значили хлопоты и настояния Н. Г. Рубинштейна, пользовавшегося в московском обществе такими связями и влиянием, что это ему дозволяло иногда произвести некоторое давление на московских театральных заправил, хотя очень его не любивших, но немного побаивавшихся.
Не можем не вспомнить по этому случаю, как отчаянно защищалось театральное управление против энергичных покушений Н. Г. Рубинштейна проникнуть в Большой театр и занять там место хотя бы помощника капельмейстера. Зная стремления к экономии стоявшего тогда во главе театрального управления барона Кистера, Рубинштейн предлагал исполнять обязанности помощника капельмейстера бесплатно, и эта выдумка чуть было не удалась, но москвичи отхлопотали, и Рубинштейну все-таки отказали. Он попытался просить продирижировать несколькими пробными спектаклями, но и в этом было отказано. Вероятно, в петербургском архиве дирекции сохранились бумаги, относящиеся к этим ходатайствам. Судьба не захотела хоть однажды дать Большому театру талантливого, знающего дело артистического руководителя.
В тогдашней оперной труппе Большого театра были некоторые хорошие силы; оркестр, далеко не такой многочисленный, как теперь, состоял большею частью из хороших артистов, но хоры были довольно слабы и не особенно тверды. В общем, средства сцены были довольно порядочные, недоставало только уменья и желания пользоваться ими как следует. Дело в том, что русская опера была тогда в загоне и даже появление талантливых артисток и артистов в составе ее труппы в гораздо меньшей степени, нежели возможно было, способствовало поднятию уровня сцены. Высшее московское общество интересовалось почти исключительно итальянской оперой и балетом, а к русской относилось с высокомерным презрением. Того же взгляда держалось и театральное управление, если не в балете, то в опере преследовавшее едва ли не коммерческие цели главным образом и стремившееся делать на оперу по возможности меньше затрат. Антрепренер итальянской оперы Мерелли заключил с театральной дирекцией контракт такого рода, что Большой театр фактически попал ему в арендное содержание, и на четыре вечера в неделю, а иногда и на пять, Мерелли был полным хозяином сцены. Для главных партий в итальянской опере он приглашал заграничных артистов и артисток, а в случае недостатка обращался за содействием к труппе русской оперы, поставлявшей также исполнителей для второстепенных партий. Оперный оркестр находился в исключительном распоряжении итальянцев, а спектакли русской оперы давались с балетным, далеко уступавшим первому в количественном, да и в качественном отношении; даже репетиции русской оперы нужно было приноравливать так, чтобы они не мешали фактическим хозяевам сцены. Такое угнетенное положение русской оперы отражалось на ней, деморализуя ее и расшатывая все основы художественной дисциплины. Старшим капельмейстером был г. Шрамек, музыкант опытный, но лишенный энергии и таланта; притом нисколько не интересовавшийся русской музыкой. Небрежное отношение театрального начальства к русской опере перешло и к подчиненным, капельмейстер перестал почти пользоваться каким-нибудь авторитетом в подчиненном ему оркестре, чему причиной отчасти, впрочем, было чрезвычайное добродушие г. Шрамека, заставлявшее его терпеливо сносить выходки, иногда бывшие далеко не особенно деликатными; случалось, например, так, что в оперном спектакле один из смычковых пультов перевертывал свои ноты вверх ногами и двое за ним сидевших играли так, как при этом получалось, то есть совершенный вздор. Около того времени в театр взяли второго дирижера оперы Э. Мертена, талантливого композитора романсов и пианиста, но бывшего в капельмейстерском деле совершенно неопытным; притом если старший капельмейстер не пользовался авторитетом, то младшему и совсем трудно было добиться, чтобы его слушали и исполняли его требования. Петру Ильичу предоставлена была, как обыкновенно делается с композиторами, раздача партий персоналу труппы по его усмотрению, и, нужно сказать, он воспользовался этим правом как человек очень малоопытный, слишком руководившийся своими несколько исключительными взглядами в области вокального искусства. Впрочем, взгляды эти были результатом увлечения Петра Ильича итальянской оперой в Петербурге во дни его юности, когда эта опера была первой во всей Европе. Он был тогда очень большим итальяноманом и в особенности питал симпатии к операм Беллини и Доницетти, из Россини обожая главным образом «Севильского цирюльника. Хотя с годами юности ушло увлечение итальянскими композиторами, но манера пения прежних итальянцев осталась для него навсегда пленительным воспоминанием и образцом вокального искусства. Нужно прибавить, что позднейших итальянских певцов, как например, Мазини, даже Котоньи – он просто терпеть не мог, а Таманьо и т. д. он едва ли даже поинтересовался послушать. Среди певиц он выше всего ставил Бозио и А. Патти; хотя в это самое время, то есть в 1868–69 гг., он восхищался г-жой Арто, но едва ли не более ее артистической натурой и сценическим талантом, нежели ее вокальным искусством, впрочем, и не относившимся к итальянской школе, а скорее к французской.
В среде тогдашней труппы русской оперы Петр Ильич преимущественно выбирал таких исполнителей, которые напоминали бы этих прежних итальянцев хотя отдаленно манерой пения, постановкой звука и т. д. Таким образом для партии Воеводы в своей опере Петр Ильич избрал исполнителем г. Финокки, опытного, но совсем не выдающегося итальянского певца, которого во времена его сравнительного блеска, в самом начале 50‐х годов, я слышал в провинциальной итальянской опере в Воронеже. Потом он был принят в русскую оперу в Москве едва ли не потому, главным образом, что мог при случае быть удобною подмогой для итальянской сцены. Г. Финокки произносил по-русски очень плохо, и русские оперные тексты давались ему с большим трудом, как и русская музыка вообще. Тогда на русской сцене был высокий бас, г. Радонежский, певец с превосходным голосом, но очень неумелый и маломузыкальный, хотя и владевший хорошим слухом. Диапазон голоса певца был настолько обширен, что он мог петь и баритоновые партии, и партии basso profondo, но он все, что ни пел, затягивал безмерно и совершенно лишен был сценического таланта. При этих обстоятельствах выбор для Воеводы певца, не знающего русского языка, пожалуй, оправдывался необходимостью избрать из зол меньшее. Главная партия сопрано (Марья Власьевна) была отдана г-же Меньшиковой, певице, наделенной голосом удивительной красоты и талантливой, но слишком мало дисциплинированной в музыкальном отношении. Теноровую партию Бастрюкова-сына пел г. Раппорт, певец с голосом несколько сухим по тембру, но, по крайней мере, добросовестный исполнитель. Как были замещены остальные партии, я теперь не припомню. Из двух капельмейстеров Петр Ильич избрал младшего, г. Мертена, как более талантливого и энергичного.
Начались спевки, репетиции, а вместе с ними и жестокие страдания композитора. Во-первых, во время разучивания оперы он сам заметил недостатки своего произведения, которые исправлять было уже поздно, а во‐вторых, натолкнулся на совершенно неожиданные затруднения со стороны исполнителей. Нужно, впрочем, сказать, что в старании с их стороны недостатка не было, но, к сожалению, им иногда не хватало самых элементарных музыкальных познаний, вследствие чего вещи сравнительно очень простые обращались для них в непреоборимые трудности. Знавшие Петра Ильича в позднейшее время знают, насколько он был скромен в своих требованиях к исполнителям его сочинений, как он легко удовлетворялся и как ему трудно было сделать какое-нибудь замечание певцу или певице, хотя бы те сами просили его об этом. Застенчивость Петра Ильича в этом отношении вообще не знала пределов, ему все было как-то совестно утруждать артистов исполнением его сочинений, да при этом еще оставаться не всем довольным, – а при постановке первой оперы он совсем не мог делать каких-либо серьезных замечаний, предъявлять какие-либо требования, он просто страдал и только жаждал конца своих мучений.
Г. Мертен со своей стороны прилагал все старания, но, как я уже говорил, эти старания в значительной степени разбивались о господствовавшее тогда равнодушие к русской опере вообще и к «Воеводе» Чайковского в частности. Сами корифеи труппы относились хотя и благосклонно, но немного высокомерно к автору, излишнюю скромность которого едва ли не принимали за сознание недостатков своей композиции. Н. Г. Рубинштейн пользовался правом входа в Большой театр на репетиции и был раза два на репетициях «Воеводы» в надежде быть полезным чем-нибудь, но потом бросил, выведенный из терпения терпеливостью композитора, бывшей лишь выражением его отчаянной покорности судьбе и сознания невозможности что-нибудь сладить.
Для примера того, как шло дело, можно привести один факт. Последним нумером первого акта была сцена, в которой Воевода видит случайно выбежавшую из кустов Марью Власьевну; он приходит в восторг от ее красоты и назначает себе в невесты вместо старшей сестры. Сцена эта оканчивалась квартетом, сколько помнится в Es-dur, который в музыкальном отношении должен был составлять венец первого акта, служить как бы целью, куда стремилось все предшествующее движение. Сам композитор считал этот нумер если не лучшим, то по крайней мере едва ли не самым эффектным в опере. На беду свою он поместил в нем, между прочим, такое движение, где против одновязных триолей в одном голосе приходились простые одновязные в другом, то есть получилось деление двух на три; такая трудность оказалась непреодолимой и после многих опытов не нашли лучшего средства, как просто выбросить этот квартет, заменив его коротким заключением, и таким способом весь первый акт был капитально изуродован.
Не могу припомнить, какие урезки делались в других местах, но они, без сомнения, были. Постановка оперы была до невероятности скудная, все было сделано из сборных декораций и кое-каких костюмов; Чайковскому после случалось бывать нередко у начальствующих лиц московского театрального управления и однажды пришлось увидеть какие-то отчеты, в которых, между прочим, значилось, что на постановку оперы «Воевода» отпущено было несколько сот рублей; теперь я не могу припомнить с уверенностью сколько именно, только во всяком случае не более 600 рублей, а мне даже кажется, что всего только 300; во всяком случае можно сказать, что в настоящее время о таких постановках понятия не имеют, или, быть может, имеют на самых маленьких и бедных частных сценах.
Первое представление «Воеводы» состоялось 30 января 1869 года. Теперь идет уже 28‐й год с того времени, и мне едва припоминаются обстоятельства этого спектакля. Помнится, вначале произвел очень хорошее впечатление женский хор на народную тему «За морем утушка», быстро приобрела популярность песня про «Соловушку», нравилась ария тенора, построенная, если не ошибаюсь, на шотландском пентахорде, без полутонов, встречающемся и в наших народных песнях; дуэт Алены с Марьей Власьевной также имел успех, а квартет в конце оперы еще больший. Слова двух последних из названных нумеров принадлежали самому Чайковскому, они вошли и в либретто «Сна на Волге» А. С. Аренского.
Относительно первого представления «Воеводы» можно сказать, что собственно музыка оперы понравилась, но весь ансамбль сценического действия удовлетворял мало, главным образом, по вине либретто, в котором оставался только сухой скелет из поэтического создания Островского, пленившего тогда Чайковского, а лет двадцать спустя А. С. Аренского, у которого, впрочем, либретто сделано уже несравненно лучше потому, что оно гораздо ближе к подлинной пьесе.
«Воевода» или «Сон на Волге» Островского принадлежит к поэтичнейшим его созданиям и без музыки, как и «Снегурочка», не может существовать, но главную прелесть его составляют не основа интриги и ее не особенно богатое развитие, а то обилие бытовых картин и типов, которое большей частью проявляется во второстепенных, даже эпизодических лицах и сценах, – и все это в либретто «Воеводы» было безжалостно вычеркнуто, частью ради облегчения постановки, а частью чтобы не стеснять и не замедлять главного хода действия. Пересказать содержание либретто «Воеводы» мне теперь трудно, и я предпочту прибегнуть к сравнению с либретто «Сна на Волге» А. С. Аренского, не особенно давно еще шедшего на сцене Большого театра. Возвращаясь к либретто «Воеводы», я должен сказать, что оно никоим образом не могло быть названо «Сном на Волге», ибо для упрощения постановки сны Воеводы были выпущены. Представьте себе еще, что пропущены были такие лица, как Мизгирь-колдун, Отшельник, Домовой, сцена в крестьянской хате и крестьянка с ребенком; пропущено также шествие богомольцев, сцена разгула у Бастрюкова; добавьте, что разбойник Дубровин едва появлялся в действии, а Марья Власьевна оставлена только в качестве сопрано и почти лишена собственного облика всякими сокращениями в своей роли. Таким образом в либретто остались совсем почти условные лица старинной итальянской opéra seria: угнетенные любовники, злодей, благородные отцы, наперсник и наперсница, и в конце оперы, вместо посланника богов, новый воевода с царским указом.
Кто был виновником такой бедности либретто, сам ли А. Н. Островский или Чайковский, если план принадлежал ему, я не могу сказать, но кажется, Петр Ильич вполне предоставлял все в этом деле знаменитому писателю, перед талантом которого он преклонялся. Условная сухость либретто мешала впечатлению, а музыка, несомненно очень талантливая, сколько помнится, далеко не отличалась зрелостью и выдержанностью стиля. Сам композитор впоследствии сжег партитуру своей оперы, хитростью или даже просто обманом добыв ее из театральной библиотеки, так что от «Воеводы» теперь остаются только нумера, перенесенные в «Опричника», танцы сенных девушек, оркестровая интродукция, напечатанная в фортепианном переложении, да попурри для фортепиано в две руки, сделанное самим автором под псевдонимом Кrаmеr’а. Партитуру «Воеводы», однако, возможно восстановить, если в нотном архиве Большого театра сохранились оркестровые партии, которых сам автор, конечно, не мог уничтожить. Петр Ильич в позднейшее время говорил о «Воеводе» как о произведении очень незрелом, особенно по сравнению с оперой А. С. Аренского, которую он очень любил и ценил высоко, но вспоминал о своем оперном первенце скорее с удовольствием, нежели с каким-либо другим чувством; сожжение же партитуры обусловливалось главным образом крупными заимствованиями для «Опричника». Случайно в самое последнее свидание наше с Петром Ильичом у нас зашла речь об одном нумере из «Воеводы». Петр Ильич в этот день, 9 октября 1893 года, утром был в консерватории, где для него спели вокальный квартет «Ночь», сделанный им из фортепианной фантазии Моцарта, я напомнил ему другую «Ночь»: последний квартет из «Воеводы», и он сказал мне, что помнит его от ноты до ноты и когда-нибудь вновь запишет, потому что пьеса эта не переставала нравиться ему самому. Быть может, окажется возможным исполнить его намерение по партиям, если они целы в Большом театре; вероятно, возможно будет восстановить приблизительно верно квартет и при отсутствии вокальных партий, по дублирующим инструментам оркестра; быть может, И. А. Клименко с его памятью мог бы также оказать помощь в этом случае, и тогда мы имели бы одним сочинением Чайковского больше.
При тогдашних неблагоприятных условиях для русской оперы «Воевода» не долго оставался в репертуаре и во всяком случае не выдержал десяти представлений, а что-нибудь близкое к этому числу. Несмотря на тень успеха в первом представлении, Петр Ильич тотчас же почувствовал, что настоящего успеха нет и все ограничивалось поощрением его таланта, которому в Москве начали симпатизировать многие из публики, не говоря о музыкантах. Вся тогдашняя музыкальная пресса Москвы заключалась в одном Г. А. Лароше, незадолго перед тем начавшем свою деятельность и писавшем в «Современной летописи», издававшейся при «Русском вестнике». Я, старейший из московских музыкальных рецензентов, в то время безусловно бездействовал в печати, прекратив журнальное сотрудничество со времени начала учительства при Музыкальном обществе в 1863 году. Г. А. Ларош ограничился очень небольшой статейкой по поводу «Воеводы», в которой отнесся к опере очень холодно и лишь в общих выражениях. Последнее обстоятельство, то есть пренебрежительная краткость отзыва, страшно обидело автора, жаждавшего не похвал, на которые он и не надеялся, а строгого хотя бы, но внимательного и дельного разбора, ибо ниоткуда иначе он и не мог его ждать в печати. Огорчение дошло до того, что он поссорился со своим любимым другом и товарищем чуть не на целый год; это была первая и последняя ссора в их жизни, сколько я знаю. Относительно неуспеха «Воеводы» Петр Ильич скоро утешился и уже занят был другими оперными проектами.
1869 год был вообще годом неудач для Чайковского. У него была уже написана большая оркестровая фантазия «Фатум». По моему мнению, в содержании фантазии было нечто автобиографическое, хотя сам композитор не намекал об этом ни одним словом, а я также не стану высказывать своих предположений. Перед самым исполнением фантазии С. А. Рачинский, бывший большим почитателем таланта Чайковского, предложил ему взять эпиграф для фантазии из Батюшкова, на что автор и согласился. «Фатум» был исполнен 15 февраля в концерте Музыкального общества с посредственным успехом; всего более понравилась в сочинении вторая тема, широкая и певучая, она потом сделалась основой дуэта Андрея и Наташи в последнем акте «Опричника». Стихотворение Батюшкова, послужившее эпиграфом «Фатума», было следующее:
Ты знаешь, что изрек
Прощаясь с жизнию седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной скудной слез,
Страдал, терпел, рыдал, исчез.
Разумеется, в эпиграфе этом только обозначается общее настроение «Фатума», да и то далеко не совсем верно, а публика и пресса увидели в этом программу и начали в музыке отыскивать седого Мельхиседека и т. д. Особенно жестокой, хотя едва ли не слишком придирчивой критике подверг «Фатум» Μ. А. Балакирев, искренно любивший и ценивший автора фантазии, но расходившийся с ним значительно во взглядах на музыку. В особенности эпиграф из Батюшкова подавал повод к бесконечным шуткам петербургского музыканта, во что бы то ни стало хотевшего видеть непосредственную связь между приведенными стихами и музыкой. Разумеется, все это делалось самым дружеским образом в квартире Н. Г. Рубинштейна, при самом композиторе и в кругу его друзей, немало смеявшихся остроумным выходкам и музыкально-литературным сопоставлениям критика. Впоследствии Петр Ильич сжег партитуру «Фатума», но ее возможно восстановить вполне по оставшимся оркестровым партиям. Обстоятельство это, конечно, было известно автору, и акт сожжения был простым удовлетворением временного раздражения, заставившего уничтожить также вполне оконченную оперу «Ундина», написанную после «Воеводы» и бывшую известной только членам тогдашнего театрального комитета в Петербурге, забраковавшего ее.