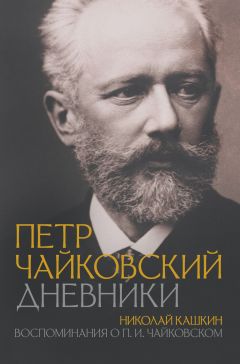
Автор книги: Петр Чайковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
VII
Внезапный отъезд Петра Ильича из Москвы, а потом и за границу произвел некоторое впечатление, и об этом событии рассуждали вкривь и вкось. Большинство даже консерваторского персонала, за исключением, разумеется, ближайшего к Чайковскому кружка, относилось как-то очень легко к происшедшей перемене в его жизни, видели в этом какой-то забавный анекдот. Те, кого я называю ближайшими друзьями Петра Ильича, очень мало знали сущность дела, и то по рассказам различных лиц, но так легко, как остальные, к этому делу не относились. Н. Г. Рубинштейн в самом начале как-то сказал мне, что на возвращение в консерваторию Петра Ильича он почти не надеется; того же мнения был и Н. А. Губерт, и в наших глазах разве только необходимость зарабатывать средства к жизни могла вернуть друга нашего в нашу среду. Мои опасения были едва ли не самые худшие; я успел уже оценить нежную впечатлительность души Петра Ильича, его строгость к себе, и я никому не осмеливался даже сказать, чего я боюсь, а боялся я самоубийства. Впоследствии оказалось, что мысль о самоубийстве явилась у Петра Ильича еще в Москве; ему казалось, что смерть остается ему единственным выходом, но в то же время мысли о родных, о том, как бы их поразило его открытое самоубийство, заставляло его искать смерти как будто случайной. Позднее он рассказывал мне, что во время холодных сентябрьских ночей, когда начались уже заморозки, он, пользуясь темнотой, заходил у Каменного моста одетый в реку почти до пояса и оставался в воде, пока у него хватало твердости выносить ломоту от холода воды; но, вероятно, крайне возбужденное состояние предохраняло его от смертельной простуды, и потому его попытка осталась совсем без результата для здоровья. Как я уже говорил, до нас доходили слухи о ненормальном психическом состоянии нашего друга; мы знали, что он в сопровождении одного из братьев отправился в Италию, но все эти известия и слухи не имели вполне точного, определенного характера.
Начиная с этого времени мы виделись с Чайковским не особенно часто, так что воспоминания мои поневоле примут очень отрывочный характер, тем более что я не хотел бы вводить ничего, что не совершилось на моих глазах или о чем не говорил мне сам герой моих воспоминаний. У меня под руками находится значительное число писем Петра Ильича, писанных им в 1877–78 годах из-за границы ко мне, Альбрехту и Рубинштейну; надеясь, что полная по возможности коллекция писем (она должна быть огромная) к разным лицам незабвенного друга моего будет напечатана не в особенно далеком будущем, мне бы не хотелось пользоваться ими, но я все-таки приведу некоторые отрывки из них, имеющие отношение к композициям, которыми он был занят в это время, или же рисующие состояние его духа.
Первоначально братья Чайковские поселились в Швейцарии, на берегу Женевского озера, в Clarens [Кларан]. Альбрехт известил Петра Ильича, что он будет получать за границей часть консерваторского жалованья, на что тот отвечал письмом полуделового характера, но между прочим писал там следующее: «Итак, весь этот год я проживу за границей и возвращусь домой 1 сентября будущего года. Только в разлуке познаешь всю силу любви к друзьям. Я теперь живу среди чудной природы, в Швейцарии, через неделю я уеду в еще более чудную страну – в Италию; но сердце мое безраздельно принадлежит милой родине…» Дальше в письме говорится: «…Меня очень терзает, что я поставил консерваторию в столь затруднительное положение своим отъездом»… «Все-таки лучше отсутствовать год, нежели исчезнуть навеки. Если б я остался хоть еще один день в Москве, то сошел бы с ума или утопился бы в вонючих волнах все-таки милой Москвы-реки»…
«Я начал довольно усердно работать и окончил инструментовку первого действия оперы, которое я выслал вчера в Москву на имя Н[иколая] Г[ригорьевича]. Теперь несколько времени хочу отдохнуть и нагуляться досыта, пока погода хороша. А погода чудная! Сегодня мы ходили с братом далеко, далеко в горы и наслаждались от всей души. Потом опять засяду за оперу и за симфонию, которая написана начерно еще прошлой зимой».
Письмо это, конечно, было показано мне Альбрехтом и очень меня обрадовало, потому что свидетельствовало о возвращении Чайковского к работе, а следовательно, и к действительной нормальной жизни. Желая поддержать в нем по возможности бодрое настроение, я, несмотря на мое крайнее отвращение к писанию писем, отправил ему послание по указанному им Альбрехту адресу и вскоре получил длинный и очень богатый содержанием ответ, из которого я приведу кое-что, дающее понятие о состоянии и настроении Петра Ильича в это время. Письмо было писано в первых числах декабря из Вены, куда Петр Ильич переехал из Италии. После довольно длинного вступления, относящегося ко мне, он говорит о Москве:
«Я люблю ее, как арену деятельности нескольких людей, к которым я оказался привязанным. Говорю: оказался, ибо только в разлуке я вполне сознал всю силу этой привязанности»… Дальше он говорит о себе: «Плоть моя довольно благополучна. Подобно Горбуновской старухе, у меня где болит, где подживает, но в результате я все тот же здоровяк, каким, в сущности, всегда был. Вот что касается души, то она получила такую рану, от которой, мне кажется, я никогда не оправлюсь. В сущности мне кажется, что я un homme fini [конченный человек]. Я, конечно, возвращусь 1 сентября 1878 года в консерваторию, я буду по-прежнему преподавать гармонию, буду испытывать приятное ощущение, чувствуя себя в близости старых друзей, – но прежнего не вернуть никогда. Что-то такое во мне надорвалось, крылья подрезаны и высоко летать я уже, наверно, не буду».
«Теперь я усердно работаю над оперой и симфонией. Я их инструментую, как бы они были сочинены кем-то другим. Сообщу себе очень знаменательный факт; в Неаполе собираются издавать какой-то альбом по случаю открытия памятника Беллини, и к участию в этом альбоме приглашен был в числе бесчисленного множества композиторов и я. Я отвечал, что пришлю свою пьесу к сроку. Я два месяца пытался чуть не каждый день написать эту пьесу: срок прошел, и я надул издателя альбома»… «Я не мог выжать из себя ни одной живой нотки», – факт любопытный».
«Не стану тебе рассказывать, что со мною произошло с тех пор, как мы расстались, это было бы слишком долго. Всего лучше мне было в Кларане, в Швейцарии, где я прожил вдвоем с братом три надели очень тихо и очень покойно среди величественной природы и в абсолютном уединении. Путешествие в Италию было чистым безумием. Ее богатство, ее ослепительная роскошь только бесили и раздражали меня»…
Дальше он говорит еще, что не имел силы даже любоваться памятниками искусства и относился к ним с тупым равнодушием. Относительно успокаивающее действие произвела на него Венеция с ее мертвенным затишьем. Затем описывается переезд в Вену, и вместе с тем упоминается кое-что о музыке, которую он услышал там.
С этим переходом к жизни искусства, которому посвящена была вся жизнь, автор письма меняет тон и говорит совсем иным языком, языком страстного увлечения в симпатиях и антипатиях. Говорится и о «Валькирии» Вагнера, далеко не приводящей его в восторг, и о новых сочинениях Брамса, увлечение которым немецкой музыкальной критики представляется ему совершенно непостижимым, и о балете Делиба «Сильвия», музыка которого кажется ему очаровательною; по этому случаю он вспоминает о своем балете «Лебединое озеро» и употребляет по адресу своей композиции резкое бранное слово, совершенно ею не заслуженное. Последняя часть письма привела меня в совершенный восторг; видно было, что этот «homme fini» еще полон сил и жизни, и что нужно только всеисцеляющее время для полного восстановления его энергии. Я не мог удержаться и немедленно сообщил свой вывод Петру Ильичу в коротеньком письме, которое ему, как он после говорил, очень понравилось и сделало хорошее впечатление.
Еще лучшим свидетельством внутренней здоровости нашего друга была для нас, его ближайших консерваторских товарищей, присланная им вполне законченная партитура первого акта «Евгения Онегина». Мы собрались рассматривать новое сочинение в квартире Н. Г. Рубинштейна, против церкви Большого Вознесенья; С. И. Танеев играл на фортепиано, а мы следили по нотам. Впечатление получилось огромное, какое-то захватывающее дух, и сидевший несколько поодаль от фортепиано в полутемном углу залы сам хозяин квартиры, судья вообще строгий и придирчивый, был на этот раз вполне доволен. Мы, однако, далеко не все оценили сначала, и С. И. Танеев, завладевший на некоторое время партитурой и старательно изучавший ее, потом указывал еще мало замеченные места, как, например, превосходный дуэт Татьяны с няней после сцены письма. Во всяком случае восторг между нами был полный, и кое-кто из нас написал об этом автору, которому это доставило очень большое удовольствие.
Однако самое то обстоятельство, что «Евгений Онегин» нам так понравился, отчасти заставило нас усомниться в возможности исполнить такую оперу силами консерваторских учащихся, тем более что какой-нибудь обычный шаблон, как на итальянских оперных сценах прежнего времени, был здесь неприменим, и учащимся нужно было в полном смысле слова создавать свои роли, да не каких-нибудь неопределенных лиц, а Татьяну Ларину, Евгения Онегина, Владимира Ленского и т. д. Сверх того, пока в Москву дошел первый акт оперы, пока с ним разобрались, наступил уже декабрь месяц, и, следовательно, думать о постановке в этот год было невозможно, если бы даже не побоялись за нее взяться, тем более что большей половины оперы еще не хватало. Приходилось известить об этом автора «Евгения Онегина», надеявшегося, что по крайней мере часть его оперы будет исполнена весной 1878 года в консерваторском спектакле. Н. Г. Рубинштейн только в крайних случаях заставлял себя написать письмо, а в данном возложил это на Альбрехта, который исполнил поручение, но вместо того, чтобы сказать все ясно и просто, прибег к уклончивым подходам и объяснениям, надеясь этим сгладить впечатление неприятного известия. Такая дипломатическая манера Альбрехта была нам всем знакома, мы немало над нею смеялись и совершенно привыкли догадываться о простой сущности дела среди невинной изворотливости изложения нашего дипломата, к тому же еще писавшего довольно курьезным русским языком. Однако, получив послание, Чайковский, хотя и понял его тонкости и посмеялся над ними, но в то же время очень разволновался и рассердился, потому что опасался, как бы от постановки «Онегина» совсем не отказались. Он написал Альбрехту длинное и очень встревоженное письмо, в котором доказывал, что трудностей постановки бояться нечего, что идеального состава исполнителей вообще никогда не дождешься, и что он вовсе не отдаст свою оперу на обыкновенную сцену, где царствует «эта омерзительная пошлая рутина, которой для моей новой оперы я боюсь больше всего». Продолжая с жаром излагать свой доводы в пользу постановки «Онегина» в консерваторском спектакле, Петр Ильич говорит дальше: «Для «Онегина» мне нужно вот что: 1) певцы средней руки, но хорошо промуштрованные и твердые, 2) певцы, которые вместе с тем будут просто, но хорошо играть, 3) нужна постановка не роскошная, но соответствующая времени очень строго; костюмы должны быть непременно того времени, в которое происходит действие оперы (20‐е годы), 4) Хоры должны быть не стадом овец, а людьми, принимающими участие в действии оперы, 5) Капельмейстер должен быть не машиной, а настоящим вождем оркестра». Всем этим требованиям, по мнению автора «Онегина», консерваторские учащиеся, руководимые Н. Г. Рубинштейном и И. В. Самариным, могли удовлетворить. Потом он извещает об отправке в Москву первой картины второго действия (сцена бала у Лариных) и прибавляет: «Я, с моей стороны, вполне доверяюсь Николаю Григорьевичу, тебе, Самарину и другим друзьям. Я в восторге, что музыка вам понравилась».
Встревоженного композитора поспешили успокоить относительно постановки его оперы, только разъяснили ему, что она совершенно невозможна в этом году; он вполне согласился со справедливостью доводов и терпеливо решился ждать год. 3 февраля 1878 года Петр Ильич пишет Альбрехту из Сан-Ремо: «Вчера я выслал на имя Николая Григорьевича остальные части моей оперы, то есть: 1) микроскопическую интродукцию перед первым актом; 2) вторую картину 2 действия; 3) третий акт».
Следовательно, «Евгений Онегин» был вполне закончен к февралю месяцу 1878 года. Как упоминал сам автор, большая часть оперы в черновом наброске была написана еще весной и летом в Москве; сцена дуэли, как он потом говорил мне, вся была сочинена в Сан-Ремо, после всех остальных частей оперы, за исключением ее оркестровой интродукции.
В это время одно обстоятельство породило на некоторое время неприятные отношения между Рубинштейном и Чайковским, скоро, впрочем, исчезнувшие. В то время приготовлялось открытие всемирной выставки в Париже, где предполагался русский отдел, при котором вознамерились ознакомить парижскую публику с русской музыкой. Покойный К. Ю. Давыдов с самого начала предложил назначить Чайковского русским делегатом по музыкальному отделу в Париже; то же самое предложил и Н. Г. Рубинштейн. Чайковский сначала как-то машинально выразил согласие и был назначен делегатом с жалованьем по 1 000 франков в месяц, с тем, чтобы он немедленно отправился в Париж и занялся приготовительным устройством. Тут только Петр Ильич представил себе ясно, какие обязанности придется ему нести на выставке, и поспешил отказаться от лестного назначения. Действительно он в данном случае поступил прекрасно, потому что организаторской способности у него не было, в дирижерстве до того времени он сделал только один и притом вполне неудавшийся опыт, и в дополнение ко всему он в это время чуждался людей, искал уединения, между тем как в Париже пришлось бы сделать массу знакомств, быть постоянно на виду и вести, одним словом, такой образ жизни, который для него был просто невыносим, особенно в то время.
Н. Г. Рубинштейн был очень недоволен отказом Чайковского, даже разозлился на него за это. Сам Н. Г. был наделен такой богатырской энергией и здоровьем, что ему совершенно незнакомо и даже едва ли понятно было угнетенное состояние духа Чайковского. Если Н. Г. Рубинштейн испытывал крупную неудачу или огорчение, то для него лучшим лекарством была усиленная деятельность, и чем эта деятельность была громче, виднее – тем лучше. С этой точки зрения, он очень увлекался отправкой Петра Ильича в Париж, питая уверенность, что предстоявшая там усиленная работа рассеет без остатка все мрачные мысли нашего друга. Конечно, если бы Чайковский имел силы поступить таким образом, то есть принять предложенное место и отдаться вполне исполнению связанных с ним обязанностей, то именно так бы и случилось, но это было для Петра Ильича совершенно невыполнимо: я был необычайно удивлен его согласием взять на себя делегатство, но последовавший затем отказ показался мне совершенно естественным, нормальным. Рубинштейн не хотел, однако, сразу отступиться от своего плана, казавшегося ему превосходным, и, зная податливость Петра Ильича, решился попытаться заставить его взять назад свое решение; он и ко мне пристал с уговорами написать письмо в этом смысле. Вероятно, я плохо выполнил заказ, потому что Чайковский просто не поверил искренности моих настояний, как он высказал в очень милом письме, написанном в ответ на мое. Сам Рубинштейн написал чрезвычайно страстное письмо, в котором не только убеждал, но и бранился, говорил о «блажи», «лени» и т. п. Чайковского это письмо и обидело, и рассердило так, что он, в свою очередь, и не без успеха постарался в ответе уязвить своего наладчика, – тем дело о делегатстве Чайковского и окончилось. Позднее Рубинштейн взял на себя делегатство в Париже и выполнил эту обязанность с самым блистательным успехом, так что русские концерты были едва ли не самым выдающимся событием выставки. Размолвка между друзьями была забыта в самом скором времени и ничем не отразилась на их позднейших отношениях. В программах выставочных концертов имя Чайковского, конечно, играло очень выдающуюся роль, и сочинения его имели блестящий успех.
Почти одновременно с «Онегиным» была окончена 4‐я симфония f-moll и отправлена в Москву с настоятельной просьбой непременно исполнить ее. Сам автор очень увлекался своим произведением, действительно превосходным, и в письме, отправленном вместе с посылкой, называет симфонию лучшим изо всего им написанного, отдавая ей решительно преимущество перед только что оконченной оперой. Обыкновенно Н. Г. Рубинштейн был лучшим истолкователем Чайковского, но с четвертою симфонией у него вышла неудача. В этом отношении «Евгений Онегин» помешал, кажется, одновременно почти с ним оконченному сочинению; интерес к первому был так велик, что не оставалось места для другого. Рубинштейн вечно имел массу занятий всякого рода, и, вероятно, ему не хватило времени просмотреть хорошенько симфонию. Сверх того он был занят подготовкой консерваторского оперного спектакля, в котором шла «Белая дама» Буальдье, все, словом, сложилось так, что симфония, исполненная едва ли не с двух репетиций, прошла вяло и бесцветно; главным образом чувствовалось, что сам капельмейстер не вошел во вкус сочинения, а тем более трудно было разобраться в нем слушателям, так что впечатление, сделанное новым произведением, было довольно слабым и совсем не соответствовавшим его внутренним достоинствам. Первое исполнение имеет очень большое значение, как это и оказалось в данном случае, ибо симфония долгое время оставалась в полном забвении, и реабилитация произведения явилась лишь много лет спустя, благодаря В. И. Сафонову, превосходно исполнившему ее в самом начале своей капельмейстерской деятельности. Чайковский ждал с нетерпением сведений об исполнении своей симфонии, но из консерватории никто не написал ему, вероятно, полагаясь друг на друга, и потому в письме к Альбрехту появились следующие негодующие строки: «Я-то, дурак, воображал, что и ты, и Рубинштейн, и Кашкин, и Губерт тотчас же под первым впечатлением мне что-нибудь напишете… Ну уж друзья! Merci».
Несмотря на увлечение работой, Чайковский все-таки хандрил по временам, и тогда у него являлись сомнения в своих силах на будущее время; в одном письме он говорит: «Я буду писать, потому что я не могу не писать. Да и то я еще не знаю, хватит ли у меня пороху на что-нибудь новое!» И в то же время он сочинял столько, как никогда: кроме оперы, симфонии, он написал еще полную «Литургию Иоанна Златоуста», много мелких фортепианных пьес, романсов, пьес для скрипки и т. д. так что тяжелый год в жизни композитора отнюдь не выразился ослаблением его деятельности; скорее можно думать, что он именно в усиленной работе искал исцеления и находил его.
Весною 1878 года Петр Ильич вернулся в Россию и проехал прямо в Киевскую губернию к родным своим, где, если не ошибаюсь, и провел лето.
Верный своему обещанию, он в конце августа явился в Москву и вновь принялся за свои занятия в консерватории, но они продолжались очень короткое время. Испытав сладость возможности работать без помехи от обязательных и скучных занятий, он уже не мог вынести хождения в классы и просмотра ученических работ, его занимали новые планы, которым он отдавался с обычным увлечением, и это заставило его наконец покончить навсегда с профессорскими занятиями, тем более что необходимости в них он уже не имел. Мы с грустью простились с ним, как с товарищем по занятиям, но в сущности были рады и за него, и за русскую музыку – свободная будущность Чайковского много сулила для нее, в чем мы и не ошиблись.
Вскоре, кажется, Петр Ильич опять уехал за границу, собравшись туда очень неожиданно; его едва ли в это время не занимал уже сюжет «Иоанны Д'Арк» и желание познакомиться с тем, что на этот сюжет сделано французами, заставило его поехать в Париж, который он, впрочем, и вообще очень любил, как место достаточно многолюдное, чтобы в нем можно было совершенно уединиться, не опасаясь привлечь на себя чье-либо внимание. Впрочем, быть может, сюжет новой оперы начал его занимать не в этом, а в следующем году, теперь я не могу уже припомнить это с точностью.
Между тем в Московской консерватории стали деятельно готовиться к постановке «Евгения Онегина». Задача была очень трудная для учеников, а в то же время всем хотелось выполнить ее сколь возможно лучше. Исполнители были намечены, партии розданы, и стены консерваторских классов стали оглашаться звуками новой оперы. Наше увлечение музыкой «Онегина» начало передаваться учащимся, и все принялись за работу с необычайным рвением. В консерватории был в то время обычай, – свято соблюдаемый и до сих пор, – в день именин Н. Г. Рубинштейна 6 декабря устраивать в виде именинного подношения или спектакль, или музыкальный вечер. На этот раз на крохотной консерваторской сцене вознамерились исполнить часть «Евгения Онегина» в виде подготовки к исполнению оперы на сцене Малого театра весной. Альбрехт, Губерт и Самарин были в этом случае главными работниками, и им удалось к 6 декабря приготовить едва ли не весь первый акт.
После рождества занятия оперой пошли усиленные, и в половине марта назначен был спектакль в Малом театре, в котором «Евгений Онегин» должен был исполняться весь. Ничем и никогда в консерватории не интересовались так, как подготовкой к этому представлению: певцы, оркестр, хор работали с полным усердием, а В. И. Самарин делал просто чудеса относительно сценической выправки участвующих. Наконец начались репетиции на сцене Малого театра и возбуждали чрезвычайный интерес не в одной только консерватории, – по Москве уже много говорили о новой опере, и множество лиц добивалось позволения попасть на эти репетиции, но удавалось это сравнительно немногим, потому что Н. Г. Рубинштейн очень не любил присутствия посторонних на черновых репетициях. Чайковский не на словах только, а на самом деле вполне полагался на своих друзей, трудившихся над его оперой, и совсем не спешил с приездом в Москву. Наступила наконец последняя репетиция без публики (хотя набрался, однако, полный партер так называемых своих людей), а композитора все еще не было. Наконец, все уселись на места, я ушел в кресла амфитеатра, и когда перед самым началом в зале наступила полная тьма, только виднелись свечи у оркестровых пультов, я услышал, что сзади меня кто-то пробирается и отыскивает свободного местечка. По топоту я узнал Чайковского, окликнул его тоже топотом, и потом мы так звучно расцеловались, что возбудили в темной зале даже некоторый соблазн. Я усадил Чайковского рядом со мной, и мы начали слушать оперу. Все шло отлично, а чудная стройность и свежая звучность голосов молодого многочисленного хора производила просто чарующее впечатление. В сцене письма, когда на тремоло оркестра в виолончелях появляется в C-dur тема любви Татьяны, Чайковский прошептал мне на ухо: «Какое счастье, что здесь темно! Мне это так нравится, что я не могу удержаться от слез». – Но и со мной было то же самое. – Очень много раз приходилось мне слышать оперу после, но все-таки более сильного впечатления, нежели на этой репетиции, я, кажется, не получал. Н. Г. Рубинштейн имел дар вселять в учащихся такое бодрое одушевление, такую уверенность в своих силах, что в исполнении у них иногда являлось истинно артистическое увлечение, какого дай бог и настоящим опытным артистам, – так было и на этот раз.
Как мне говорил Чайковский, ария князя Гремина была им написана только потому, что в 1878 году в составе учеников консерватории находился бас Μ. Μ. Корякин, теперешний артист петербургской оперы, которому автор оперы хотел дать видный номер, иначе по ходу действия в арии этой совсем не было особой надобности. Так как постановка «Онегина» отложена была до 1879 года, то Μ. Μ. Корякин успел окончить курс и уехать из Москвы, где ему не пришлось петь специально для него написанной арии.
К первому представлению из Петербурга приехали А. Г. Рубинштейн, Г. А. Ларош и многие другие лица. Зала Малого театра была наполнена так, как это едва ли случалось когда-либо; в некоторых ложах не сидели, а стояли сплошной стеной человек по пятнадцати, как это ни трудно себе представить. Затрудняюсь сказать, имел ли «Евгений Онегин» большой успех на первый раз? Кажется, вполне решающего успеха не было, потому что при всей ясности музыка эта, особенно в лучших ее частях, не может сразу быть понятой малообразованными в музыкальном отношении любителями, составлявшими главный контингент слушателей. С другой стороны, не совсем довольны были почитатели Пушкина, как, например, Μ. Н. Катков, потому что оценить достоинств музыки они не могли, а заметить отступления от Пушкина, хотя и весьма немногие, было совершенно в пределах их компетенции.
Но не только такие лица, даже самый крупный ценитель, А. Г. Рубинштейн, со свойственной ему прямотой отозвался не совсем одобрительно относительно оперы тотчас же после спектакля за ужином, на котором собралось нас человек двадцать. Чайковский всегда очень хорошо чувствовал меру успеха, даже и в позднейшие дни, когда всякое появление его вызывало овации, тем более верно мог он оценить этот успех в 1879 году, когда его широкая известность только еще начиналась, но он остался очень доволен главным образом потому, что почувствовал внутреннее удовлетворение своей композицией. Он продолжал, однако, считать «Онегина» неудобным для больших сцен и не надеялся на постановку оперы в императорских театрах Москвы и Петербурга. П. И. Юргенсон между тем напечатал клавираусцуг «Евгения Онегина», и тут вдруг оказалось, что музыка эта имеет успех огромный, почти беспримерный по числу проданных экземпляров полного клавираусцуга в данный промежуток времени. В Петербурге рецензентам «Евгений Онегин» большей частью не понравился и попал там на сцену Мариинского театра лишь пять лет спустя. У нас в Москве благодаря тому, что артистическим заправителем Большого театра был г. Бевиньяни, очень охотно руководствовавшийся советами Н. Г. Рубинштейна, «Онегина» поставили на следующий же год, то есть в 1880 году.









































