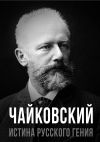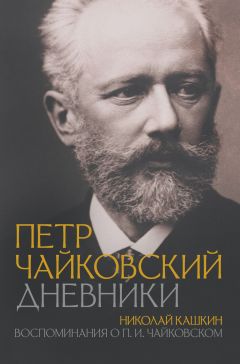
Автор книги: Петр Чайковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
VIII
С 1879 года свидания мои с Петром Ильичом становятся сравнительно редкими, переписывались мы только в случаях какой-либо особой надобности и ограничивались при этом сообщением необходимых вещей, не вдаваясь ни в какие подробности о личной жизни, так что связная нить моих воспоминаний прекращается, и мне остается добавить лишь несколько эпизодов из наших встреч в последующие годы. Наши взаимные дружеские отношения оставались неизменными до конца, но поводов к постоянной переписке не было, тем более что покойный друг мой постоянно жаловался на необходимость писать много писем в ответ на получаемые им с разных концов России и Европы. Из московских друзей он находился в постоянных отношениях только со своим издателем П. И. Юргенсоном, владеющим коллекцией в несколько тысяч писем и коротеньких записок Петра Ильича. В этих письмах и записках, помимо дел, он извещал и о себе, своем времяпрепровождении, занятиях, а мы таким образом имели сведения о нем от П. И. Юргенсона. Иногда Петр Ильич писал о себе более или менее подробно и поручал давать такие письма для прочтения консерваторским друзьям, что П. И. Юргенсон исполнял всегда с большой аккуратностью.
«Орлеанская дева» была написана, кажется, зимой 1879–1880 за границей, главным образом в Clarens на берегу Женевского озера, оставившего приятное воспоминание с осени 1877-го, как уже упоминалось в письмах Петра Ильича. В эту зиму я получил от него одно или два письма, где он, между прочим, рассказывал и о себе. Он был в зимние месяцы единственным постояльцем большой гостиницы и мерз там весьма изрядно; одно из его писем прерывается потому, что у него закостенели пальцы и он должен был выйти на открытый воздух, чтобы отогреться; при этом он купил термометр и убедился, что в его комнате, несмотря на топящийся камин, было всего два градуса тепла. Новой оперой своей автор был очень доволен в это время, но впоследствии совсем охладел к ней; сравнительно с другими она отошла для него совсем на задний план, и он интересовался ею менее даже, нежели «Опричником», которого он в одно и то же время любил и ненавидел. У нас в Москве, то есть в нашем кружке, «Орлеанская дева» произвела, сколько помнится, скорее неблагоприятное впечатление, несмотря на многие превосходные частности ее.
Последними большими сочинениями Чайковского, исполненными Н. Г. Рубинштейном, были первая сюита ор. 43 для оркестра, «Итальянское каприччио» ор. 45 и большая соната для фортепиано ор. 37. Фортепианную сонату Н. Г. Рубинштейн разучивал очень долго и тщательно, все оставаясь недоволен различными деталями, и только после долгой подготовки решился наконец сыграть ее публично в квартетном собрании осенью 1879 года. Когда Рубинштейн разучивал что-нибудь очень серьезно, то любил проигрывать изучаемую пьесу при близких людях, и мне, таким образом, пришлось прослушать сонату до публичного исполнения по крайней мере десяток раз; мне чрезвычайно нравилось, как он играл ее, но сам исполнитель был все недоволен, зато когда я услышал сонату, сыгранную в публике, то был просто поражен. Н. Г. Рубинштейн был истинно виртуозной натурой, которой для полного подъема вдохновения нужны были многочисленные слушатели; дома он редко играл так же хорошо, как публично. Соната была исполнена в квартетном собрании с таким недосягаемым совершенством, что я не мог ничего слушать дальше, ушел из залы совершенно отуманенный от восторга, и тотчас же телеграфировал Чайковскому, кажется, в Киевскую губернию, известил об успехе и прибавил, что такой фортепианной игры никогда в жизни не слыхивал. Некоторое время спустя Чайковский приехал в Москву, мы увиделись с ним, и он тотчас же начал расспрашивать о сонате. Не помню, где происходила наша встреча, но только вскоре к нам присоединился Н. Г. Рубинштейн и после первых приветствий тотчас обратился к Петру Ильичу со словами: «Прослушай, как я играю твою сонату, а то я, пожалуй, успею забыть ее». Конечно, автор с восторгом принял предложение, и мы немедленно отправились на квартиру Рубинштейна, Там оказался один очень известный заграничный пианист, едва ли не остановившийся у Николая Григорьевича, очень любившего помещать у себя приезжих, с которыми был знаком ранее. Хозяин квартиры немедленно уселся за рояль и сыграл сонату великолепно; автор был в полном восхищении и высказал его в самых восторженных выражениях. При этом выказалась, между прочим, одна из особенностей Петра Ильича, очень редко вполне уверенного в том, как именно следует исполнять его сочинения, а Н. Г. Рубинштейну доверявшего в этом отношении гораздо больше, нежели себе. Тот обратил его внимание на отступления от его указаний, которые ой позволил себе в некоторых местах относительно темпа и оттенков. Композитор на это самым убежденным тоном воскликнул: «Делай, голубчик, по-своему, конечно, так гораздо лучше, нежели у меня, да и что же я понимаю в этом?» Впрочем, подобное доверие Петр Ильич чувствовал к весьма немногим, разве еще к Гансу фон Бюлову, которого он ставил чрезвычайно высоко, особенно в качестве дирижера; для большинства же исполнителей он старался тщательнейшим образом обозначить все: и оттенки, и темп по метроному, и очень не любил, когда делали отступления от этих указаний без его разрешения.
По окончании сонаты приезжий пианист уселся в свою очередь за фортепиано, хотя, помнится, его об этом не просили, и сыграл несколько своих новых сочинений, довольно незначительных. Вслед за тем мы с Чайковским ушли, и едва очутились на улице, как он, совершенно взволнованный, обратился ко мне с вопросом: чем я могу объяснить дерзость садиться за фортепиано после такой игры, как рубинштейновская? Объяснений моих я не помню, но помню, что Петр Ильич долго не мог прийти в себя от негодования. Отчасти в этом случае, вероятно, примешивалось и оскорбленное чувство композитора, которому не понравилось сопоставление с его сонатой, исполненной Рубинштейном, незначительных салонных композиций; скромный вообще, Петр Ильич очень раздражался в подобных случаях.
Вероятно, весной 1880 года Н. Г. Рубинштейн заказал или, лучше сказать, внушил Петру Ильичу большую композицию на особый случай. В то время работы по постройке храма Христа Спасителя в Москве приходили к концу, и освящение xpамa предполагалось весной или летом 1881 года. Рубинштейну пришла мысль устроить наряду с церковным торжеством музыкальное, которое бы напоминало основную идею постройки: эпопею 1812 года. Вероятно, Рубинштейн переговорил уже об этом где следует, и предложил Чайковскому написать на этот случай увертюру или фантазию, которую бы можно было исполнить на площади, перед собором. Оркестр предполагался колоссальнейший, с участием многих военных хоров и с пушечными выстрелами вместо большого барабана. Композиция «1812 год» была окончена, как значится по надписи на партитуре, 7 ноября 1880 года в Каменке, Киевской губернии. У Рубинштейна в то время уже начиналась болезнь, сведшая его через четыре месяца в могилу, но он еще не покидал и не уменьшал даже своих занятий, будучи полон широкими планами относительно предстоявшей в 1881 году Всероссийской выставки на Ходынском поле. Рубинштейн должен был устроить музыкальный отдел выставки и пригласил уже в сотрудники меня и Н. А. Губерта; Чайковскому тоже предстояло написать для выставочных концертов особое сочинение, план которого еще не определился; мрачное событие 1 марта 1881 года разрушило все предположения, а вслед затем 11 марта скончался в Париже и Н. Г. Рубинштейн. Петр Ильич был в то время за границей и приехал в Париж, но не застал в живых своего друга, как не застал его и брат, Антон Григорьевич. Смерть дорогого человека и артиста глубоко потрясла Петра Ильича, и он, между прочим, напечатал в «Московских ведомостях» письмо, где, на основании парижских толков, обвинил русских медиков в отправке за границу уже обреченного на смерть человека. Письмо это вызвало тогда весьма основательный ответ и возражения со стороны покойного профессора Университета А. Ю. Давыдова. Вероятно, обвинительное письмо было вызвано тяжким чувством горя о безвременной утрате, иначе едва ли оно могло бы появиться,
Н. Г. Рубинштейн в самое последнее время своей болезни еще был занят сочинениями Чайковского. В декабре 1880 года он устроил концертное исполнение музыки «Литургии», написанной еще в 1878 году, но забракованной тогдашним директором Певческой капеллы Бахметевым, пытавшимся даже изъять из продажи напечатанные экземпляры, но проигравшим процесс, начатый по этому поводу против него издателем музыки П. И. Юргенсоном, кроме того, Рубинштейн занимался 2‐м концертом для фортепиано, написанным в 1880 году и посвященным ему, но смерть помешала ему его исполнить. В том же 1880 году была написана «Серенада» ор. 48 для струнного оркестра, чрезвычайно заинтересовавшая Рубинштейна. Он приказал расписать оркестровые партии «Серенады», явился в консерваторию совершенно больной, собрал в последний раз оркестр учеников и, не имея сил стоять, сидя продирижировал новым сочинением, чтоб иметь понятие об общем эффекте звучности.
В одно из моих посещений, в январе или феврале 1881 года, я застал Рубинштейна с печатным клавираусцугом «Орлеанской девы» в руках. При мне он уселся за фортепиано и кое-как, боясь неосторожным движением возбудить боли, проиграл значительную часть оперы. Боли, однако, все-таки явились, и Николай Григорьевич, с трудом добравшись до постели, вперемежку с оханьем и стонами, продолжал говорить об опере. Она ему не понравилась; в сравнении с «Кузнецом Вакулой» и «Онегиным» он считал ее шагом назад. Он видел в «Орлеанской деве» желание угодить ходячим вкусам публики и прибавлял при этом, что подобные попытки могут удаваться посредственным талантам, но никогда не удадутся Чайковскому. Приговор был очень строгий, но в основе, пожалуй, справедливый.
Я позволил себе остановиться на некоторых подробностях, касающихся в сущности не столько Чайковского, сколько Рубинштейна; но они были так близки между собою, так взаимно любили друг друга, что я счел себя вправе это сделать. Со смертью Рубинштейна для Чайковского многое умерло в Москве, она во всяком случае перестала быть отчизной творчества Чайковского, и Петербург стал брать перевес в артистических симпатиях композитора, После Н. Г. Рубинштейна, Чайковского в исполнении его оркестровых сочинений вполне удовлетворял только Г. фон Бюлов, два или три сезона дирижировавший в Петербурге симфоническими собраниями музыкального общества и бывший с ним в дружеских отношениях, а иногда вступавший и в переписку. Он писал к Петру Ильичу по-французски огромнейшие, в несколько листов, письма, которые, вероятно, уцелели в бумагах, остававшихся в Клину. Чуть ли не выше всех остальных дирижеров Петр Ильич ставил Артура Никита, но своих сочинений он в его исполнении, кажется, не слышал.
Тяжелый 1881 год очень отозвался на Петре Ильиче, по крайней мере, в том отношении, что после таких богатых композиторской деятельностью годов, как 1878, 79 и 80, я не могу припомнить, кроме трио, ни одного сочинения, относящегося к 1881 году. Я был уверен, что смерть Н. Г. Рубинштейна не пройдет бесследно в творчестве Чайковского, и не ошибся. Весь 1881 год едва ли не был посвящен композиции в память усопшего друга, по крайней мере автограф трио для фортепиано, скрипки и виолончели, посвященного «памяти великого артиста», помечен Roma, Gennaio 1882 г., а я знаю, что трио это писалось очень долго. Имя Н. Г. Рубинштейна не упомянуто в посвящении потому, что Чайковский хотел почтить память не столько своего друга, сколько артиста, к которому он чувствовал безграничное удивление. В этом превосходном трио, громадном не только по объему, но и по содержанию, композитор воздвиг достойный памятник артисту и своему другу. Петр Ильич раньше неоднократно говорил мне, что не может себе представить желания сочинять для фортепиано со смычковыми инструментами: такое сочетание представлялось ему неестественным, если только на долю фортепиано не отводилась подчиненная роль аккомпанирующего инструмента; он в этом отношении сочувствовал Листу, ни разу среди своих многочисленных сочинений не написавшему ни одного камерного ансамбля. Однако в данном случае Петр Ильич отступил от своих общих взглядов, и соединение скрипки и виолончели с фортепиано оказалось для него необходимым. Сколько помнится, Петр Ильич упоминал вскользь о причинах, заставивших его написать именно трио, а не какое-либо другое сочинение. Прежде всего он считал невозможным написать сочинение в память великого пианиста, не отдав главной роли фортепиано, а в то же время форма концерта или фантазии для фортепиано с оркестром казалась ему слишком парадной, роскошной для поставленной им себе задачи. В то же время одно фортепиано не удовлетворяло его однообразием и бедностью тембра, так что наконец он избрал форму трио, только совсем не в обычном роде. Во второй части трио, в вариациях, являются воспоминания о Рубинштейне и его музыкальная характеристика в различных положениях жизни. Можно бы привести или подставить особые названия к некоторым из вариаций, но я предпочту это сделать как-нибудь в другом месте.
К 1882–1883 годам относится сочинение оперы «Мазепа». Либретто это было сделано сначала для К. Ю. Давыдова, который даже написал значительную часть музыки, но потом почему-то бросил работу, а либретто подарил Чайковскому. Опера «Мазепа» писалась, вероятно, в Киевской губернии, а частью в Париже, где, между прочим, была сожжена первая редакция оркестровой картины Полтавского боя, потом написанной иначе. Во все время сочинения этой оперы мы не виделись с Петром Ильичом или виделись на очень короткое время. «Мазепу» театральная дирекция распорядилась поставить одновременно в Петербурге и Москве; первые представления в обеих столицах были назначены едва ли не в один и тот же день, так что автор мог присутствовать только в одном из городов, причем выбор его пал на Москву. На репетициях Петр Ильич весь исстрадался, не потому чтобы опера шла плохо, – напротив, он был очень доволен почти всеми исполнителями, – а так с ним бывало всегда при постановке новых опер, за исключением двух последних, доставшихся ему сравнительно легче. На генеральной репетиции «Мазепы» я сидел в ложе бельэтажа, а рядом, в смежной ложе, прятался за портьерой сам композитор. Репетиция шла очень гладко, все были довольны, только сам композитор имел вид приговоренного к смерти.
В конце репетиции я хотел что-то сказать ему, но, взглянув ему в лицо, остановился; он, видимо, употреблял страшные усилия удержаться от нервного припадка, и, скажи я ему тогда хоть слово, вероятно, началась бы истерика. Однако все обошлось довольно благополучно: Петр Ильич овладел собой, и хотя имел крайне расстроенный вид, но смог, кажется, отправиться на сцену и поблагодарить исполнителей. В это же время в симфоническом собрании Музыкального общества репетировали его новое сочинение, вторую сюиту для оркестра, и Μ. К. Эрдмансдерфер употреблял все старания исполнить ее сколь возможно лучше; сюита должна была исполняться в концерте на другой день после первого представления «Мазепы». Представление это прошло с большим блеском; г-жа Павловская, певшая партию Марии, была удивительно поэтична в заключительной сцене оперы; композитору делали овации, но впечатления действительно большого успеха как-то не чувствовалось. На другой день, будучи в консерватории, я получил коротенькую записку: «Приходи сейчас же в Московскую гостиницу, необходимо нужно видеть. П. Ч.». Несколько обеспокоенный, я немедленно отправился по приглашению и застал Петра Ильича в очень хорошем расположении духа, в обществе нескольких родных и, кажется, Н. А. Губерта, за завтраком, в котором и я принял участие. Тут же Петр Ильич объявил мне, что он решительно не в силах присутствовать вечером в концерте, и что тотчас после завтрака он уезжает за границу, а мне поручает извиниться за него перед Μ. К. Эрдмансдерфером, как я умею. Меня это известие очень мало удивило, потому что я знал, как действуют на Петра Ильича волнения первых представлений его опер, за которыми, начиная с «Опричника», всегда следовали заграничные поездки. Вещи были уже отправлены на станцию, а после завтрака и мы пошли туда же пешком, так как времени было еще достаточно. Вечером в концерте готовились различные овации автору новой сюиты, и, конечно, все были немало изумлены его отсутствием, а он в это время был уже где-нибудь около Смоленска. Очень, конечно, был огорчен Μ. К. Эрдмансдерфер отъездом Чайковского, но последний отнюдь не желал поступком своим сделать ему какую-нибудь враждебную демонстрацию; он просто не в силах был явиться перед публикой в своем тогдашнем настроении; и возможность уехать была для него величайшим благом.
Весной и летом того же 1884 года была написана 3‐я сюита для оркестра, помеченная 19 июля, «Гранкино». Вторую половину лета и часть осени Петр Ильич провел в подмосковном имении Плещеево покойной Н. Ф. фон Мекк, в полнейшем уединении, окруженный всевозможными удобствами и даже роскошью. Хозяйка имения, изящную деликатность и доброту которой трудно описать, пригласила его в Плещеево, заранее предупредив, что он будет там совершенно один, так как ей известны были вкусы ее гостя, чрезвычайно ценившего возможность вполне уединиться. В Плещееве была написана фантазия для фортепиано с оркестром, и там же, вероятно, была начата симфония «Манфред». Сюжет этой симфонии, как ранее «Ромео и Джульетты», был внушен Μ. А. Балакиревым. На этот раз задача менее подходила к натуре композитора, и работа подвигалась вперед с большим трудом. Сколько мне известно, ни одно сочинение, даже между операми, не требовало от автора такого напряжения сил; как-то раз он сказал мне: «Манфред мне стоит целого года жизни», – именно «жизни», а не работы, потому что композитору, кажется, приходилось до известной степени насиловать себя. «Манфред», конечно, превосходно написан, а все-таки внутреннего единения между музыкантом и сюжетом нет; для меня в симфонии многое отзывается чисто внешним пониманием поэмы, и гениальная музыка Шумана на тот же сюжет несравненно ближе к духу английского поэта, нежели произведение Чайковского.
Не помню, какие года Петр Ильич провел два лета в семействе своего брата Анатолия Ильича, сначала близ станции Климовка, Курской железной дороги, а потом в Подушкине, близ Одинцова, по Смоленской дороге, но в 1885 году он жил в селе Майданове (или «Мадине», как говорят местные крестьяне) близ Клина; там у него, в свою очередь, гостил одно лето Анатолий Ильич с семьей, в большом доме, обращенном к реке Сестре, протекающей в Майданове. Майданово – прелестное место с роскошным парком, отличным купаньем и другими удобствами, но в летнюю пору там поселяется на даче несколько семейств с неизбежными фортепиано и столь же неизбежными упражнениями на них, составлявшими для Чайковского истинное бедствие; быть может, от этих упражнений он и уезжал на лето к брату. Впрочем, позднее Петр Ильич поселился в другом доме, за парком, достаточно удаленном и даже отделенном особо огороженною частью парка от остальных дач, так что не было слышно никакой музыки с остальных дач. Для Петра Ильича важным недостатком Майданова было отсутствие поблизости большого леса, потому что он любил ежедневно делать большие прогулки пешком, невзирая на погоду, и никакой парк не мог ему в этом случае заменить леса. Петр Ильич жил в деревне почти безвыездно, по нескольку месяцев не показывался в Москву, и у него никто не бывал тоже по нескольку месяцев. Мы, его ближайшие друзья, очень хорошо знали, что майдановский отшельник постоянно занят работой и не любит в этом никакой помехи, поэтому мы всегда ждали приглашения приехать, что означало окончание какого-нибудь сочинения или вообще какую-нибудь перемежку в работе. Чайковский в деревне всегда обедал ровно в час дня, а ужинал в 81∕2; мы отправлялись обыкновенно втроем или вчетвером с почтовым поездом в 4 часа, ужинали, проводили вечер и следующий день, а с последним поездом уезжали в Москву. Обыкновенно при таких посещениях целым обществом время проводили шумно и весело; не было, конечно, недостатка и в вине, которое в таких случаях разрешал себе и сам хозяин, в обыкновенное время очень воздержанный в этом отношении.
Кроме участия в таких шумных наездах, мне приходилось изредка гостить у Петра Ильича более или менее продолжительное время одному или в очень небольшом обществе. Петр Ильич, как я уже говорил, опасался посещений посторонних людей, иногда просто не принимал приезжавших к нему без предварительного уговора, и тем оставалось только, дождавшись поезда, уехать обратно в Москву. Мне, как и вообще ближайшим друзьям, говорилось, что наш приезд его никогда не стеснит, что нам он всегда рад, но тем не менее, кажется, никто из нас не бывал в клинских эрмитажах автора «Онегина», не списавшись с ним о том заранее. Мы отлично знали, как он дорожит временем и свободой в занятиях, знали также его заботливую любезность относительно своих гостей, хотя бы ближайших друзей, и не хотели часто нарушать его добровольное уединение.
По моим привычкам и вкусам я был довольно подходящим гостем для Чайковского, однако мои приезды все-таки доставляли ему заботы, хотя и мелочные. В деревне Петр Ильич держал повара, но был очень неприхотлив в еде и, обладая хорошим аппетитом, ел почти все с удовольствием, хотя вполне умел оценить достоинства тонкой кухни. Я очень неприхотлив относительно стола, и минскому пустыннику это было хорошо известно, – тем не менее он начинал тревожиться однообразной простотой своих обедов и ужинов, старался придумать что-нибудь новое; точно так же несмотря на отличную выправку своего слуги относительно ухода за гостями, он часто беспокоился, что чего-нибудь недостает – одним словом, присутствие самого нетребовательного гостя все-таки доставляло ему некоторые тревоги. Мне самому его распределение дня очень нравилось, нравилась также и педантическая строгость, с какой это распределение выполнялось. Мы встречались за утренним чаем в 8 часов с небольшим, просиживали за ним около получаса, в очень хорошую погоду гуляли немного, а потом часов в 9 расходились по своим комнатам до обеда, подававшегося всегда ровно в час дня. Оба мы ели очень, быть может, даже слишком, быстро, да и обед обыкновенно состоял всего из двух блюд, так что на это мы тратили немного времени, и отправлялись гулять часа на два. Оба мы были привычны к одиночным прогулкам и потому иногда шли вместе, не говоря ни слова, почти не замечая друг друга; случалось, что я, ходивший немного быстрее, незаметно для себя уходил вперед и потом, спохватившись, оглядывался, замечал товарища по прогулке саженях во ста или более сзади, поджидал его, а потом опять шли прежним порядком. Иногда, впрочем, мы продолжали разговор о чем-нибудь, начатый за обедом и не оконченный, и в этих случаях беседа большей частью не прерывалась до конца прогулки. Случалось также, Чайковский говорил еще за обедом, что он пойдет гулять один, – это значило, что он занят сочинением, и одиночная прогулка была его любимым временем для обдумывания общего плана, а иногда и для изобретения тем, ради чего он постоянно имел с собою записную книжку, куда и заносил, что приходило ему в голову. После прогулки, в 31∕2 часа был чай, а потом мы опять расходились по комнатам до 6 часов, зимой даже позже, потому что не гуляли, а летом делали опять прогулку перед ужином, который додавался ровно в 81∕2 часов. После ужина Петр Ильич не работал, за исключением самых редких случаев.
Одно время по вечерам он писал иногда свой дневник, который вел несколько лет, так что дневника набралось много переплетенных томов, ио он должен был остаться тайной навсегда и для всех без исключения. Со своих братьев Петр Ильич взял слово, что тотчас же после его смерти они сожгут дневник, не открывая ни одной страницы. Как-то дневник прервался, просто не хотелось его писать, а потом желание и не возвращалось. Иногда сам автор дневника раскрывал тот или другой том и прочитывал записанное. Записаны были интимнейшие вещи и между прочим некоторые чужие тайны. Однажды вечером, как рассказывал Петр Ильич, он, сидя один, раскрыл том дневника и попал на одно из подобных мест; вдруг ему пришла в голову мысль, что он может умереть совершенно неожиданно, не имея при себе никого из близких, и что чужие люди безо всякого злого умысла могут заглянуть в дневник и увидать одну из подобных тайн; мысль эта привела в такой ужас автора, что он тотчас же велел затопить камин и том за томом сжег все. После иногда он высказывал сожаление об этом, но говорил, что так все-таки лучше, спокойнее.
По окончании ужина слуга убирал со стола, оставлял бутылку вина и в девять часов или в начале десятого уходил к себе и был свободен до утра. Оставаясь вдвоем, мы большею частью начинали играть на фортепиано в четыре руки; запас таких переложений у Петра Ильича всегда был большой. В таких случаях мы много раз играли сочинения Брамса; Чайковский очень уважал этого композитора за его искренность, серьезность и отсутствие погони за успехом, но в то же время мало симпатизировал его произведениям, находя их слишком сухими и холодными. Он склонен был приписывать отсутствие симпатий недостаточному знакомству с Брамсом, недостаточному пониманию его сочинений, но повторенные опыты их проигрывания не изменили первоначального к ним отношения. Довольно часто играли мы также Глазунова, у которого он находил много талантливого. Иногда музыка сменялась или заменялась чтением вслух, причем чтецом почти всегда был я, потому что вкусы наши в этом отношении были совсем противоположны. Привыкнув к быстрому чтению глазами, я должен усиленно напрягать внимание, чтобы не потерять нити, слушая сравнительно медленное чтение вслух, но сам могу читать не без удовольствия; Петр Ильич, напротив, очень любил слушать чтение не только новых вещей, но и старых любимцев из русской литературы; кроме того, он находил, что я довольно хорошо читаю. Новое талантливое произведение приводило его в полное восхищение; один из примеров такого восхищения я вспоминаю, хотя дело шло об очень коротеньком рассказце.
Однажды, не помню в каком году, я проводил Страстную и Святую недели в Майданове; стояла скорее зима, нежели весна, хотя все-таки снег снизу подтаял, и на ходьбе часто приходилось проваливаться в воду, но мы ходили в таких сапогах, что это было не страшно. Во время вечерних чтений мы прочли, между прочим, новый рассказ А. П. Чехова, помещенный в «Новом времени»; названия рассказа я теперь не припомню, но действующими лицами в нем были священник и дьякон, а время действия, кажется, канун Пасхи. Рассказ, если не ошибаюсь, был прочитан два раза кряду, потому что чрезвычайно понравился нам обоим, а Петр Ильич не успокоился до тех пор, пока не написал к А. П. Чехову письмо, хотя он его лично не знал и нигде до того времени не встречал; письмо было адресовано в редакцию «Нового времени» с передачей адресату. Об этом я узнал долго спустя, потому что в самый момент написания мне о нем ничего не было сказано; письмо, кажется, дошло по назначению.
Мы были у пасхальной заутрени в майдановской церкви; утром нас посетил церковный причт, а к обеду, кажется, приехал из находящегося по другую сторону Клина села Демьянова С. И. Танеев, который отправился потом гулять с нами. Петр Ильич очень любил крестьянских детей и очень баловал их, даже портил подачками разного рода, преимущественно мелкими деньгами. Мы с С. И. Танеевым укоряли его за это, говорили, что он развращает детей; обвиняемый с горестью сознавался, что это, пожалуй, правда, но мало подавал надежды к исправлению. Однако, отправившись гулять, он решился сделать героическое усилие для избежания поборов со стороны ребят. Мы шли парком вдоль берега реки, направляясь к мосту через Сестру по дороге в Клин. Время прогулок Чайковского в селе отлично знали, и он сам знал, что его, наверное, сторожат при выходе из парка, поэтому он решился обмануть своих преследователей и, оставив нас идти по дорожке парка, сам спустился к реке и стал, нагибаясь, нырять в густом лозняке, стараясь незаметно пробраться к мосту, между тем как наверху оставшийся со мною спутник с пафосом декламировал, глядя на согбенную фигуру убегающего: «И вот злонравия достойные плоды». Однако невинная хитрость не удалась, ребята, вероятно, изучили уже характер своей жертвы и везде расставили наблюдательные посты. Мы вскоре услышали издали радостные призывные клики, мелькавшие перед нами за парком мальчуганы опрометью бросились туда, и когда мы подошли наконец ближе, торжествующий неприятель уже удалялся шумною толпой с добычей, а бедный друг наш, весь красный от волнения и сконфуженный, ждал нас и оправдывался тем, что ничего не мог сделать, но зато дал ребятам очень немного, совсем пустяки; последнее он считал смягчающим обстоятельством в своем проступке. Насколько он был правдив относительно незначительности взятой с него контрибуции – не знаю, но однажды на прогулке со мной он роздал захваченные с собою семь рублей мелким серебром и сверх того отобрал у меня всю бывшую в кармане мелочь.
Сравнительная людность Майданова летом и отсутствие вблизи леса заставили Чайковского искать себе другого места, но также в окрестностях Клина, очень ему полюбившихся, как и самый город с его старинным собором. Однажды мы вместе ходили смотреть усадьбу верстах в пяти или шести от Клина; место оказалось очень хорошее, дом очень большой и хорошо устроенный; хозяин, петербуржец, очень образованный и любезный человек, но, к несчастью, вблизи дома были один или два флигеля, отдававшиеся на лето дачникам, что уничтожало все удобства. Потом найдена была, не знаю каким образом, усадьба в селе Фроловском, верстах в семи от Клина по направлению к Москве. Белая церковь села Фроловского, стоящая на высоком, открытом холме, вся видна с линии железной дороги и сзади нее выглядывает господский дом, в котором Чайковский прожил три или четыре года. Дом был старый, запущенный, уставленный старинной мебелью; по стенам висели разные гравюры, литографии и фамильные портреты, написанные без особенного искусства, но иногда с несомненным талантом. Обширный парк был тоже запущен, а к нему прилегала хорошая, довольно большая роща. Чайковскому это место чрезвычайно понравилось, да и наемная плата была не высока, что также имело свои удобства, потому что автор «Онегина», хотя и получал от своих сочинений весьма хорошие доходы, но так распоряжался ими, что при скромной жизни очень часто бывал без денег, слишком много их раздавая всем просящим, а иногда и не просящим.