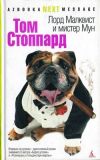Текст книги "Берег Утопии"

Автор книги: Том Стоппард
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Наташа уходит. Герцен берет письмо и начинает читать.
Огарев. И вот еще что. (Достает из кармана конверт.) Из российского посольства – официальное предписание вернуться… Я не могу его исполнить, так что… они теперь не пустят Наташу домой, мы оба станем изгнанниками. Она будет ужасно…
Пятясь, входит Саша. Он тянет почти вертикально бечевку воздушного змея. Следом за ним идет Тургенев, он прицеливается и стреляет из второго ствола.
Герцен. Это какой-то сон.
В лавровых зарослях поет дрозд.
Июнь 1859 г.
Газовый фонарь высвечивает небольшое пространство: угол улицы в трущобах Вест-Энда. Слышны пьяные споры, смех, треньканье пианолы. На сцене Огарев и Мэри Сазерленд.
Мэри, 30 лет, находится не на самом дне общества или проституции. По-английски она говорит грамотно, с рабочим лондонским выговором. Огарев говорит на плохом английском с сильным русским акцентом. Нижеследующий диалог не учитывает их произношения.
Огарев. Мэри!
Мэри. Это снова ты. (Дружелюбно.) Хочешь со мной пойти? (Огарев запинается в поиске слов.)
Огарев. Я думал, мы договорились.
Мэри. Господи, у тебя акцент – просто хронический. Теперь послушай меня. Я помню, что ты мне тогда сказал. Но такое легко сказать, за это денег не берут. Откуда я знаю – может, я тебя тогда в последний раз видела.
Огарев. Но я серьезно.
Мэри (изучает его). А ведь и вправду, кажется, серьезно. Ну ладно… За проживание Генри я плачу семнадцать шиллингов шесть пенсов в неделю. Если он будет со мной, мы вполне справимся на тридцать шиллингов, и ты ко мне сможешь приходить, и никого у меня больше не будет, это точно.
Огарев. Тогда все хорошо. Давай встретимся на мосту Патни завтра в двенадцать, и мы найдем тебе с Генри нормальное жилье.
Мэри. Патни! Это что, там и коровы будут?
Огарев. Возможно.
Мэри. Ладно. Почему бы и нет?
Огарев достает из кармана пальто или пиджака Сашину старую губную гармошку.
Огарев. Отдай Генри. Она сломана немного. (Он с ошибками играет короткую мелодию и протягивает ей гармошку.)
Мэри. Сам ему завтра отдашь. Ну что, хочешь?.. Ты ведь уже заплатил.
Огарев. С твоего разрешения.
Мэри. У тебя тоже есть маленький сын?
Огарев. Ах, это грустная русская история.
Мэри. Да? Ну, извини. Что за история?
Огарев. Была зима. Мы с детьми мчались домой через лес в… этих… как их… фьють….
Мэри. В санях!
Огарев. Именно. Потом слышу – волки!
Мэри. Не может быть!
Огарев. Я вижу – волки бегут за нами, все ближе, ближе… одного за другим мне приходится выбрасывать детей на снег…
Мэри. Как?!
Огарев. Сначала маленького Ваню, потом Павла, Федора… Катерину, Василия, Елизавету, двойняшек Анну и Михаила…
Уходят, взявшись под руки. Мэри смеется.
Июль 1859 года
Сад. Герцен наедине с Чернышевским. Тому 31 год, у него рыжие волосы и высокий, иногда пронзительный голос, хотя в данный момент он спокоен и серьезен. После смерти он станет одним из ранних святых большевистского календаря. Он небрежно просматривает номер “Колокола”.
Чернышевский (с акцентом). “Very dangerous”… Мы с Добролюбовым спорили, почему название на английском языке.
Герцен (пожимает плечами). Я увидел эту вывеску в зоопарке.
Чернышевский. О да – “осторожно, я кусаюсь”. Благодаря этой статье у вас появилось много друзей не только среди либералов, но и среди реакционеров.
Герцен. Конечно. Они всегда радуются раздору в наших рядах, даже если он заключается всего лишь… а кстати, в чем он, собственно, заключается? – в тоне, в интонации, в отсутствии такта по отношению к вашим предшественникам. А почему, собственно, я не должен защищать свое поколение от неблагодарности ваших новых людей? Тон протеста стал желчным… Монашеский орден, который отлучает людей за то, что они получают удовольствие от своего ужина, от живописи, от музыки. В оппозиции нет больше радости.
Чернышевский. Радости.
Герцен. Да.
Чернышевский. Когда я женился, я рассказал невесте, как я представляю себе свою будущую жизнь. “Революция – это лишь вопрос времени, – сказал я ей. – Когда она придет, мне придется в ней участвовать. Это может закончиться каторгой или виселицей”. Я спросил ее: “Тебя тревожат мои слова? Потому что я не могу говорить ни о чем другом. Это может продолжаться многие годы. И на что может рассчитывать человек, который думает таким образом? Вот тебе пример – Герцен. Я восхищаюсь им больше, чем кем-либо из русских. Нет того, чего бы я не сделал ради него”. (Пауза.) Я читал ваши книги – “С того берега” и “Письма из Франции и Италии”. Дело было не в вашей радости, а в вашем страдании, в вашем гневе… ну да, и в изящном стиле тоже! Я восхищался вами. А теперь я не могу вас больше читать. Я не хочу вашего блеска. Меня от него тошнит. Я хочу черного хлеба фактов и цифр, анализа. Это тяжкий труд. Я раздавлен работой. Вы и ваши друзья вели привычную жизнь представителей высшего класса. Ваше поколение было романтиками общего дела, дилетантами революционных идей. Вам нравилось быть революционерами, если только вы ими действительно были. Но для таких, как я, это был не отказ от своего социального положения, а результат нашего социального положения. Каждый день приходилось бороться за выживание – против неурожая, холеры, конокрадов, бандитов, волчьих стай… Единственным выходом было стать пьяницей или юродивым, которых было достаточно среди нас. Мне не нравится моя жизнь. И теперь есть вещи, которые я не стану делать ради вас.
Герцен. Например?
Чернышевский. Я не стану верить в благие намерения царя и его правительства. И прежде всего я не стану слушать, что вы болтаете в “Колоколе” о реформе. Тут сгодится только топор.
Герцен. И что потом?
Чернышевский. Порядок будем устанавливать на сытый желудок.
Герцен. Дело не в желудке, а в голове. Порядок? Стаи волков будут свободно хозяйничать на улицах Саратова! Кто будет устанавливать порядок? Ах да, разумеется, – вы будете! Революционная элита. Вам потребуются помощники. Что ж, вам придется завести собственную полицию чтобы поддерживать порядок в народе для его же блага. Только до тех пор, пока враг не ликвидирован, разумеется! В Париже я видел достаточно крови в канавах – этого мне на всю жизнь хватит. Прогресс мирными средствами. Я буду продолжать болтать об этом до последнего вздоха.
Чернышевский. Хорошо. Все ясно. Я сказал Добролюбову, что единственный выход – поговорить с вами с глазу на глаз, только так мы узнаем, почему “Колокол” отказывается призывать к восстанию.
Герцен. Это было бы на руку помещикам – это подтолкнуло бы либералов в лагерь консерваторов.
Чернышевский. О да, “very dangerous”. Но чем больше система будет улучшаться, тем дольше она протянет.
Входит Огарев.
“Колокол” – это топтание на месте. В чем ваша программа?
Огарев. Отмена крепостного права сверху или снизу, но только не снизу. Очевидно, я не пропустил ничего важного. Вы Чернышевский… Огарев. В Англии… в Англии мы делаем “le shake-hand”.
Чернышевский (пожимая ему руку). Рад познакомиться.
Огарев. Я тоже. Простите… (Смотрит на Герцена.) Навещал больного друга. Вы давно ждете?
Чернышевский. Совсем нет. Я заблудился.
Огарев. А полицейского почему не спросили?
Чернышевский. Полицейского? Нет.
Огарев. Нужно было спросить. Они называют вас “сэр” и, кажется, являются тут видом общественных услуг. Они помогают тем, кто заблудился. Русский человек, приехав сюда, видит всех этих полицейских и, естественно, начинает нервничать. Проходят недели, прежде чем он начинает понимать, что их назначение – показывать дорогу. Я только что был в Патни, и мне пришлось спросить полицейского, как пройти в ближайшую аптеку. (Герцену.) Мэри больна. Пришлось ее привести с собой.
Герцен. Привести с собой?..
Огарев. Я не мог ее оставить одну с Генри. (Чернышевскому.) Сколько вы пробудете?
Чернышевский. В Англии? Я завтра уезжаю.
Огарев. Но вы ведь только приехали. Лондон заслуживает большего. Каждую ночь ста тысячам людей негде спать, кроме как на улице, и каждое утро определенная часть из них мертва. Они умирают от голода рядом с гостиницами, где нельзя пообедать меньше чем за два фунта. Но в то же самое время, если вы не умерли, полицейский не может вас забрать. Если он думает, что вы преступник, он может взять вас под стражу, но в течение двух дней он должен в открытом суде представить причину вашего задержания, а в противном случае выпустить вас – возможно, чтобы вы свободно могли умереть от голода. При всех здешних свободах нет нищего во Франции или России, который нуждался бы так же отчаянно, как лондонский нищий. Но ни в какой России или Франции свободы нищего не защищены так, как в Лондоне. Что здесь происходит? Неужели свобода и бедность неразлучны или это просто английское чувство юмора? И не только свобода. Вы нигде не увидите столько чудаков. Здесь чтут человеческую природу во всех ее проявлениях, а мы не замечаем того, что нас окружает. Мы собираемся в этом саду или за столом в доме, бесконечно обсуждая ситуацию в России, а не лучшее общественное устройство для всех и повсюду.
Герцен. Так не бывает – “для всех и повсюду”. России – сейчас – нужен общинный социализм.
Чернышевский. Не общинный социализм, а коммунистический социализм, где миллионы делят поровну труд и его плоды…
Герцен (сердито). Нет! Нет! Мы не для того прошли весь этот путь, чтобы прийти к утопии муравейника.
Входит Наташа, толкая перед собой коляску с Лизой.
Наташа. Ты что, сердишься? (Подталкивает коляску ближе и садится на стул.)
Чернышевский вежливо встает при ее появлении.
Огарев (обращаясь к Наташе). Ты уже?.. Это только на время, пока…
Наташа (вдруг). Александр! У нас, у тебя гости!
Герцен. Что? Это Чернышевский! Ты ему приносила стакан воды.
Наташа (смеется). Он думает, что я идиотка. Вам что, кроме стакана воды, ничего не предложили? Право, мне неловко.
Чернышевский. Это все, чего я хотел на самом деле.
Наташа (Герцену). Я имела в виду госпожу Сазерленд.
Герцен. Кого?.. А…
Наташа (Чернышевскому). Одна из Сазерлендов, знаете, из Патни.
Чернышевский. В самом деле?
Огарев (обращаясь к Наташе). Ты ведь не против, нет?
Наташа. Это дом Александра, мой дорогой, а не наш. (Герцену.) Разве тебе не следует пойти и… Ник ее уже поселил, в желтую комнату.
Герцен. В какую желтую комнату?
Наташа. Александр, тут всего одна желтая комната.
Герцен. Буфетная?
Наташа. Комната с желтыми розами на обоях.
Герцен. О… она что, будет здесь жить?
Наташа. Именно это нам всем хотелось бы знать.
Герцен (Огареву). Она же не будет здесь жить?
Огарев не отвечает. Лиза начинает хныкать.
Чернышевский. Мне, кажется, пора идти. (На него никто не обращает внимания. С неловкостью он чувствует, что чего-то недопонимает.)
Огарев. Это только пока она не…
Лиза хнычет громче. Благодарный этому отвлекающему обстоятельству, Огарев идет к коляске и начинает ее энергично качать.
Наташа. Няня уже помогает горничной перенести диван из коридора.
Герцен. Зачем?
Огарев. Для Генри.
Герцен. Она привела с собой сына?
Огарев. А ты как думал! (Ударяет по коляске. Лиза начинает плакать. Огарев качает коляску и разговаривает с Лизой.)
Наташа (Герцену, забываясь). Она хочет к папе.
Герцен в бешенстве. Чернышевский озадачен.
(Лизе, поправляя ситуацию). Ну всё, всё, смотри, вот, папа здесь…
Чернышевский (Огареву, всматриваясь в Лизу). Она вылитая вы.
Тата выходит из дома.
Наташа (Герцену). Если ты сейчас же не пойдешь, будет поздно. Горничная уже устроила сцену, да еще при Тате.
Тата (подходя). Что в Англии значит “публичная женщина”?
Наташа. Тата, что за вопрос!
Тата (Огареву). Ну, что бы это ни значило, она уже в вашей постели. С ней маленький мальчик, который не хочет говорить, как его зовут. Он ведь здесь не будет жить, нет? (Чернышевскому.) Ой… Меня зовут Тата Герцен!
Чернышевский (пожимая ей руку). До свидания.
Тата. Да… до свидания.
Чернышевский пожимает руку Герцену и затем наклоняется к руке Наташи.
Тата (между тем, Герцену). Наташа говорит, что она возьмет меня с собой, когда поедет в Германию встречаться с сестрой.
Герцен. А как же Ольга?
Тата. Ну, ты же знаешь, как они друг к другу относятся…
Чернышевский (Герцену). До свидания.
Герцен. Вы уходите? (Делает несколько шагов, провожая Чернышевского.)
Натали (шипит Огареву). Ты сошел с ума? Она… она…
Тата. Публичная женщина.
Наташа (Тате). Ступай в дом!
Тата уходит.
Герцен (Чернышевскому). Я больше всего боялся, что возникнет пропасть между интеллектуалами и массами, как на Западе. Но я не мог себе представить еще худшего, что трещина разделит нас, тех немногих, кто хочет для России одного и того же.
Чернышевский. Трещина не так велика, чтобы вы не могли через нее переступить.
Наташа, которая все это время что-то яростно шептала Огареву, проходит мимо по направлению к дому.
Герцен. Но я прав. Даже там, где я не прав, я все равно прав.
Наташа (услышав, не останавливаясь). Вот видишь?!
Чернышевский. Предположим, народ не станет вас дожидаться.
Герцен. Тогда вы увидите, что я был прав.
Чернышевский. Царь вас подведет.
Герцен. Не подведет.
Чернышевский. Вы поставили на это “Колокол” – и вы все потеряете.
Герцен и Чернышевский уходят вслед за Наташей. Огарев падает в припадке эпилепсии. Генри Сазерленд выходит в сад. Он маленький и недокормленный, одет бедно, но чисто. Он испуган. Через несколько мгновений он замечает Огарева.
Он подходит, чтобы помочь Огареву, очевидно не в первый раз. Огарев приходит в себя, но пока не в состоянии говорить. Он улыбается, чтобы приободрить Генри, и делает жест, который Генри понимает. Мальчик достает губную гармошку из кармана и с заминками играет Огареву.
Промежуточная сцена. Август 1860 г.
Блэкгэнг-Чайн.
“Звуковой пейзаж” состоит из волн, разбивающихся о скалы, и пронзительных криков морских птиц среди шумных порывов ветра… На ветру заметен силуэт нигилиста – его фигура выделяется в окружающей темноте. (Блэкгэнг-Чайн – ущелье на южном побережье острова Уайт, печально известное своими кораблекрушениями.)
Август 1860 г.
На море. (Вентнор, остров Уайт.)
Отдыхающие прогуливаются, здороваются друг с другом, обмениваются несколькими словами и двигаются дальше. Любопытно, что все говорят по-русски. “Доброе утро. Как вы поживаете сегодня? Прекрасная погода. Когда уезжаете?”
Молодой человек, доктор, одетый заметно проще, чем другие, сидит на скамейке между набережной (променадом) и пляжем. У него в руках газета, местный еженедельник. Входит Тургенев, приподнимает шляпу, здоровается с одним-двумя людьми и после этого садится на эту же или соседнюю скамейку. Он достает из кармана книгу и читает.
Между тем на пляже появились Мальвида и Ольга. У Ольги сачок для ловли креветок. Мальвида собирает ракушки и складывает их в детское ведерко.
Ольга. Вы хотели бы быть креветкой?
Мальвида. Креветкой? Не очень. Жить без Бетховена, Ольга! Без Шиллера и Гейне…
Ольга. Вам было бы все равно, если бы вы были креветкой.
Мальвида. Но если бы я была креветкой, то могла бы прийти маленькая девочка и поймать меня сачком.
Ольга. Это не хуже того, что случается с людьми.
Мальвида. О философ. (Поднимает ракушку.) Вот красивая… двойная. Кто там дома? Да, не повезло тебе, но ты украсишь собой рамку для фотографий и будешь считать, что тебе повезло больше других.
Ольга. А что, на Рождество каждый получит рамку для фотографий?
Мальвида. О, какие мы догадливые!
Ольга. Мальвида, я хочу рамку.
Мальвида. Некоторые могут получить зеркало с ракушками.
Ольга. Я не хочу видеть свое лицо, я хочу видеть ваше! (Она смеется и обнимает Мальвиду.) Вон там человек, который знаком с папой.
Мальвида. Мы туда не смотрим. Который? Тот, что с газетой, или другой?
Ольга. Другой. Его зовут господин Тургенев. Он знаменитый писатель.
Мальвида. Все русские писатели знаменитые. Вот в Германии нужно по-настоящему много работать, чтобы стать знаменитым писателем.
Ольга. Мальвида, а что будет, когда Наташа вернется из Германии?
Мальвида. Она только что уехала, а ты беспокоишься о ее возвращении. Пошли, вон заводь среди камней.
Ольга. Я хочу и дальше жить у вас, а папа может приезжать к нам.
Мальвида. Ты должна постараться, чтобы Наташа тебе понравилась.
Ольга (вдумчиво). Она иногда мне нравится, когда она не историчная. Когда она становится историчной, единственное, что ее успокаивает, – это интимные отношения.
Ольга и Мальвида уходят.
Тургенев замечает, что доктор отложил свою газету в сторону.
Тургенев. Уважаемый… вы позволите мне посмотреть вашу газету?
Доктор. Можете взять ее себе. Я уже прочел. (Тон доктора неожиданно резок.)
Тургенев. Благодарю вас. Я свою выбросил, забыв, что там было кое-что важное… А, вот оно… Вы уверены, что она вам больше не понадобится? Потому что… (Достает из кармана маленький перочинный ножик и начинает аккуратно вырезать статью из газеты.)
Доктор (между тем). Вы Тургенев?
Тургенев. Да.
Доктор. Ваше имя – или что-то похожее – в газете, в списке заслуживающих упоминания приезжих. Откуда вы узнали, что я русский?
Тургенев. Статистическая вероятность. Одной из загадок летних миграций в царстве животных является то, что в августе маленький городок на острове Уайт превращается в русскую колонию… Но я узнал ваше лицо. Мы встречались прежде, не так ли?
Доктор. Нет.
Тургенев. В Санкт-Петербурге?..
Доктор. Сомневаюсь. Я не из вашего литературного… Я не из ваших читателей. Я читаю лишь практически полезные книги.
Тургенев. В самом деле? Мне кажется, что бывают моменты… особенно когда ты у моря, наслаждаешься природой…
Доктор. Природой? Природа – это не более чем сумма фактов. На самом деле вы наслаждаетесь вашим романтическим эгоизмом. (Смотрит название книги у Тургенева.) Пушкин! Ни малейшей пользы никому! Бросьте. Хороший водопроводчик стоит двадцати поэтов.
Тургенев. Так вы водопроводчик?
Доктор. Нет.
Тургенев. Что ж, если вы в том смысле, что на каждого хорошего водопроводчика приходится двадцать поэтов, то кто же с вами станет спорить? Но мне хотелось бы думать, что мои книги могут быть использованы не только в качестве затычки для ванной…
Доктор. Не могут. Сказать вам, что такое полезная книга? “Как избавиться от геморроя” доктора Маккензи!
Тургенев (с энтузиазмом). Да, отличная книга. (Поднимает вырезку из газеты.) Кстати, если вы пропустили, в газете была реклама холлоуэйских пилюль. Замечательная вещь! (Читает.) “…Специальный состав для воздействия на желудок, печень, почки, легкие, кожу и пищеварительные органы, очищают кровь, которая является основой жизни, и таким образом исцеляют болезнь во всех ее видах…” Я подумал, что раз так, то стоит попробовать. Но, возвращаясь к вашему геморрою…
Доктор. Я не страдаю геморроем.
Тургенев. А вот о себе я этого сказать не могу. Но если вдруг это с вами случится, то вот вам совет. Я обнаружил, что чтение книги доктора Маккензи заставляет меня постоянно думать о своем… в то время как, читая Пушкина, я совершенно о нем забываю. Практическая польза. Я в нее верю.
Доктор. Нынешний век требует не принимать на веру ничего другого.
Тургенев. Совершенно ничего?
Доктор. Ничего. Niente. Nihil.
Тургенев. Вы не верите в прогресс? В мораль? Или в искусство?
Доктор. В особенности в прогресс, в мораль или в искусство. Только в превосходство фактов. Все остальное – сантименты.
Тургенев. Но вы верите в медицинскую науку.
Доктор. В ее авторитет – нет. Я верю в холлоуэйские пилюли, если они работают. Но я подозреваю, что объявление, вырезанное вами из газеты, помещает холлоуэйские пилюли в ту же категорию, что и религия, философия, политика, образование, закон, семья и прочее шарлатанство. И пользуется нашей доверчивостью, чтобы нас облапошить.
Тургенев. Что же вы в таком случае предлагаете?
Доктор. Ничего. Настало время нигилистов.
Тургенев. Ах да… нигилист. Вы правы, мы не встречались раньше. Просто я все искал вас, сам того не зная. Пару дней назад, когда была буря, я отправился на Блэкгэнг-Чайн. Вы там бывали? Отсюда недалеко, надо идти на запад вдоль обрыва. Там наверху есть место, где трава доходит почти до самого края скалы, которая обрывается на четыреста футов, туда, где море разбивается о камни и галечный берег и вода устремляется в узкое ущелье Блэкгэнг. Шум там непередаваемый. Мне казалось, что я слышу стоны, всхлипы, орудийные залпы, звон колоколов, исходящий из сердца гневных вод. Казалось, стоишь у истоков мира, где мощные силы природы смеются над нашими жалкими утехами и обещают лишь ужас и смерть. Я понял, что для нас нет надежды. И вдруг в моем сознании возник человек – темная безымянная фигура. Сильный, не имеющий истории, будто выросший из земли вместе со своими злыми намерениями. Я подумал: я никогда о нем не читал. Почему никто не написал о нем? Я знал, что он – это будущее, которое пришло раньше срока, и я знал, что он тоже обречен. (Пауза.) Я не знаю, как вас зовут.
Доктор. Зовите меня Базаров.
Растет сопровождающий слабый звук – повторение шума в Блэкгэнг-Чайн. Тургенев и доктор остаются, глядя в море.
Март 1861 г.
Сад. Тата рисует. За сценой Лиза, двух лет, начинает вопить. Тата оглядывается и нетерпеливо вздыхает. Торопливо входит няня.
Тата. Она залезла в крапиву.
Миссис Блэйни. Но ты же должна была за ней смотреть.
Тата. Я смотрела.
Няня отправляется выручать Лизу. Входит Огарев с газетами. Он возбужден. Тата рада его видеть.
(Огареву.) Папа пошел отправлять вам телеграмму.
Огарев. Даже в Патни, в нашей маленькой газетенке напечатали, представляешь!
Из дома выходят Джонс, английский чартист, и Кинкель.
Джонс. I say! I say! Огарев, отмена крепостного права!
Кинкель. Wunderbar![99]99
Поразительно! (нем.)
[Закрыть] А где Герцен?
Джонс протягивает руку. Огарев пожимает ее, затем обнимает Джонса и Кинкеля.
Джонс. Oh, I say!
Из дома выходят Блан и Чернецкий с бутылкой шампанского.
Чернецкий (со слезами, размахивает “Колоколом”). Невероятно! Невероятно!
Блан. Огарев! Поздравляю!
Джонс (Тате). Как вы, должно быть, горды.
Блан. Где Герцен?
Джонс. Царь оправдал все надежды, которые возлагал на него ваш отец.
Спешно входит Герцен (не из дома, а с другой стороны). Из дома выходит Наташа с букетом. За ней идет Ледрю-Роллен.
Герцен. Мы устроим праздник для всех русских в Лондоне.
Наташа. Посмотри, что мы получили – от Мадзини!
Входит служанка с подносом с бокалами.
Ледрю-Роллен. Браво, Герцен!
Джонс. Свобода для пятидесяти миллионов крепостных!
Кинкель. Не топором, а пером!
Огарев. Твоим пером, Саша!
Герцен и Огарев обнимаются. Остальные мужчины аплодируют им. Герцен подбегает к Наташе и подхватывает ее.
Герцен. Мы победили! Мы победили!
Каждый берет по бокалу.
Огарев. Прогресс мирным путем. Ты победил.
Чокаются и выпивают по бокалу. Все уходят обратно в дом, переговариваясь. Герцен и Наташа отстают и страстно целуются.
Наступает лунная ночь.
Декабрь 1861 г.
(Девять месяцев спустя)
В доме все напоминает о Рождестве. Герцен расхаживает с месячным младенцем на руках. Тот отчаянно плачет, в то время как Наташа кормит грудью его близнеца. Огарев сидит за столом с бумагами. Кресло (или диван) Наташи накрыто большим красным знаменем, которое используют как покрывало. На нем вышито слово “Свобода”.
Герцен. Мы увлеклись. Или я увлекся.
Огарев. Да все увлеклись. Ты не виноват. Освобождение крепостных произошло по-русски. Свободу кинули им, будто кость своре собак, которая гонится за тобой по пятам. Крестьянам объявляют, что они свободны. Они думают, что земля, на которой они работали, теперь принадлежит им. Так что, когда выясняется, что им не принадлежит ничего и что они должны платить выкуп за свою землю, тогда свобода начинает пугающе смахивать на крепостную зависимость.
Герцен. Чернышевский, должно быть, ухмыляется в усы. Бунты более чем в тысяче поместий… сотни убитых… Праздничные пироги пошли на похоронный ужин. Сколько гостей у нас было?
Наташа. Несколько сотен.
Герцен. И еще оркестр и семь тысяч газовых фонарей для иллюминации дома… (Выбившись из сил, Огареву.) Возьми теперь ты его, то есть ее, не могу я больше…
Наташа. И мое несчастное знамя… гляди…
Огарев (берет младенца). Подписка падает. Материалов присылают все меньше. Мы не сможем продавать газету, если нам нечем ее заполнить…
Снаружи, в прихожей, какой-то беспорядок, кто-то громко требует Герцена.
Герцен. Что там еще?
Врывается Бакунин – огромная и косматая сила, король всех бродяг, – преследуемый горничной.
Горничная. Я его не пускала, а он говорит, что здесь живет.
Бакунин. Что это такое? Пора приниматься за работу!
Наташа вскрикивает в легком замешательстве.
Бакунин. Мадам! Михаил Бакунин! (Хватает ее руку для поцелуя и нависает над ней.) Нет приятнее картины, чем дитя, припавшее к материнской груди. (Хватает руку Огарева и пожимает ее.) Огарев, поздравляю! Мальчики или девочки?
Огарев. Кто их разберет?
Наташа. По одному каждого.
Огарев. Невероятно, что ты здесь. Твой побег сделал тебя знаменитостью.
Герцен. Ты растолстел!
Огарев. Рассказывай всё! Как тебе удалось?..
Наташа. Подождите, подождите, не начинайте без меня! Миссис Блэйни! (Берет у Огарева второго младенца.)
Бакунин. Да что тут рассказывать? Американский корабль, Япония, Сан-Франциско, Панама, Нью-Йорк. Спасибо, что прислали деньги, – причалил в Ливерпуле сегодня утром. Здесь можно достать устриц?
Герцен. Устриц? Конечно. (Обращаясь к Наташе, которая уходит с близнецами.) Пошли за четырьмя дюжинами устриц.
Бакунин. Как? А вы что, разве не будете?
Герцен. Неужели это действительно ты?
Бакунин. Кстати, можешь одолжить денег, расплатиться за экипаж? Я истратил все до последнего…
Герцен (смеется). Да, это ты. Пойдем. Я все улажу.
Бакунин. Один за всех, и все за одного. Вместе с “Колоколом” мы совершим великие дела.
Герцен и Огарев переглядываются.
Когда следующая революция? Как там славяне?
Герцен. Все тихо.
Бакунин. Италия?
Герцен. Тоже тихо.
Бакунин. Германия? Венгрия?
Герцен. Всюду тихо.
Бакунин. Господи, хорошо, что я вернулся. Где мне сесть?
Июнь 1862 г.
Жестикулирующие курильщики роятся вокруг Бакунина, как мотыльки вокруг лампы. Их голоса накладываются друг на друга. Слова Бакунина выделены курсивом. Горничная приносит чай.
Бакунин (с наложением других голосов). Вы сможете отвезти это в Буду, это практически по пути. Когда приедете в Загреб, Ромик будет жить в гостинице под именем Йеллинек… У нас десять тысяч патриотов, которые ждут лишь сигнала. – Я был знаком с ним в Париже. Ему нельзя доверять. – Им необходимо пятьдесят фунтов немедленно. – Полгарнизона с нами. – Нет, комитет не должен разглашать имена своих членов, пока не придет время. – Благодарю вас, вы просто ангел, и еще одну сахарницу!
Сцена, возобновляясь, превращается в сбор, где славянские конспираторы продолжают в том же духе, что и прежде. Герцен сидит за столом, дописывая несколько строк в письме, в то время как один из гостей, Павел Ветошников, ждет рядом, чтобы забрать письмо. Внимание Бакунина теперь занято русским офицером Корфом, которого Бакунин подводит к Герцену. Корф молод, застенчив, безмолвен и одет в штатское. Наташа приносит склянку с мутным лекарством Тургеневу. Тот занят разговором с молодым человеком Семловым. Тата дергает Наташу, чтобы привлечь ее внимание.
В то же самое время Огарев, который заново накрывает знаменем диван, замечает, что за ним наблюдает один из гостей, Пероткин, у которого в руках бокал вина и сигара.
Пероткин. Что это? Знамя?
Огарев. Да.
Пероткин. Что на нем написано?
Огарев. “Свобода”. Моя жена вышивала.
Пероткин. Звучит довольно отчаянно. (Смеясь, представляется.) Пероткин.
Огарев кивает Пероткину, но извиняется и находит себе место, где можно писать. Продолжает писать в блокноте. Сначала он пишет несколько страниц, которые затем окажутся в конверте в кармане Ветошникова – после того как Герцен добавит свой постскриптум. Затем он пишет то, что позже прочтет вслух всем собравшимся.
Тургенев (Семлову). Это довольно просто. Я назвал его Базаровым, потому что звали его Базаров.
Наташа (подходя). А, вот вы где… Глотайте. (Дает Тургеневу лекарство.)
Тата (обращаясь к Наташе). Ты спросила папу?
Бакунин (Герцену). Лейтенант Корф должен отправиться в Румынию, это очень срочно.
Герцен пишет постскриптум к письмам, которые ему дал Огарев.
Герцен (пишет). Одну минуту.
Тургенев (глотая лекарство). Брр… благодарю вас.
Тата (обращаясь к Натали). Если он не позволит, я покончу с собой.
Семлов (рассматривая коробочку из-под лекарства). Постойте, это же свечи…
Наташа (Тате). Я не могу его спросить прямо сейчас. Иди наверх. Я приду к тебе, и тогда поговорим.
Тата уходит.
Герцен (Бакунину). Двадцать фунтов лейтенанту?
Бакунин. Для дела. Он славный малый. Грех был бы упустить такой шанс.
Пероткин присоединяется к Тургеневу, в то время как Семлов отходит, смеясь.
Семлов (другому гостю). Вы слышали? Тургенев только что проглотил….
Герцен (Бакунину). Нет, оставь его в покое.
Тургенев. Кто был этот дурак?
Пероткин. Друг Бакунина. Я ему полностью доверяю… Пероткин, я друг Бакунина. Я читал вашу книгу. Хотел бы я сказать…
Тургенев. Не стоит.
Герцен (Корфу, пожимая руки). Приходите в воскресенье на обед. Будьте как дома.
Герцен запечатывает письмо и отдает его Ветошникову. Бакунин уводит Корфа, подбадривая его.
Бакунин. Положитесь на меня.
Тургенев (Пероткину). Некоторым она понравилась… Но в целом меня называют предателем и слева и справа. С одной стороны, за мое злобное издевательство над радикальной молодежью, а с другой – за то, что я к ней подмазываюсь.
Пероткин. А каково ваше отношение на самом деле?
Тургенев. Мое отношение?
Пероткин. Да, ваша цель.
Тургенев. Моя цель? Моей целью было написать роман.
Пероткин. Так вы ни за отцов, ни за детей?
Тургенев. Напротив, я и за тех и за других.
Бакунин тянет Тургенева в сторону.
Что это за дурак?
Бакунин. Знать его не знаю.
Тургенев. Но ты его привел, он же твой друг.
Бакунин. Ах да. Он один из наших. Послушай, я тебя больше никогда ни о чем не попрошу…
Тургенев. Не продолжай. Я уже дал тебе тысячу пятьсот франков. “Ле Монд” заплатила бы двадцать или тридцать тысяч франков за историю твоего побега.
Бакунин. Я не опущусь до того, чтобы писать за деньги.
Пероткин присоединяется к группе людей, которые уже несколько раз перебивали Герцена, чтобы пожать ему руку. Среди них Слепцов, энергичный молодой человек.
Герцен. Слепцов.
Слепцов (Герцену). Мне не верится, что я говорю с вами. “Колокол” пробудил нас к жизни – нас тысячи!.. Он дал нашему движению имя. “Две вещи надобны человеку – земля и воля” – это вы написали.
Герцен (пожимая ему руку). Это Огарев написал… Благодарю вас…
Слепцов. Дайте знать всему миру, что “Колокол” с нами!
Слепцов уходит. Ветошников собирается уходить одним из последних. Герцен пожимает ему руку.
Герцен. Благодарю вас, Ветошников. Вы все надежно спрятали?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.