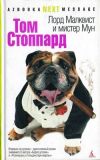Текст книги "Берег Утопии"

Автор книги: Том Стоппард
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Аксаков. Ну тогда вам туда, а нам сюда. Прощайте. (Уходя, встречается с ворвавшимся Огаревым.) Мы потеряли Пушкина… (пальцем “стреляет” из пистолета), мы потеряли Лермонтова… (Снова “стреляет”.) Огарева мы потерять не должны. Я прошу у вас прощения.
Кланяется Огареву и уходит. Герцен приобнимает Огарева.
Герцен. Он прав, Ник.
Грановский. И не только в этом.
Герцен. Грановский… когда вернется Натали, давай не будем ссориться.
Грановский. Я и не ссорюсь. Он прав, у нас нет своих собственных идей, вот и все.
Герцен. А откуда им взяться, если у нас нет истории мысли, если ничего не передается потомкам, потому что ничего не может быть написано, прочитано или обсуждено? Неудивительно, что Европа смотрит на нас как на варварскую орду у своих ворот. Огромная страна, которая вмещает и оленеводов, и погонщиков верблюдов, и ныряльщиков за жемчугом. И при этом ни одного оригинального философа, ни единого вклада в мировую политическую мысль.
Кетчер. Есть! Один! Интеллигенция!
Грановский. Это что такое?
Кетчер. То новое слово, о котором я говорил.
Огарев. Ужасное слово.
Кетчер. Согласен. Зато наше собственное, российский дебют в словарях.
Герцен. Что же оно означает?
Кетчер. Оно означает нас. Исключительно российский феномен. Интеллектуальная оппозиция, воспринимаемая как общественная сила.
Грановский. Ну!..
Герцен. А… интеллигенция!..
Огарев. И Аксаков – интеллигенция?
Кетчер. В этом вся тонкость – мы не обязаны соглашаться друг с другом.
Грановский. Славянофилы ведь не совсем заблуждаются насчет Запада, Герцен.
Герцен. Я уверен, они совершенно правы.
Грановский. Материализм…
Герцен. Тривиальность.
Грановский. Скептицизм прежде всего.
Герцен. Прежде всего. Я с тобой не спорю. Буржуазная монархия для обывателей и спекулянтов.
Грановский. Но – разве ты не видишь? – из этого не следует, что наша собственная буржуазия должна будет пойти по этому пути.
Герцен. Нет, следует.
Грановский. И откуда ты можешь об этом знать?
Герцен. Я – ниоткуда. Это вы с Тургеневым там были. А мне паспорта так и не дали. Я снова подал прошение.
Кетчер. По болезни?
Герцен (смеется). Из-за Коли… Мы с Натали хотим показать его самым лучшим врачам…
Огарев (оглядывается). Где Коля?..
Кетчер. Я сам врач. Он глухой. (Пожимает плечами.) Прости.
Огарев, не обращая внимания, уходит искать Колю.
Тургенев. Там не только одно мещанство. Единственное, что спасет Россию, – это западная культура, которую принесут сюда такие люди… как мы.
Кетчер. Нет, ее спасет Дух Истории, развертывающей перед нами будущее!
Герцен (давая выход своему гневу). Избавь меня от тщеславной мысли, будто мы все выполняем предназначение абстрактных существительных!
Кетчер. Ах, так это мое тщеславие?
Герцен (Грановскому). Я не смотрю на Францию со слезами умиленья. Мысль о том, что можно посидеть в кафе с Луи Бланом или Ледрю-Ролленом, что можно купить в киоске еще влажную от краски “Ла Реформ” и пройтись по площади Согласия, – эта мысль, признаюсь, радует меня как ребенка. Но Аксаков прав – я не знаю, что делать дальше. Куда нам плыть? У кого есть карта? Мы штудируем идеальные общества… вся власть экспертам, рабочим, философам… собственность – право, собственность – воровство, соревнование – зло, монополия – зло… центральное планирование, никакого планирования, свобода жить где вздумается, свободная любовь… И все это удивительно гармонично, справедливо и эффективно. Но единственный, главный вопрос – почему кто-то должен подчиняться кому-то другому?
Грановский. Потому что общество именно это и значит! Ты бы еще спросил, почему музыканты в оркестре должны играть вместе. А ведь они это делают, не будучи социалистами!
Тургенев. Это правда! Моя мать владеет оркестром в Спасском. Но я не могу понять, как она может владеть тамошними соловьями.
Герцен. Как заговоришь о России, сразу все путается. Между тем будущее нацарапано на фабричных стенах Парижа.
Грановский. Их будущее – возможно, но почему наше? У нас нет фабричных районов. Почему мы должны дожидаться, пока нас поработят наши собственные индустриальные готы? Все, что дорого нам в нашей цивилизации, они разобьют вдребезги на алтаре равенства… равенства бараков.
Герцен. Ты судишь о простых людях после того, как их превратили в зверей. Но по природе своей они достойны уважения. Я верю в них.
Грановский. Без веры во что-то высшее человек ничем не отличается от животного.
Герцен забывает сдержаться, и Грановский начинает отвечать ему в тон, пока между ними не начинается перепалка.
Герцен. Ты имеешь в виду – без суеверий.
Грановский. Суеверия? Так ты это называешь?
Герцен. Да, суеверия! Ханжеская и жалкая вера в нечто, существующее вовне. Или наверху. Или бог еще знает где, без чего человек не может обрести благородство.
Грановский. Без этого, как ты говоришь, “наверху”, все счеты будут сводиться здесь, “внизу”. В этом и есть вся правда о материализме.
Герцен. Как ты можешь, как ты смеешь отметать чувство собственного достоинства? Ты, человек, можешь сам решать, что хорошо, а что дурно, без оглядки на призрака. Ты же свободный человек, Грановский, другого рода людей не бывает.
Грановский. Между нами все кончено! Я уезжаю в Москву.
Натали (из-за сцены). Александр…
Быстро входит Натали. Она испугана. Ее расстройство поначалу неверно истолковано. Она бежит к Александру и обнимает его. В ее корзине немного грибов.
Грановский (обращается к Натали). С глубоким сожалением я должен покинуть дом, где меня…
Герцен (извиняющимся тоном). Мы тут чуть-чуть поспорили…
Натали. К нам пришел жандарм – я видела с поля.
Герцен. Жандарм?
Слуга выходит из дома, его обгоняет жандарм.
О Господи, снова… Натали, Натали…
Жандарм. Кто из вас господин Герцен?
Герцен. Я.
Жандарм. Вам велено прочитать это письмо. От его превосходительства графа Орлова. (Подает Герцену письмо.)
Герцен открывает конверт и читает письмо.
Натали (жандарму). Я поеду с ним.
Жандарм. Мне про это ничего не известно…
Грановский (Герцену, меняет тон). Прости меня…
Герцен обнимает Натали.
Герцен. Все в порядке. (Объявляет.) После двенадцати лет полицейского надзора и ссылок граф Орлов любезно уведомляет, что я могу подавать бумаги для поездки за границу!..
Остальные окружают его с облегчением и поздравлениями. Жандарм мнется. Натали выхватывает письмо.
Кетчер. Ты снова увидишься с Сазоновым.
Грановский. Он изменился.
Тургенев. И с Бакуниным…
Грановский. Этот, боюсь, все тот же.
Натали. “…Выехать за границу для лечения вашего сына Николая Александровича…”
Герцен (подхватывает и поднимает ее). Париж, Натали!
Ее корзинка падает, грибы рассыпаются.
Натали (плачет от радости). Коля!.. (Убегает.)
Грановский. Я все тебе прощаю.
Герцен. А я тебе. Где же Ник?
Жандарм. Стало быть, хорошие новости?
Герцен понимает намек и дает ему на чай. Жандарм уходит.
Натали (возвращается). Где Коля?
Герцен. Коля? Не знаю. А что?
Натали. Где же он? (Убегает, зовет его по имени.)(За сценой.) Коля! Коля!
Герцен (спешит за ней). Он же не может тебя услышать…
Тургенев выбегает за ними. Встревоженные Грановский и Кетчер уходят следом. После паузы, во время которой издали слышится голос Натали, наступает тишина.
Дальние раскаты грома.
Саша входит с другой стороны, оборачивается и смотрит назад. Выходит вперед и замечает рассыпанные грибы, поправляет корзинку.
Не торопясь входит Огарев. Он несет Сашину удочку и банку, оглядывается назад.
Огарев (зовет). Коля, идем!
Саша. Он же вас не слышит.
Огарев. Идем скорей!
Саша. Он не слышит.
Огарев идет назад навстречу Коле. Далекий гром.
Огарев. Вот видишь. Услышал. (Выходит.)
Саша начинает собирать грибы в корзинку.
Июль 1847 г.
Зальцбрунн, курортный городок в Германии.
Белинский и Тургенев снимают комнаты на первом этаже маленького деревянного дома на главной улице. Навес во дворе они используют как летнюю беседку.
Оба читают: Белинский – рассказ, а Тургенев – длинное письмо. Во время чтения время от времени отпивают минеральную воду из чашек с носиками. Белинскому 36 лет, жить ему осталось меньше года. Он бледен, лицо у него отечное. Рядом с ним стоит массивная трость, на которую он опирается при ходьбе. Белинский закашливается, разъяренно стучит палкой о землю. Кладет рукопись на стол. Тургенев пьет из чашки, морщась.
Белинский. Ну… что ты об этом думаешь?
Тургенев. Не могу поверить, что мы проделали весь этот путь, чтобы пить такую дрянь.
Тургенев кончает читать и отдает письмо Белинскому.
Белинский. Я имею в виду, что ты думаешь о моем письме Гоголю?
Тургенев. Ну… я не вижу в нем необходимости.
Белинский. Смотри, юнга, я тебя в угол поставлю.
Тургенев. Об этой книге ты уже сказал все, что хотел, в “Современнике”. Неужели это будущее литературной критики: сначала разгромная рецензия, потом обидное письмо автору?
Белинский. Цензура вырезала по крайней мере треть моей статьи. Но не в этом дело. Гоголь, очевидно, считает, что я разругал его книгу только оттого, что он в ней нападает на меня. Я не могу это так оставить. Он должен понять, что я воспринял его книгу как личное оскорбление с первой и до последней страницы! Я любил этого человека. Я его открыл. А теперь он сошел с ума – и этот проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия считает, что я разделал его под орех из-за глупой обиды. Его книга – преступление против человечества.
Тургенев. Нет, это всего лишь книга… Откровенно глупая книга, но зачем окончательно сводить его с ума? Ты бы его пожалел.
Белинский сердито ударяет палкой.
Белинский. Это слишком серьезно для жалости… В других странах каждый по мере сил старается способствовать улучшению нравов. А в России – никакого разделения труда. Литературе приходится справляться в одиночку. Это был тяжелый урок, юнга, но я его выучил. Когда я только начинал, мне казалось, что искусство бесцельно – чистая духовность. Я был молодой провинциальный задира с художественными воззрениями парижского денди.
Тургенев. Я не чистый дух, но и не наставник обществу. Нет уж, капитан! Люди жалуются, что у меня в рассказах нет моего собственного отношения. Читатель озадачен. С чем автор согласен, а что осуждает? Хочу ли я, чтобы они сочувствовали этому персонажу или тому? Кто виноват, что мужик пьет, – мы или он? Читатель хочет знать, какова моя позиция. Но какое это имеет к нему отношение? Разве я стану писать лучше, если отвечу? Какое это имеет отношение к чему бы то ни было? (Повышает голос.) И с чего ты на меня нападаешь? Ведь ты же знаешь, что я нездоров. То есть я не так нездоров, как ты. (Спешно.) Хотя ты поправишься, не волнуйся. Прости. Но раз уж я сижу в этом болоте, чтобы тебе не было скучно… (Белинский, который кашлял уже какое-то время, вдруг заходится в приступе. Тургенев бросается ему помочь.) Полегче, капитан! Полегче…
Белинский (приходит в себя). Непонятно, откуда у всех этих мест берется такая репутация. Всем же видно, что люди тут мрут как мухи.
Тургенев. Давай сбежим! Поедем со мной в Берлин. Знакомые уезжают в Лондон, я обещал их проводить.
Белинский. Я не люблю оперу… Ты поезжай.
Тургенев. Я не брошу тебя. (Пауза.) Или можем встретиться в Париже, когда я вернусь… Ты же не можешь вернуться домой, так и не увидев Парижа!
Белинский. Нет, наверное.
Тургенев. Тебе получше?
Белинский. Да. (Пьет воду.)
Пауза.
Тургенев. Ты ничего не сказал о моем рассказе.
Белинский. Я знаю. Ты будешь одним из наших великих писателей, одним из немногих. Я никогда не ошибаюсь.
Тургенев (тронут). А. (Легко.) Ты как-то объявил, что Фенимор Купер так же велик, как Шекспир.
Белинский. Это была не ошибка, а просто глупость.
Июль 1847 г.
Париж.
Тургенев и Белинский стоят на площади Согласия. Белинский мрачно осматривается.
Белинский. Герцен обосновался на авеню Мариньи. Завел себе люстру и лакея с серебряным подносом. Снег на его ботинках совсем растаял, как les neiges d’antan.
Тургенев (показывает). Вон тот обелиск поставили на месте, где была гильотина.
Белинский. Говорят, что площадь Согласия – самая красивая площадь на свете, так?
Тургенев. Так.
Белинский. Ну и отлично. Теперь я ее видел. Пойдем к тому магазину, где в витрине висел такой красно-белый халат.
Тургенев. Он дорогой.
Белинский. Я просто хочу посмотреть.
Тургенев. Ты уж прости, что… ну, сам знаешь… что приходится вот так уезжать в Лондон.
Белинский. Ничего. (Тяжело кашляет.)
Тургенев. Ты устал? Подожди здесь, я схожу за каретой.
Белинский. В таком халате я мог бы написать удивительные вещи.
Тургенев уходит.
Сентябрь 1847 г.
Белинскому лучше. На сцену опускается люстра. Белинский смотрит на нее.
Он поворачивается на звук голоса Герцена, в то время как сцена – комната – заполняется одновременно с разных сторон.
Тургенев разворачивает какой-то сверток.
У Натали – сумка с игрушками и книгами из магазина. Мадам Гааг, мать Герцена, которой за пятьдесят, присматривает за Сашей и Колей (которому четыре года). Саша “разговаривает” с Колей, повернувшись к нему лицом и говоря “Ко-ля, Ко-ля” с подчеркнутой артикуляцией. У Коли игрушечный волчок.
Георг Гервег, 30 лет, лежит на шезлонге, изображая романтическую усталость. Он красивый молодой человек с тонкими женственными чертами, несмотря на усы и бороду. Эмма, его жена, растирает ему лоб одеколоном. Она блондинка, скорее красивая, чем хорошенькая. Сазонов, несколько опустившийся господин 35 лет, изо всех сил старается всем помочь. Появляется няня и подходит к мадам Гааг и детям. Слуга – посыльный и лакей – прислуживает как официант.
Манера одеваться Герцена и Натали совершенно переменилась. Они превратились в настоящих парижан. У Герцена его прежде зачесанные назад волосы и “русская” борода теперь модно подстрижены.
В первой части этой сцены несколько разных разговоров происходят одновременно. Они по очереди “выдвигаются” на первый звуковой план, но продолжаются без перерывов.
Герцен. Ты все время смотришь на мою люстру…
Тургенев (о свертке). Можно посмотреть?..
Саша. Ко-ля… Ко-ля…
Герцен. Что-то есть в этой люстре такое…
Белинский. Да нет… я просто…
Герцен…что смущает всех моих русских друзей. Будто на ней написано: “Герцен – наш первый буржуа, достойный этого имени! Какая потеря для интеллигенции!”
Слуга по-аристократически уверенно предлагает матери поднос с закусками.
Слуга. Мадам… не желаете?
Мать. Нет…
Слуга. Разумеется. Может, попозже. (Предлагает поднос то одному, то другому, затем уходит.)
Натали. Виссарион, посмотрите… посмотрите же, что за игрушки я купила…
Саша. Можно мне посмотреть?
Мать. Это не тебе, у тебя довольно своих, даже чересчур. (Она задерживает Натали.)
(Расстроенно). Я никак не могу привыкнуть к манерам вашего слуги.
Натали. Жана-Мари? Но, бабушка, ведь у него чудные манеры.
Мать. Вот именно. Он ведет себя как равный. Он вступает в разговор…
Тургенев развернул шикарный шелковый халат с крупным красным узором на белом фоне. Надевает его.
Тургенев. М-да… да, очень мило. Вот так думаешь, будто знаешь человека, а потом оказывается, что нет.
Белинский (смущен). Когда я говорил, что Париж – это трясина мещанства и пошлости, то я имел в виду все, кроме моего халата.
Натали. Красивый халат. Вы хорошо сделали, что его купили. (Показывает свои покупки.) Смотрите – вы же не можете вернуться домой без подарков для дочери…
Белинский. Спасибо…
Саша. Коля, смотри…
Натали. Оставь! Подите в детскую… (Няне.) Prenez les enfants[28]28
Уведите детей (фр.).
[Закрыть].
Саша (Белинскому). Это все девчачьи вещи.
Белинский. Да… У меня тоже был мальчик, но он умер совсем маленьким.
Мать. Пойдем, милый, пойдем к Тате… Пойдем, Саша… такой большой мальчик, а хочешь все время играть…
Герцен. О, maman, дайте же ему побыть ребенком.
Тургенев снимает халат. Натали берет его и сворачивает.
Натали (Тургеневу). Вы были в Лондоне?
Тургенев. Всего неделю.
Натали. Не будьте таким таинственным.
Тургенев. Я? Нет. Мои друзья, семья Виардо…
Натали. Вы ездили, чтобы послушать, как поет Полина Виардо?
Тургенев. Я хотел посмотреть Лондон.
Натали (смеется). Ну и какой он, Лондон?
Тургенев. Туманный. На улицах полно бульдогов…
Между тем мать, Саша, Коля и няня идут к выходу. Коля оставляет волчок в комнате.
Навстречу им входит Бакунин. Ему 35 лет, у него блестяще-богемный вид. Он здоровается с матерью, целует детей и берет себе бокал с подноса у слуги.
Бакунин. Русские пришли!
Герцен. Бакунин!
Бакунин (целует руку Натали). Натали.
Герцен. Кто с тобой, Бакунин?
Бакунин. Там Анненков и Боткин. Мы не отпустили нашу коляску, и они пошли еще за двумя.
Натали. Отлично. Поедем все вместе на вокзал провожать Виссариона.
Бакунин. Сазонов! Mon frère![29]29
Мой брат! (фр.)
[Закрыть] (Конфиденциально.) Зеленая канарейка пролетит сегодня вечером. В десять часов. Место как обычно – передай другим.
Сазонов. Я же тебе это и сказал.
Бакунин (Георгу и Эмме). Я был уверен, что Георг здесь. Eau de Cologne – кёльнской водой пахнет даже перед домом. Тургенев! (Увлекает Тургенева в сторону.) В последний раз, я больше тебя никогда ни о чем не попрошу.
Тургенев. Нет.
Белинский. Нам не пора?
Герцен. У нас еще много времени.
Бакунин. Белинский! Герцен считает, что твое письмо к Гоголю – гениально. Он называет его твоим завещанием.
Белинский. Звучит не очень обнадеживающе.
Бакунин. Послушай, ну зачем тебе возвращаться в Россию? У жандармов уже готова камера для тебя.
Натали. Прекрати!
Бакунин. Перевози жену и дочь в Париж. Только подумай – печататься без цензуры!
Белинский. Этого достаточно, чтобы отказаться.
Бакунин. О чем ты говоришь? Ты бы смог здесь опубликовать свое письмо Гоголю, и все бы его прочли.
Белинский. Здесь оно бы ничего не значило… в пустом звоне наемных писак и знаменитых имен… заполняющих газеты каждый день блеянием, ревом и хрюканием… Это такой зоопарк, в котором тюлени бросают рыбу публике. Тут всем все равно. У нас на писателей смотрят как на вождей. У нас звание поэта или писателя чего-то стоит. Мои статьи режет цензор, но уже за неделю до выхода “Современника” студенты крутятся около книжной лавки Смирдина, выспрашивая, не привезли ли еще тираж… А потом полночи спорят о нем, передавая журнал из рук в руки…Здешним писателям кажется, что у них есть успех. Они не знают, что такое успех. Для этого нужно быть писателем в России… Да если бы здешние писатели знали, они бы уже паковали чемоданы в Москву или Петербург.
Его слова встречены молчанием. Затем Бакунин обнимает его. Герцен, утирая глаза, делает то же самое.
Эмма. Sprecht Deutsch bitte![30]30
Говорите по-немецки, пожалуйста! (нем.)
[Закрыть]
Герцен, по-прежнему растроганный, поднимает бокал. Все русские в комнате серьезно поднимают бокалы вслед за ним.
Герцен. За Россию, которую мы знаем. А они – нет. Но они узнают.
Русские выпивают.
Бакунин. И ведь не попрощался, когда уезжал.
Белинский. Мы тогда не разговаривали.
Бакунин. Ах, философия! Вот было время!
Натали (Белинскому). Ну хорошо, а жене что?
Белинский. Батистовые носовые платки.
Натали. Не слишком романтично.
Белинский. Она у меня не слишком романтичная.
Натали. Как не стыдно!
Белинский. Она учительница.
Натали. При чем здесь это?
Белинский. Ни при чем.
Бакунин (Белинскому). Ладно, скоро увидимся в Петербурге.
Герцен. Как же ты вернешься? Ведь тебя заочно приговорили за то, что ты не вернулся, когда они тебя вызывали.
Бакунин. Ты забываешь о революции.
Герцен. О какой революции?
Бакунин. О русской революции.
Герцен. А, прости, я еще не видел сегодняшних газет.
Бакунин. Царь и иже с ним исчезнут через год, в крайнем случае – через два.
Сазонов (взволнованно). Мы были детьми декабристов. (Герцену.) Когда тебя арестовали, они чудом не заметили меня и Кетчера.
Герцен. Это все несерьезно. Сначала должна произойти европейская революция, а ее пока не видно. Оппозиция не верит в себя. Шесть месяцев назад, встречаясь в кафе с Ледрю-Ролленом или Луи Бланом, я чувствовал себя кадетом рядом с ветеранами. Их снисходительное отношение к России казалось абсолютно естественным. Что мы могли предложить? Статьи Белинского да исторические лекции Грановского. Но здешние радикалы только тем и занимаются, что сочиняют заголовки для завтрашних газет в надежде на то, что кто-то другой совершит что-то достойное их заголовков. Зато лучше всех знают, что хорошо для нас. Добродетель по указу. Новые тюрьмы из камней Бастилии. На свете нет страны, которая, пролив за свободу столько крови, смыслила бы в ней так мало. Я уезжаю в Италию.
Бакунин (возбужденно). Забудь ты о французах. Польская независимость – вот единственная революционная искра в Европе. Я прожил здесь шесть лет, я знаю, что говорю. Между прочим, я бы купил сотню винтовок, оплата наличными.
Сазонов шикает на него. Входит слуга. Он что-то шепчет Бакунину.
Извозчик не может больше ждать. Одолжишь мне пять франков?
Герцен. Нет. Нужно было идти пешком.
Тургенев. Я заплачу. (Дает пять франков слуге, который уходит.)
Белинский. Не пора еще?
Сазонов (Белинскому). Жаль. С твоими способностями ты бы многое мог сделать, вместо того чтобы терять время в России.
Герцен. (Сазонову). Скажи на милость, а что сделали вы все? Или ты думаешь, что сидеть целый день в кафе “Ламблэн”, обсуждая границы Польши, – это и есть дело?
Сазонов. Погоди, погоди, ты забываешь наше положение.
Герцен. Какое еще положение? Вы свободно живете здесь годами, изображаете из себя государственных деятелей в оппозиции и зовете друг друга розовыми попугайчиками…
Сазонов (в бешенстве). Кто тебе проговорился о наших подпольных…
Герцен. Ты.
Сазонов (в слезах). Я знал, что мне ничего нельзя доверить!
Эмма. Parlez français, s’il vous plaît![31]31
Говорите по-французски, пожалуйста! (фр.)
[Закрыть]
Бакунин (в знак поддержки обнимает Сазонова). Я тебе доверяю.
Натали. С Георгом все в порядке?
Герцен. В жизни не видел человека, который был бы в большем порядке.
Натали идет к Георгу и Эмме.
Бакунин (Герцену). Не заблуждайся насчет Георга Гервега. Его выслали из Саксонии за политическую деятельность.
Герцен. Деятельность? У Георга?
Бакунин. Кроме того, у него имеется то, что требуется каждому революционеру, – богатая жена. Больше того, она ради него на все готова. Однажды я наблюдал, как Маркс битый час объяснял Георгу экономические отношения, а Эмма все это время массировала его ступни.
Герцен. Ступни Маркса?
Бакунин. Нет, Георга. Он сказал, что у него замерзли ноги… Кажется, другие части тела ему согревает графиня д’Агу.
Натали (Эмме). Continuez, continuez …
Герцен (оскорбленно). Я не позволю перемывать кости моим друзьям в моем доме… к тому же ты не знаешь, правда ли это.
Бакунин (смеется). Тут ты прав – возможно, он просто хвастается.
Эмма продолжает массировать Георгу лоб.
Натали (возвращаясь). Вот что такое настоящая любовь!
Бакунин. Любовь – великая тайна, и привилегия женщины – быть жрицей священного пламени.
Герцен. Ты упрекаешь меня, что я не позволяю нянчить себя, как ребенка?
Натали. Никакой это не упрек, Александр. Я просто говорю, что на это приятно смотреть.
Герцен. На что приятно смотреть? На ипохондрию Георга?
Натали. Нет… на женскую любовь, преодолевшую эгоизм.
Герцен. Любовь без эгоизма отбирает у женщин равенство и независимость, не говоря уж о других… возможностях удовлетворения.
Бакунин. Он прав, мадам!
Герцен. Но ты же только что утверждал обратное!
Бакунин (без тени смущения). И в этом он прав!
Георг. Emma, Emma…
Эмма. Was ist denn, mein Herz?[32]32
Что, мой драгоценный? (нем.)
[Закрыть]
Георг. Weiss ich nicht… Warum machst du nicht weiter?[33]33
Не знаю… Почему ты остановилась? (нем.)
[Закрыть]
Эмма снова начинает массировать Георгу лоб.
Натали (понизив голос, обращаясь только к Герцену). Это бездушно так говорить.
Герцен. Мне нравится Георг, но на его месте я бы чувствовал себя дико.
Натали (сердито). Идеальная любовь не предполагает отсутствие… Или ты это и хотел сказать?
Герцен. Что именно?
Натали. Это возмутительно намекать, будто Георг неспособен… удовлетворить женщину.
Герцен (уколот). Наверняка способен – говорят, она графиня.
Натали. Понятно. Ну, если это всего лишь графиня…
Она внезапно выходит из комнаты, оставляя Герцена в недоумении. Белинский стоит на коленях на полу над одной из купленных игрушек, головоломкой из плоских деревянных фигурок. Бакунин громко просит внимания.
Бакунин. Друзья мои! Товарищи! Предлагаю тост. Свобода каждого – это равенство для всех!
Происходит слабая принужденная попытка повторить его слова и присоединиться к тосту.
Герцен. Что это значит? Это же бессмыслица!
Бакунин. Я не могу быть свободен, если ты несвободен!
Герцен. Чепуха. Ты был свободен, когда меня посадили. Я привязан к тебе, Бакунин. Меня забавляет гром, нет, скорее громыхание твоих изречений. Ты заработал себе европейскую славу революционными речитативами, из которых невозможно извлечь ни грамма смысла, не говоря о политической идее или тем более о руководстве к действию. Свобода – это когда у тебя есть паспорт. Свобода – это когда у себя в ванне я могу петь настолько громко, насколько это не мешает моему соседу распевать другую мелодию у себя. Но главное, чтобы мой сосед и я были вольны идти или не идти в революционную оперу, в государственный оркестр или в Комитет Общественной Гармонии…
Тургенев. Это ведь метафора, да?
Герцен. Необязательно.
Сазонов. Противоречия между личной свободой и долгом перед коллективом не существует…
Герцен. Неужели?
Сазонов…потому что быть частью коллектива в интересах каждого индивидуума!
Герцен. Мы все этого не заметили. Платон, Руссо, я…
Бакунин. Это ошибка – сначала думать, а потом действовать. Начни с действия. Идеи потом придут. Сначала нужно все разрушить.
Герцен. Белинский, спаси меня от этого безумия!
Бакунин. Разрушение – это творческая страсть!
Белинский. Никак не могу сложить из кусочков квадрат. Детская головоломка, а у меня не получается…
Тургенев. Может быть, это круг.
Коля входит в поисках своего волчка. Натали входит и поспешно идет к Герцену, чтобы помириться.
Натали. Александр…
Герцен обнимает ее.
Георг. Mir geht es besser[34]34
Мне лучше (нем.).
[Закрыть].
Белинский. А Тургенев прав…
Эмма. Georg geht es besser[35]35
Георг чувствует себя лучше (нем.).
[Закрыть].
Нижеследующие диалоги написаны для того, чтобы “потеряться” в гуле общего говора. Они произносятся одновременно, создавая общий шум.
Белинский. Наша беда – в феодализме и крепостничестве. Что нам до этих теоретических построений? Мы слишком большие и отсталые!
Тургенев (Белинскому). Поместье моей матери в десять раз больше коммуны Фурье.
Белинский. Меня тошнит от утопий. Я не могу больше о них слышать.
Бакунин (одновременно с предыдущим диалогом). Поляки должны быть заодно со всеми славянами. Национализм – вот единственное движение, достигшее революционного накала. Все славянские народы должны восстать! Дай мне закончить! Есть три необходимых условия: раздел Австрийской империи, политизация крестьянства, организация рабочего класса!
Сазонов (говорит одновременно с Бакуниным и поверх его голоса). Некоторые поляки считают, что ты царский агент. Французы презирают немцев. Немцы не доверяют французам. Австрийцы не могут договориться с итальянцами. Итальянцы не могут договориться между собой… Зато все вместе ненавидят русских.
Одновременно с этим входит слуга, чтобы обратиться к Герцену.
Герцен (Георгу). Du riechst wie eine ganze Parfumerie[36]36
Ты благоухаешь, как целая парфюмерная лавка (нем.).
[Закрыть].
Георг. Wir haben der Welt Eau de Cologne und Goethe geschenkt[37]37
Мы подарили миру одеколон и Гёте (нем.).
[Закрыть].
Слуга (Герцену). Il y a deux messieurs en bas, Monsieur le Baron, qui retiennent deux fiacres[38]38
Там внизу два господина, барон, с двумя экипажами (фр.).
[Закрыть].
Герцен (слуге). Allez les aider à descendre leurs bagages[39]39
Помогите, пожалуйста, с чемоданами (фр.).
[Закрыть].
Слуга. Hélas, c’est mon moment de repos – c’est l’heure du café[40]40
К сожалению, сейчас у меня перерыв, я собираюсь в кафе (фр.).
[Закрыть].
Герцен. Bien. C’est entendu[41]41
Конечно. Мы же условились (фр.).
[Закрыть].
Слуга. Merci, Monsieur le Baron[42]42
Благодарю вас, господин барон (фр.).
[Закрыть].
Натали (перекрывая предыдущие слова). И Гейне!
Слуга уходит.
Эмма. Und Herwegh![43]43
И Гервега! (нем.)
[Закрыть]
Натали. Да! Да!
Эмма. Du bist so bescheiden und grosszüegig. Schreibst du bald ein neues Gedicht?[44]44
Ты так скромен и благороден. Скоро ли напишешь новую поэму? (нем.)
[Закрыть]
Георг. Ich hasse solche Fragen![45]45
Я ненавижу, когда ты меня об этом спрашиваешь! (нем.)
[Закрыть]
Эмма. Verzeih mir – sonst weine ich[46]46
Прости – а то я заплачу (нем.).
[Закрыть].
Все предыдущие разговоры “продолжаются”, но становятся беззвучны в один и тот же момент. Все внимание сфокусировано на Коле, который сидит на полу и играет с волчком.
Герцен наконец перебивает Тургенева и Белинского [смотри повторение этой сцены в конце первого действия], давая сигнал к общему выходу, по-прежнему в молчании.
Тургенев и Сазонов несут саквояж и свертки Белинского. Сверток с халатом случайно забывают.
Коля остается один.
В отдалении гремит гром, которого Коля не слышит. Затем раскат грома ближе. Коля оглядывается, чувствуя что-то.
Слышен усиливающийся грохот оружейной пальбы, крики, пение, барабанный бой… и звук женского голоса – знаменитая актриса Рашель поет “Марсельезу”.
Красные знамена и трехцветный французский флаг.
Входит Натали, подхватывает Колю и уносит его.
[Монархия Луи-Филиппа пала 24 февраля 1848 года.]
Март 1848 г.
На улице (площадь Согласия).
[В мемуарах Герцена: “Это были самые счастливые дни в жизни Бакунина”.]
Бакунин размахивает огромным красным флагом. Он только что встретил Карла Маркса, 30 лет. Маркс держит книжку в желтой обложке, “Коммунистический манифест”. Тургенев оглядывается в изумлении.
Бакунин. Маркс! Кто бы мог подумать?!
Маркс. Это должно было произойти. Я этого ждал.
Бакунин. Что же ты мне не сказал? Всю жизнь мы теперь будем вспоминать, где мы были, когда Франция снова стала республикой.
Маркс. Я был в Брюсселе. Ждал, когда напечатают первый тираж “Коммунистического манифеста”…
Бакунин. Я тоже был в Брюсселе. Ждал, когда выйдет свежий номер “Ла Реформ” с моим открытым письмом французскому правительству…
Тургенев. Нет, это я был в Брюсселе! Слушал “Севильского цирюльника”… Можно взглянуть?
Маркс дает ему книгу.
Бакунин. Я живу в казармах республиканской гвардии. Вы не поверите, я в первый раз в жизни встретился с пролетариями.
Маркс. Правда? И на что они похожи?
Бакунин. Никогда не встречал такого благородства.
Тургенев (читает по-немецки). “Ein Spektrum verfolgt Europa … бродит по Европе – das Spektrum des Kommunismus” [Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма].
Бакунин. Я на ногах по двадцать часов в день – проповедую бунт и разрушение…
Маркс. Префект полиции сказал, что, наберись три сотни таких, как ты… и Франция будет неуправляема.
Бакунин. В прусской Польше уже основан Польский национальный комитет для подготовки вторжения в Россию. Я должен быть там. Тургенев, я больше тебя никогда ни о чем не попрошу…
Тургенев. Попроси министра финансов.
Бакунин. Ты думаешь, Временное правительство даст мне денег на поездку в Польшу?
Тургенев. Наверняка.
Маркс (Тургеневу). Вот вы писатель. Вам не кажется, что “призрак коммунизма” звучит нескладно? Мне не хотелось бы, чтобы подумали, будто коммунизм мертв.
Входит Гервег в красно-черно-золотой военной форме, которая слегка напоминает костюм из комической оперы.
Маркс (Тургеневу). Вы знаете английский?
Тургенев. Довольно прилично.
Маркс. Вы могли бы перевести.
Тургенев. Посмотрим… “A ghost… a phantom is haunting Europe…”
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.