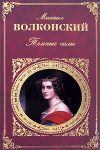Текст книги "Реинкарнация. Авантюрно-медицинские повести"
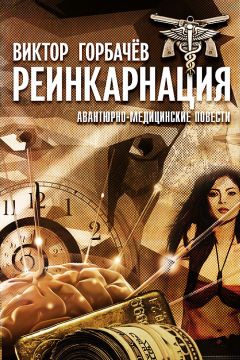
Автор книги: Виктор Горбачев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Реинкарнация
Жить надо дольше. И чаще.
Казимеж Слонимьский
К началу цепи инкарнаций
всегда прикована обезьяна…
Бернард Шоу
К новому сезону поиска по местам боевой славы Григорий Тимофеевич начинал готовиться сразу же, как утрясалась первосентябрьская кутерьма. Историк по образованию, директор не последней школы в Калуге, краелюб в душе, по натуре своей он вообще предпочитал активный образ жизни. Рыбалка, дача, гараж-компания, машина, женщины – полный набор джентльмена губернского масштаба.
Таки в калужской земле есть что поискать. Всякие наполеоны по ней туда-сюда топали-драпали. Дальние рубежи обороны Москвы, знаете ли…
Поисковая работа, правда, держится исключительно на таких энтузиастах, как Григорий Тимофеевич. У властей всё как-то руки не доходят – бесприбыльное это дело… Поглощалось изрядное количество шашлыков, выпивались немалые объёмы алкоголя, прежде чем ему удавалось раздобыть у военных и гражданских добряков к новому сезону крупу, муку, сахар, лопаты, форму, палатки и разное другое снаряжение. Не оттого ли и сердчишко стало пошаливать…
Как бы то ни было, но к концу учебного года отряд отобранных бойцов-старшеклассников, разбавленный отъявленными шалопаями и усиленный взрослыми добровольцами, в основном из числа приятелей Григория Тимофеевича, на военкоматовских и собственных машинах забрасывался в калужскую глухомань, на берега красавицы Жиздры.
После чернобыльской неприятности район был объявлен пострадавшим и безлюдел на глазах. Молодёжь и без того-то не находила себя в этой своей малой безнадёге…
Оставшиеся аборигены поисковиков ждали, потому как Григорий Тимофеевич всякий раз осыпал их нехитрыми подарками. Да и, вообще, жить на время становилось веселей.
В этот же сезон округа гудела ещё и от веселья собственного разлива. А то… Дивные дела приключились в селе за время его отсутствия…
Тракторист Генька – он всегда настаивал: Геня – носился по пыльным дорогам на груде металлолома, бывшей некогда колёсным многоцелевым трактором «Беларусь». Честь и слава белорусским тракторостроителям и особый почёт самому Геньке за то, что этот страдалец в насквозь невыносимых условиях столько лет ещё и работает. Нет выбора…
Не всякая курица успевала выскочить из-под колёс этого землисто-маслянистого цвета монстра, за треснутый руль которого отчаянно цеплялся трясущийся в бездверной кабине Генька…
Болтающиеся спереди на проводах остатки фар будто бы худыми руками махали беспечным ротозеям: «Па-аберегись, твою мать!»
Селяне Геньку любили. Беззлобный баламут, за нехитрый гонорар и дровишек подкинет, и сенца подвезёт…
Вот в качестве гонорара-то некий признательный земляк и одарил его непонятной, запечатанной бочкой, усеянной странными значками и надписями не по-нашему. Тебе, дескать, сподручней куда-нибудь её приспособить…
Обнаруженная в бочке жидкость, однако, на солярку походила мало, и дальновидный Генька не решился травить кормильца не поймёшь чем…
В аккурат на Пасху – работать грех! – на просохшем пригорке за Генькиным домом имел место быть научный консилиум. Специалисты очень широких сельских профилей выдвигали всякие гипотезы и предложения, от стопки к стопке становящиеся всё смелей…
«О, гляди, блядь, горит, краску растворяет и пахнет “Старкой”, я те говорю, пить можно!» – горячился суетливый Микола.
«Нас, – говорил он, – три брата, и всех бабка на букву “М” назвала: Микола, Митрий и Микита!»
Каменщик от Бога и прочих строительных дел спец, квалификацию свою оценивал так: «Нету, бля, стока водки, после которой я кирпичный угол без бечевы в идеале не выведу!»
«Ну, написано не по-нашему… Но череп-то с костями по-нашему нарисован! Яд это, факт!» – догадливый сварщик Федя где-то этот знак уже встречал.
«А давай уткам в корыто плеснём – увидим!»
Плеснули… Утки от возмущения подняли жуткий гвалт и с презрением отошли от кормушки.
«Во, бля, вишь, скотину не проведёшь!»
Федя был вполне удовлетворён сей доказательной базой эксперимента. Несмываемо прокопченное Федино лицо и руки однозначно убеждали в превалирующей цветовой гамме фасадов и интерьера его мастерской…
«Я, надысь, племяша посылал почитать, что на ней написано, – включился в научный спор Мефодич, степенный бригадир полеводов. – Час вокруг бочки сопел, пришёл – не английский, говорит, это. А какой? Плечами пожимает…»
«Да он у тебя, Мефодич, видать, двоечник. А тут, похоже, надо отличника», – у шофёра Лёхи благоговейное отношение к отличникам осталось со школы на всю жизнь. Поэтому с детей своих грамоту спрашивал строго, вдобавок ко всему в принудительном порядке определил их и в музыкальную школу.
«Верка-а-а!» – прожевав и обтерев губы ладонью, во всю мочь вдруг заорал Лёха.
«Чево-о-о?!» – где-то через пару дворов пропищал в ответ тонюсенький голос. В праздничной деревенской тишине только и было слышно, что уток, грачей да вечно всем недовольного дурного пса Бакса.
«Подь сюды, до Геньки… А, ну, доча, глянь, что тут написано…»
Старательная, белобрысая, худющая Вера для своих тринадцати лет, по мнению родни и соседей, имела вполне городской кругозор, во многом благодаря посещению музыкальной школы. Она уже и забыла обиды по поводу того, что хотела скрипку, а её посадили за аккордеон. Шутка сказать – месячная зарплата отца…
Пошевелив тонкими губами и поприседав вокруг стоящей под навесом стальной, свинцового цвета бочки Верка вынесла вердикт: «Гер-ма-ни… Немецкая то есть…»
«А что в ней-то?!»
«Не проходили мы таких слов!»
«А слово “шнапс” там нигде не обнаруживается?» – с исчезающей надеждой спросил Федя.
«Не обнаруживается!» – по тому, как Верка презрительно поджала синюшные губы, понятно было, что такое слово они проходили…
Возможности научного поиска, кажется, иссякали на глазах…
«А, ну, Мефодич, нацеди мензурку, я щас, – Генька решительно метнулся в хату. – Во, марганцовкой чистить будем!»
Это был принципиально переломный момент дискуссии. По технологии очистки содержимое бочки тем самым приравнивалось к самогону.
Что вы думаете?! Разболтанная в пластиковой бутылке марганцовка дала знакомую реакцию в виде оседающих на дно мелких бурых хлопьев.
«А?!»
«А-а-а!»
Глаза исследователей заметно повеселели. В воздухе запахло победой разума…
Ещё была надежда, что дискуссия ограничится теоретической частью, если бы молчавший до поры немногословный скотник Жора не взял решительно маленькую гранёную, истёртую стопку.
«Доливай!» – сказал пытливый Жора, наполнив стопку наполовину почти прозрачным первачом.
Компаньоны переглянулись, но Жорину смекалку быстро и молча заценили и подставленную стопку долили немецкой жидкостью из пластиковой бутылки.
«Ху!» – Жора по привычке выгнал из лёгких воздух и залпом опрокинул стопку.
Дружбаны с большим любопытством и пониманием терпеливо наблюдали, как Жора с выпученными глазами смачно хрустел солёным огурцом, с шумом втягивая воздух через оттопыренные, побелевшие ноздри.
Жора дожевал огурец, поводил языком по зубам, не спеша полез в карман выходной псевдокожаной куртки… Его явно грел момент славы…
«Ну?!» – изнемогали от любопытства и нетерпения приятели.
«Чо?!»
«А ничо! Через плечо!» – захватив аудиторию, Жора не на шутку разговорился.
«Да зашибись!» – Жора откинулся на спину, купаясь в лучах славы, весеннего солнца и сигаретном дыму.
«Ишшо надоть погодить… – резонно заявил живший поболе молодёжи Мефодич. – Георгий! Ты, пожалуйста, поменьше выёживайся, а побольше нам докладывай о самочувствии, пока мы тебе в честь праздника пиздюлей не наваляли!»
«Пять минут… Полёт нормальный…» – Генька от нетерпения пытался оправдать свои действия, повторяя Жоркин манёвр. Окунул, как кот, язык в стопку, посмаковал, закатив глаза… Тоже сказал «Ху!», и тоже залпом…
Опять все замерли…
Жора меж тем щелчком отбросил окурок, сел и вдруг, оскалившись страшными жёлтыми зубами, неожиданно заорал: «А-а-а!», пытаясь при этом вцепиться в Федино горло.
«Да что ж такое!» – приятели загалдели, засуетились, поспешно делая и себе аналогичные коктейли. Наши, мол, уже гуляют, а у нас ни в одном глазу…
Подровняв ситуацию коллективным залпом, дружно закурили.
Пошли нескончаемые истории про то, как кто, когда и что несусветное пил, и, что характерно, ни хрена!
Прошла Пасха, потом Первомай, потом День Победы, потом посевная…
Мужики безоглядно глушили немецкое пойло, иные уже без всякого разбавления. Круг бочкиных почитателей заметно расширился…
По мозгам било прилично, последствия проистекали своим обычным путём…
Уклонения от нормы начались, когда цедить из бочки уже приходилось, сильно её наклонив.
В выходной день Лёха возлежал после бани на диване. От объятий Морфея его удерживала какая-то бразильская муть по телевизору да громкая, занудная игра на аккордеоне в комнате Веры.
«Верка! Не тем пальцем стучишь в одном месте!» – вдруг заорал Лёха, стараясь перекричать Веркину и бразильскую музыку.
Верка на секунду умолкла, потом, видимо, подумав, что послышалось, продолжила игру.
«Верка! Я кому говорю, не тем пальцем давишь!»
Игра прекратилась.
«Че-е-во?!» – вышла из комнаты беременная аккордеоном Вера.
«Последи за пальцами, чево! Они же у тебя друг за дружку цепляются во многих тестах!»
Верка остолбенела… Играть не умеет, сидит в другой комнате и какие-то пальцы разглядел…
«Ты чё, па?! Перебрал или запарился?!»
«Я те говорю, пальцами правильно перебирай, как учили! Запарился!»
«Ну, на, покажи, как…» – Вера явно спешила покончить с нелепым разговором.
«И покажу!» – Лёха решительно стянул с Веркиного живота инструмент, уселся на диван, неожиданно ловко приспособив его себе на грудь.
Беспорядочно и вроде бы беспомощно пробежал непослушными пальцами по клавишам вверх-вниз… Раз, другой, третий – так делают долго скучавшие по клавишам пальцы мастера. Щёлкнув пару раз регистрами, прислушался и, как бы вспомнив былые навыки, вдруг уверенно заиграл Веркину мелодию…
Вера открыла рот и выкатила глаза. Аранжировка учебной мелодии была явно мастерской, в концертном варианте. Но отец! Откуда… Сроду никакой инструмент в руках не держал!
«Да ты чё, фатер, творишь?! Ты где так насобачился-то?!»
А Лёха меж тем наяривал вообще уже нечто невообразимое… Заскорузлые шофёрские пальцы летали по клавишам, выдавая из инструмента совсем уж нечто классическое.
Заслышав иную, отличную от Веркиной тоскливой игру, в дверном проёме показалась голова Лёхиной жены Шуры. Узрев такую небывальщину, Шура подошла к дочери с тем же выражением лица, как и у той…
«Мама дорогая… Это что ж такое делается?!»
А Лёха их не замечал вовсе. Его сосредоточенный взгляд был направлен в какую-то точку на противоположной стене, откуда он, казалось, тянул незаметную нить памяти…
На другом конце той нити был другой мир, где он был совсем другим человеком, и у него была совсем другая жизнь, куда более радостная, чем теперь, наполненная этой прекрасной музыкой…
Игра настолько поглотила Лёху, что лицо его невольно и незаметно стало, как в киноленте, прокручивать кадры-годы той счастливой жизни…
Героические аккорды сменялись тревожными, потом мелодия журчала как хрустальный альпийский ручей, потом явно узнавались воинственные песни чужого народа, потом будто радостное раздумье…
«Чего рты-то пораззявили?! Заняться больше нечем?!»
Нить памяти, как отпущенная резинка, с последним аккордом, щёлкнув, исчезла в стене…
«Фатер, растолмачь нам что-нибудь! Was ist das?! (Что это?)»
А Лёхе ситуация даже нравилась, поэтому он быстро хотел сначала убедить сам себя.
«Das ist mёglich! (Это возможно)
«Ёпть!» Как-то сам собой из него немецкий попёр…
«Ну, знаете ли… Бывает такое… В человеке вдруг просыпаются дремавшие до поры навыки и умения… Текучка заедает, то да сё… Дело случая и стечения обстоятельств…»
Опомнился не без страха, в смущении перешёл на родной язык…
Таких слов и оборотов и на родном-то языке ни Шура, ни Вера никогда от него не слышали. А уж из школьного немецкого он и вовсе кроме «Хенде хох» ничего не вынес…
Лёха и сам теперь подрастерялся. Ну, дремавшие способности к музыке ещё куда ни шло. Но в мозгу его крутились теперь мысли на немецком языке… А русские слова и обороты он теперь подбирал с трудом…
«Во влип…»
«Лёнь, может к врачу…» – в глазах жены неподдельный испуг.
«Врач… Болезнь… Какая болезнь?! Он себя прекрасно чувствует!»
«Всё путём, красотулечки мои, bitte schёn…»
Он снял аккордеон, шагнул к ним, хотел обнять, но при словах «bitte schёn» Шура с Веркой почему-то перепугались, взвизгнули и, толкая друг друга, ринулись к выходу…
После обеда внутренний голос заинтригованного Лёхи настойчиво направил его к Генькиному дому.
«Да, нету его дома, – в сердцах откликнулась мать Геньки. – Опять пошёл свои травы собирать. Совсем рёхнулся! Был парень как парень, а теперь как бабка-ворожея стал. Кажин день шлындыет по лесу, всё какие-то корешки целебные ищет. И так все сенцы и чердак завалил. Во беда-то! Ты бы поговорил с ним, Лёх! Он скоро уж придтить должён…»
Лёха сел на лавочке возле дома, закурил… К такому Генькиному чудачеству он, странное дело, отнёсся с пониманием. Правота гомеопатии и траволечения подтверждена тысячелетиями… Но где та гомеопатия и где тот Генька… С каких бодунов-то?!
Аналогия с его внезапным музыкальным талантом стукнула по мозгам быстро, резко и убедительно… Неужто немецкое пойло из бочки?!
Дожидаться Геньку не имело смысла, и он быстрым шагом направился к Миколе за подтверждением.
Едва он закрыл за собой калитку Миколиного забора, как его прошиб холодный пот. В дальнем конце огорода, примыкающего к опушке леса, стоял Микола и… рисовал.
Ватными ногами с шумом в ушах Лёха подошёл к нему… Всё правильно: мольберт, краски, кисти… и Микола…
«И давно это с тобой?» – Лёха кивнул на мольберт.
«Что? А… это… Не, с неделю. По телеку фильм был про европейскую архитектуру средних веков. Ты знаешь, зацепило. Во, смотри», – он подошёл ближе к мольберту.
Приколотые открытки, наброски какого-то собора…
«Это же готика! Смотри, какая красота! Построить такой мне уже не удастся, так я решил нарисовать и дома повесить, чтобы каждый день любоваться. Веришь, гляну на эту строгость линий, дух захватывает и жить хочется!»
«А я, Микола, оказывается, на аккордеоне прилично играю… А Генька, прикинь, целебные травы и корешки по полям и лесам собирает. Мать уж несколько дней в трансе. Тебе какие мысли в голову приходят? А, Микола?»
В просветлённом Миколином мозгу мысли стали шевелиться явно быстрее. Внезапно он вытер тряпкой руки, снял передник, решительно бросил:
«Айда к Федьке!»
Прокопчёный насквозь сварщик Федя… лепил на кухне пельмени. В лихой бандане, с передником, руки по локоть в муке… А сам – аж светится от удовольствия.
«Вы что там с ним сделали?! – из зала вышла жена Фёдора. – Уж третий день к кухне не подпускает! Не женское, говорит, это дело! Совсем чокнулся! И всё мудрит что-то… По старинным рецептам, говорит… Но вкусно!»
«Други мои! Через четверть часа будем вкушать равиоли!»
У Фёдора аж профессиональная сутулость сварщика исчезла. Наоборот, голова сидит гордо, глаза сияют и сам весь какой-то просветлённый – не от муки… Уж больно сильная метоморфоза…
«Федюня! А я рисовать возлюбил! А Лёха на аккордеоне наяривает! А Генька, прикинь, народным целителем заделался…»
Несколько мгновений приятели загадочно смотрели друг на друга, не замечая вовсе ошарашенную женщину.
«А Мефодич?!» – опомнился Лёха.
«Не знаем ещё, не видели…»
«Нету вашего Мефодича!» – услышав знакомое имя, очнулась Федина жена. Приятели оторопели…
«В город укатил! Какой-то инструмент геологический ему спонадобился. Чтой-то отыскать у себя на огороде вознамерился… Настя его жаловалась, из старого карьера не вылезает… А вы бы видели, как он одеваться стал!»
«Пошли покурим…», – Фёдор в очень глубокой прострации…
«А кто ещё-то с нами тевтонский бальзам алкал?!» – была заметно Лёхина решимость докопаться до сути.
Общими усилиями вычислили наиболее часто причащавшися. А уж одно-двухразовых-то дегустаторов, почитай, полсела было!
Самой подозрительной оказалась пара соседей: Семён Беспалый и Серёга Канищев. Селянами были замечены, во-первых, непонятно почему вдруг вспыхнувшая промеж ними дружба, а также ставшие регулярными их визиты в церковь.
«Я Сеньку с утра видел, на мотоцикле домой тарахтел, значит, и дружбан его дома… Пошли…»
Разгар сухого лета для средней полосы – истинная отрада. Всё наконец-то прогрелось, отчего духовито пахнут травы и деревья, чистая речка тихими всплесками заманивает окунуться…
Село большое, раскинулось по взгоркам привольно…
Шли молча, думая каждый о своём…
Ещё только подходя к дому, услышали голос Семёна. Семён… пел. Красивую старинно-церковную песню. Мешать не стали, остановились, заслушались. Никто из них уже ничему не удивлялся… Пошухерить озорными частушками на свадьбах и проводах – это для Семёна за милую душу. Но чтобы с таким старанием петь такие серьёзные песни – это из ряда вон. Да голос откуда-то такой чистый…
Семён, видно, заметил приятелей в окно, умолк, через минуту появился на крыльце.
«Будь здравы, селяне! – наигранно развёл руки, будто красуясь расшитой косовороткой. – С чем пожаловали, сердешные?»
«Давно голосишь-то, кот-баюн?!»
«С неделю как озарение снизошло, с той поры каждодневно и неустанно Русь славлю!»
Приятели невольно заулыбались. Такая длинная фраза и ни одного матерного слова для связки. Точно, Сенька не в себе…
«А что сосед-то твой, Серёга, тоже воспевает?!»
«Сергей Канищев ноне с усердием великим церковную грамоту одолевает. Служить Господу нашему намеревается. При сём весьма родовитым себя обнаружил».
При этих словах Сенька неожиданно ловко перекрестился.
«Всё понятно. Ставь, Лёха, птички в список и пошли дальше».
Разгадка в принципе уже определилась, но в списке было ещё немало имён, и нашими героями уже овладело нечто вроде спортивного интереса. Это что же такое немцы учудили, что с людьми такое творится?! Главное, им-то зачем такой напиток был нужен?!
«У дяди Жоры припадок! – по малолетству восторженно прокричал на ходу расхристанный велогонщик в повёрнутой козырьком назад – для скорости – рекламной бейсболке. – Меня к фельшару послали…» И улетел.
Приятели переглянулись и, не сговариваясь, свернули к Жоркиному дому.
Покосившийся забор, старый, неухоженный дом, бурьян в огороде… Неопределённого возраста старуха-мать поначалу билась отчаянно за Жоркину и свою судьбу. Только, видно, в одиночку, без рано сбежавшего в далёкие края супруга, не под силу оказались ей тяготы крестьянской жизни, и она опустила руки…
Жорка из армии вернулся злым и нервным, дома долго бездельничал, учиться ничему не захотел…
Частенько выпивали вдвоём с матерью, потом страшно материл её, она всё грозилась посадить его…
Припадком соседский пацан назвал не вполне адекватное Жоркино поведение.
Подпоясанное куском провода длинное старое пальто, странная, с мелкими шажками, бочком, походка, смиренный вид, часто опускает долу глаза, слегка наклоняет голову, то и дело складывает руки ладошками внутрь…
Завидев приятелей рукой сделал перед ними крест, но как-то странно, как папа римский по телевизору… Но самое жуткое – без перерыва что-то лопочет на непонятном языке…
Пожалуй, имел право соседский пацан на такой диагноз.
«Допился, видать, до белой горячки», – мать обречённо махнула высохшей старческой рукой и вышла из хаты.
«Ты чё чудишь, Жор?!» – Лёхин вопрос повис в воздухе.
Жора медленно расхаживал по избе, старательно что-то талдычил, то и дело осеняя кого-то папским крестом.
Мужики вышли наружу, молча сопоставляя произошедшее с ними и Жоркин спектакль.
«Он, паразит, пил без разбавки, – пришёл к выводу Фёдор. – Поэтому у нас всё глаже…»
Чувствовалось, однако, может быть, впервые появившаяся у каждого тревога за последствия.
Пока курили и молча размышляли, к дому подкатил, засвистев тормозами, фельдшерский уазик. Фельдшер Ильинична, из местных, уж который год на пенсии, всё дожидается молодой смены, а смены всё нет и нет…
«Здорово, ребят! Всё гулеваните?!»
Надо сказать, на селе никто не догадался пока связать произошедшие с отдельными мужиками метаморфозы с употреблением некоего диковинного напитка.
«Что ты, Ильинична, мы как стекло! – Генька изрёк это на удивление так серьёзно, что Ильинична как-то сразу ему поверила. – Что характерно, Жорка тоже…»
Минут двадцать она там, в хате, каким-то образом обследовала Жорку.
«Неопасный он, – Ильинична уже не боялась брать на себя ответственность за поставленный диагноз. – Пускай дома побудет, может, очухается», – и как-то подозрительно оглядела притихших приятелей.
«Надо поглядеть, а что с теми, кто только раз-другой попробовал… – аналитические способности в Миколе, может, и раньше были, но заметны стали только теперь. – Пошли к танкисту, он тут недалеко».
Крепкий телом танкист ворошил на заднем дворе сено. Завидев компанию, вышел за калитку, поздоровался.
«Что случилось?! Чего взводом пылите?!»
«Ты из Генькиной бочки шнапс пробовал?»
«Ну, было дело… Кажись, на Троицу… А что?»
«Никаких таких последствий опосля того за собой не приметил?»
«Каких таких последствий?! Всё путём!» – танкист просто-таки пышел телом и духом.
Разочарованные приятели было собрались уходить, как танкист вдруг что-то вспомнил-сопоставил, после чего скуластое лицо его расплылось в самодовольной улыбке: «Вот разве что бабы…»
«Какие бабы?!»
«Ну-у… вообще… Женщины… Охоч я до них стал особенно… Раньше было как обычно, ну, пару раз в неделю с жёнкой побалуюсь, и всё. А теперь, кажись, вообще бы с неё не слезал… На дню раза три приходится. Она вот тоже любопытничает: ты чегой-то такой шустрый стал?! И чего удумала: или ты всегда, говорит, такой был, только раньше на сторону ходил, а теперь почему-то всё мне достаётся?!»
Танкист задумался.
«Ну, да… В аккурат после Троицы…»
Потом до него дошло: «А что, и у вас такое?!»
Глаза его вдруг сделались испуганными. Мол, я разок приложился, и вон оно, чего сталось, а вы же чуть не каждый день сосали…
«Да не, у нас ещё чудней дела…»
Проинформировали… И смех, и грех…
«Слышь, танкист, а кто с тобой ещё тогда на Троицу у нас был? У них-то что?»
Да, вон, рыбачок был и Жёлудь… И Чекист… Насчёт столбняка у них не знаю, не было речи… Погодь… Жёлудь как-то буровил, что спать плохо стал. Не знаю, от вашего горючего или нет… Да, он сейчас дома…» Коренастый до пухлости Жёлудь старательно что-то мастерил из досок возле сарая.
«Во, сундук тёща заказала. По ночам-то? Не, по ночам греметь не с руки. По ночам я читаю или там крашу что по-тихому. Спать помалу стал, сто пудов. Полчасика кемарну и опять как огурчик! Жёнка к врачу водила. Доктор сказал, очень здоров, такое, говорит, случается… Кого-то из великих называл, позабыл я… Ну, да, где-то после Троицы и пошло… От бормотухи из бочки? А шут его знает, может и от неё… С рыбачком и с Чекистом был… А что с рыбачком? Да ничего с ним. Спит по ночам как сурок… Да, нормальный… Как был браконьер, так и есть… Хотя… Рыбачить стал меньше, сто пудов. Чегой-то он вдруг на охоту засобирался… Какая охота… Последнего зайца тут ещё при Петре Первом съели…»
Жёлудь стряхнул стружку с верстака, задумался…
«Чекист… Памятливый он какой-то стал… Газету, говорит, прочитаю и наизусть её несколько дней помню… Всё книжки читает. Вот и сегодня в район умотал. В книжный, сказал, надо. Ну, да, где-то с Троицы и поплохел…»
Собочечники пошли дальше. Опять задумались…
Навстречу на телеге тащился дед Василий с зернотока. Чем-то он был похож на свою кобылу и по масти, и по норову.
«Тпру-у-у, шалая!»
«Здорово, дед! Скажешь тоже, шалая… Она у тебя уж лет двадцать, наверное, как отшалила!»
Для Геньки дед Василий был постоянным объектом для зубоскальства.
«Не забижай! Справная кобыла… И возит, и кормит… А вы-то ноне чего? Полдень уж, а у вас ни в одном глазу не видать. Ай, ёмкость ваша осушилась?!»
«Да не, маненько осталось… А ты-то, дед, сколько раз ей угощался?»
«Чего, ай жалко стало?!»
«Да не-е, не про то я… Ничего такого за собой опосля не замечал? Никаких изменений?»
«Каких-таких зминений?!»
Дед Василий прищурился, видно, стал прокручивать период «опосля того». «Аппетит хороший стал… Сурьёзно! Старуха так и сказала: жрать стал, как мерин! Ды я уж не в одне портки не влазю!»
К такому дедову феномену отнеслись несерьёзно…
«То-то я гляжу, кобыла твоя в шоке последнее время!»
«Гляди, дед! Ты уж граничь харч-то! А-то тебя не тока бабка, но и кобыла бросит… К худым подадутся!»
Генька хлопнул кобылу по крупу. Пошли дальше…
«Во, вспомнил! Свояк мой пару раз прикладывался», – это Микола.
Свояку прервали сиесту. Вышел из дома заспанный, заправил майку в бесцветные спортивные штаны. Поздоровались…
На вопрос: «А ничего такого?» сразу насторожился, и сон слетел.
«А вы откуда узнали?!»
«Сорока на хвосте принесла! Давай, колись!»
Спросонья свояка на понт взяли легко.
«Сам не пойму… Почитай уж две недели… Шпрехаю, как попугай, без понятия…»
Приятели выдержали многозначительную паузу…
«Какой язык по телику услышу, чую, могу на нём лопотать. Пробовал, когда один дома, точь-в-точь получается… Что за язык, чего бормочу – без понятия… Да, главное, на трезвую ж голову, вот что странно… Что, есть такая болезнь?! А пошли в хату, щас изображу… моя-то к дочке подалась…»
Свояк включил телевизор, нашёл что-то бразильское, пару минут слушал, потом выключил звук и залопотал… Чистый дон Педро!
«Да, дурит он нас!» – Лёха засомневался скорее в своих способностях сопоставить произношение малознакомого языка.
«А, ну, ещё давай!»
Лёха пощёлкал каналы, в новостях французы бастовали, дождался интервью…
Свояк опять на полминуты затих, направив ухо к телевизору, потом зачирикал… Французский, как более знакомый, угадывался вполне…
«Ёпть!» – сказал Лёха, подтверждая тест.
«И ведь выпить не тянет!» – Микола выглядел вполне обескураженным.
«Я от свояка насухо первый раз ухожу… – констатировал он ещё одно действие заморского зелья. – Во, бля, дела…»
«Да, хорош меня разводить, барбосы!» – подытожил Григорий Тимофеевич, наслушавшись этой небывальщины по прибытии в село на вахту.
«Да, ёпть! Тимафеич, дык свидетелей же полдеревни!»
Надо сказать, что бочка иссякла после Троицы, а поисковики прибыли, спустя месяц, в июле уже.
Недели две, а у кого и три, то дивное похмелье ещё держалось, а потом потихоньку исчезло. Остались воспоминания, остались свидетели.
Но Григория Тимофеевича насторожило не это: пить без меры прекратили его жиздринские приятели. Так, из уваженьица, чуть-чуть…
Ну, ладно, «барбосы» могли и сговориться его разыграть. Но остальные-то свидетели – жёны, дети, бабки – ну, какие из них артисты…
А у Миколы аж вещественное доказательство осталось – неоконченная картина…
«Это же Кёльнский собор!» – Григорий Тимофеевич видел его воочию.
Посыпались уточняющие вопросы от городских. Подопытные отвечали охотно, но чем дальше, тем невероятнее…
«И что ты, Генька, корешки собирал?! А ты, Лёха, на аккордеоне шпарил?!»
Палитра этой чертовщины была настолько широка и неожиданна, что городские грамотеи вскоре ошарашенно примолкли, пытаясь хоть как-то связать концы с концами и нащупать хоть мизерное объяснение.
«А бочка-то цела?»
«Да цела, что ей станется! Даже не ржавеет, сука! Я ей крышку, правда, вырезал, под дождевую воду приспособил».
Не поленились проехаться…
Осмотр бочки к разгадке не приблизил.
«А откуда она у тебя вообще?»
«Да мужик из соседней деревни отвалил, из Дошина. Валяется, говорит, сто лет за сараем, не знал, что с ней делать…»
«А вы, змеи, значит сразу сообразили, что с ней делать…»
«Не-е, почему сразу? Не сразу…»
Краелюб-директор при упоминании Дошина прищурил один глаз, отчего один конец уса на той же стороне лица вопросительно и задиристо задрался. Понимая, что любая его версия в данной ситуации обречена быть убедительной, с ответом не спешил…
«В Дошине в начале войны был немецкий госпиталь. Мы сначала кладбище немецкое раскопали, а потом уж узнали, что оно относилось к тому самому госпиталю…
Только старики рассказывали, что непонятный это был госпиталь. Батальон охраны, пропуска… Но что самое удивительное – высокие чины фрицевские туда наведывались регулярно, даже генералы бывали…
Чего они не видали в захолустном-то госпитале, каких тогда сотни были…
А ещё там таких ёмкостей не осталось?»
«Да, не-е, мы уж всю округу прошерстили…»
«Ну, вы, алконавты, не могли хоть чекушку на анализы оставить!»
«Да, ёпть, Тимафеич! Да, кто ж знал, что всё так обернётся?!» – «алконавты» чувствовали себя слегка виноватыми.
«О, так Жоржик-то, говорят, ещё не отошёл!» – даже вроде бы и обрадовались такому обстоятельству.
«Айда, навестим!»
Набились гуртом в грузовой микроавтобус…
Жоркина мать выметала двор метлой – давно такого не водилось.
«Нету Жорки, на пилораму улетел, тёс нужен… Переменился парень… Господь, видать, услышал молитвы… Всё лето, почитай, не пьёт… Два раза уж премию давали – виданное дело! Да, вона, гляньте, крышу новую спроворил… Всё сам, всё сам…» – заметно было, что такие Жоркины перемены матери по нраву.
Пока выпытывали обо всём остальном, притарахтел тракторишка, не плошь Генькиного, с прийцепом тёса. Из кабины спрыгнул Жорка, как-то с радостью со всеми поздоровался.
«Во, рабсилы-то привалило!»
«Рабсила» на радостях, что Жорка жив-здоров, махом скинула доски с прицепа, уложили всё аккуратно, с поперечинами для просушки.
К Жорке всё-таки приглядывались. И он не подвёл…
Глянув на часы, Жорка вдруг заспешил в хату: «Я скоро!»
«Молиться пошёл…», – откомментировала мать.
«Не по-нашему… Раза три-четыре кажин день на колени встаёт… Езус-езус… Лопочет, как и раньше, не пойми чего…»
Григорий Тимофеевич заспешил к окну…
Понаблюдав несколько минут, как Жорка молился, вернулся к компании.
«Латынь… Молитва католическая… Их крест…»
Глаза директора округлились, доказательств остальным чудотворствам, похоже, боле не требовалось.
Из дома вскоре вышел Жорка, в руках трёхлитровая банка с тёмным самодельным квасом с корками чёрного хлеба. Выпили, похвалили…
«Откуда латынь-то, Жор?!» – горел нетерпением Григорий Тимофеевич.
«Не знаю, Тимафеич! Хоть убей, не знаю! Я и про латынь-то только щас, от тебя услышал. Веришь-нет… Проснулся однажды утром, чувствую, распирает аж всего, как хочется помолиться… Я же не понимаю ни бельмеса. Слова как-то сами на язык ложатся… А после молитвы какая-то благодать внутрь вселяется… Улыбаюсь, как идиот… Всё чего-то делать хочется… А утром, в обед и вечером в будний день к иконе ноги сами несут. Я когда в районе в книжный-то случайно зашёл, сначала сам не пойму – зачем. Потом какая-то книжка толстая в руках оказалась… Листал, листал, а как вот эту вот увидел, аж затрепетало всё внутри – моя!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.