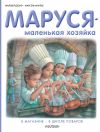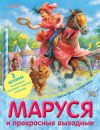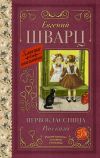Текст книги "Се ля ви… Такова жизнь (сборник)"
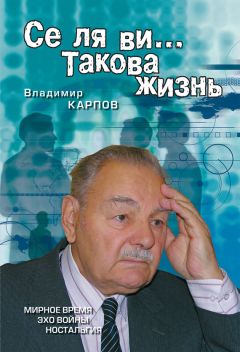
Автор книги: Владимир Карпов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
Первый шаг к победе
Мало кто уцелел из пограничников, из воинов, которые находились 22 июня на границе. Огромные силы врага неожиданно обрушились на них в тот день. Но пограничники не дрогнули, стояли насмерть, бились до последнего. А потом была большая война, в которой пограничники тоже участвовали. Они служили в воинских частях, отходили вместе с этими частями и, освобождая советскую землю, с победой шли на запад, изгоняя врагов не только с родной земли, но и из многих стран Европы. Несмотря на огромные трудности, на множество опасностей, все же остались живы и по сей день участники тех далеких теперь боев 22 июня. Мне давно хотелось поговорить с одним из них, узнать, как тогда, в тот день, находили они в себе силы противостоять такой огромной фашистской армии, ринувшейся на территорию нашей страны. И вообще, в чем источник мужества, проявленного ими в самые трудные дни военного лихолетья. И вот я нашел одного из тех, кто был 22 июня в траншее, на границе, и первым встречал фашистов. Фамилия его Гоманков, зовут Иван Прокофьевич. Мне казалось, что будет интереснее и для меня, и для него поехать туда, на границу, на место боев, и там послушать рассказ Ивана Прокофьевича. Гоманков прихватил с собой планшетку, обещал показать интересные бумаги по ходу рассказа.
Мы сели в поезд и поехали в город Гродно.
Смотрим мы с Гоманковым на проплывающие за окном вагона поля и вспоминаем войну: именно здесь нам обоим довелось участвовать в боях. Но особенно ярко мне запомнились дни, когда мы возвращались с Победой.
Кончилась война, эшелоны мчали нас домой, на Родину! Мне казалось тогда – время остановилось, солнце не заходило, не было ночей – только яркий солнечный день. Наверное, так было от улыбок и приветного сияния глаз, которыми всюду встречали нас, фронтовиков, соотечественники. Женщины, старики, дети были худые, в недоношенной нами военной одежде, настрадались люди, но глаза их сияли настоящим счастьем.
Было в те дни и такое: когда поезд несся по открытому, искореженному войной полю, вдруг обдавал лицо полынно-горьковатый ветер. Я выглядывал из вагона с недоумением: откуда весной полынь? Оказывается, горький запах этот шел от черных пепелищ деревень и городов. Скорбно тянулись к небу печные трубы, похожие на могильные кресты над бывшими здесь когда-то домашними очагами, над жившими когда-то здесь людьми.
…На следующий день, утром, мы с Гоманковым приехали в Гродно. Обратились в пограничный отряд. Я рассказал пограничникам о нашем намерении. Нам разрешили выехать на границу и даже любезно отвезли на машине до заставы.
И вот мы на границе. Мы шли вдоль пограничной реки Неман и искали окоп, в котором находился Иван Прокофьевич 22 июня. Была ранняя весна. Снег сошел, обнажив прошлогоднюю бурую траву, ночные заморозки подбеливали ее седым инеем. Прошло много лет, местность изменилась. Состарились, отжили свой век одни деревья, выросли другие. Окопы осыпались, некоторые почти совсем затянуло землей. Иван Прокофьевич внимательно вглядывался в берег Немана и наконец-то остановился. Окоп был старый, уже потерявший форму, с осыпавшимися краями, заросшими травой. Иван Прокофьевич спустился в него и безмолвно смотрел на пограничную реку, на противоположный берег. Я стоял рядом и наблюдал за его лицом. Оно было не просто серьезное, а какое-то отрешенное. Он не видел сейчас ни меня, ни тех, кто был с нами рядом. Он мысленно ушел туда – далеко, в 41-й, – и слышал, наверное, выстрелы, крики, гром боя, бомбежку, видел лица своих боевых друзей. Не сразу он стал рассказывать о том дне, и я не торопил его, понимал, что с ним сейчас происходит.
Но вот он негромко заговорил:
– Гитлеровцы плыли на лодках с того берега. Их было много. Они были возбужденные. Крикливые. И даже веселые. Мы, как и полагается, допустили их на середину реки. Когда они пересекли середину реки и стали приближаться к нашей земле, открыли огонь. У меня вот здесь, с левой стороны, были два ручных пулемета, с правой стороны тоже стоял ручной пулемет. Я никого из бойцов не знал раньше, потому что прибыл на этот участок границы 19 июня. Только успел получить ордер на квартиру. Отнес туда чемодан, оставил его в пустой комнате, и в первую ночь уже была тревога. Тогда на границе было неспокойно, все ожидали, вот-вот что-то произойдет. И я как ушел на границу, так и не вернулся. Мне было поручено командовать взводом пограничников, которых прислали из погранотряда. Я, по сути дела, их узнавал и знакомился с ними уже в бою. Мы отбили первую попытку фашистов переправиться через реку.
– Иван Прокофьевич, – спросил я, – а большие силы вас тут атаковали?
– Примерно около батальона. Спустили на воду Немана надувные лодки и после сильного артиллерийского обстрела и обработки самолетами пытались высадиться на наш берег.
Отбили мы еще несколько попыток. Опять началась обработка и с воздуха, и артиллерией. Все было перемешано взрывами. Около четырех часов мы вели ожесточенный бой, не позволяя гитлеровцам высадиться на наш берег. Но силы, конечно, были неравные. Враги обошли нас с левой и с правой стороны. Высадились все-таки и стали окружать. В эти первые часы боя я был ранен в ногу. Но, пока были силы, пока я не потерял еще много крови, оставался в строю и продолжал командовать своим взводом. Ну, потом я стал терять сознание, и меня вместе с другими ранеными погрузили в машину, и машина эта была отправлена в тыл. Когда мы ехали через Гродно, город горел, его бомбили самолеты, повсюду пылали пожары, черный дым застилал улицы. Выехали мы из города, отъехали несколько километров, как вдруг на нашу машину стал пикировать фашистский самолет. Летчик видел, что это санитарная машина. Был на ней красный крест нарисован, и все-таки он пикировал и обстреливал эту машину. Машина остановилась. Раненые, кто ползком, кто как мог стали прятаться в кювет, а самолет сделал еще заход и все-таки поджег машину.
Видел я, как самолет снижался до бреющего полета и летчик расстреливал идущих и бегущих по дороге женщин и детей.
Я лежал в кустах, видел все это и не мог поверить, хоть и происходило все на моих глазах. И вот именно в эти минуты мне стало страшно. Мне не было страшно, когда много врагов переправлялось через пограничную реку и лезло на нашу землю. У нас в руках было оружие, мы верили в себя и били их. Я знал, что война – дело жестокое. Но когда я увидел, как фашист расстреливает женщин и детей, вот в эту минуту я понял, что эта война будет необыкновенной и фашисты не просто враги, а изуверы.
– Иван Прокофьевич, а что дальше?
– Потом мы, раненые, старались выйти к своим. Шли лесами, болотами. Питались, ну, что можно найти в лесу: ягодами, грибами. Я сделал самодельный костыль, пользуясь которым, шкандыбал, стараясь не отстать от товарищей. Они мне тоже помогали. И вот, помню, попалась нам на пути речушка – приток Немана, она извивалась по лесу. Моросил небольшой дождь, и вдруг мы почувствовали запах дыма. А потом увидели огонь костров. Я послал двоих товарищей в разведку: посмотреть, кто там находится у этих костров. И вот они вернулись с радостными лицами и сообщили, что у костров составлены винтовки в козлы и там в зеленых фуражках наши пограничники. Все мы очень обрадовались и поспешили туда, к своим. Но когда подошли поближе, уже вплотную к ним, я вдруг услышал немецкую речь. И понял, что это немцы. Понял еще и потому, что форма на них была новенькая, как говорят, с иголочки, явно было – эта форма недавно взята со склада.
Я только успел крикнуть: «Диверсанты!» и начал стрелять в фашистов. Завязалась короткая, почти рукопашная схватка. Я выстрелил в гитлеровского офицера, убил его, и в этот момент меня что-то ударило по голове и я потерял сознание. Не помню и не знаю, сколько пролежал без сознания. Очнулся уже у ямы: такая продолговатая длинная яма, старая. Стояли мои друзья-пограничники и меня поддерживали. Смотрю, на нас уже наведены винтовки и пулеметы. Нас расстреливали. Перед самым залпом пограничник, стоящий рядом со мной, толкнул меня, и я уже вместе со всеми в грохоте выстрелов упал в ров. Пули не угодили в меня. До сих пор не знаю имени своего спасителя, того, кто толкнул меня на секунду раньше залпа. Кто-то из пограничников, из той машины, что везла раненых, а кто – не знаю, мы были из разных подразделений. Сколько я там лежал, тоже не помню, потому что я периодически терял сознание. Когда пришел в себя – была уже ночь. На мне окровавленная гимнастерка и сверху лежит убитый товарищ. Стал я выбираться. И когда выбирался, услышал стон. Подполз к стонавшему. Шепнул ему на ухо: «Тише, немцы близко». Потом перевязал его. Осмотрел других, лежавших рядом пограничников. Но они были мертвы. Я взвалил себе на спину раненого. Это был Федя Вавилов. И стал ползти по дну рва, в сторону, подальше от этого места. Когда отполз подальше, остановился передохнуть. Кружилась голова, не было сил. Но к утру отдышался, пришел в себя.
И вот потянулись долгие мучительные дни, когда два раненых пограничника, помогая друг другу, пробирались к своим. Наши войска медленно отходили под напором превосходящих сил гитлеровцев. Войска отходили, но битва продолжалась и на территории, захваченной фашистами. Гитлеровцы надеялись захватить, поработить нашу землю, однако эта земля повсюду запылала народным гневом и ненавистью к оккупантам, всюду создавались партизанские отряды.
…Гоманков со своим товарищем Федей Вавиловым все же выбрался к своим. Он лечился в госпитале, а затем ему, как пограничнику и человеку, уже побывавшему в тылу врага, предложили направиться в партизанский отряд. Предупредили: дело абсолютно добровольное. Иван Гоманков дал согласие и был направлен в Деделовский лес, к командиру отряда Леониду. Его направили туда потому, что это были родные места Гоманкова, он знал там каждый овраг, каждую тропу, каждого жителя.
О своей жизни в партизанском отряде Гоманков рассказывал мне в лесу. Мы развели костер, сидели у этого костра, подбрасывая ветки в огонь, и, не торопясь, беседовали. Он вспоминал свою боевую жизнь в партизанах. Именно здесь, у костра, я очень хорошо представлял себе, как выглядел в те дни Гоманков. Небольшого роста, в драной телогрейке, так – мужичок и мужичок. Раненый, бывший в окружении, ни у кого и в мыслях, наверное, не было, что это один из наших разведчиков…
В своем селе Гоманков должен был связаться с Григорием Павловичем Куриленко. Знал его еще с довоенных лет. Куриленко часто бывал в доме Гоманковых. Он дружил с отцом Ивана Прокофьевича. Они обсуждали сельские дела, говорили о том, как лютуют кулаки, о том, как укреплять колхоз, как бороться с этими кулаками. Не думал тогда мальчишка Иван, что когда-то ему придется с этим Куриленко, солидным человеком, вместе работать и выполнять задания.
И вот, прибыв в условленное место, Гоманков встретился с Григорием Павловичем. Куриленко повел Гоманкова в партизанский отряд. Шли долго. Куриленко, поглядывая на хромавшего Ивана, спрашивал – не устал ли? Делали привал. В середине дня пришли в лагерь. Здесь Иван Прокофьевич познакомился с командиром отряда – Леонидом. Это была его кличка.
После знакомства и разговора о том, что нужно отряду, Леонид предложил:
– Вот мы хотим, чтобы вы вернулись в свое село Явкино, легализовались там и создали хорошую группу.
Такое предложение несколько обескуражило Ивана Гоманкова, потому что он собирался в тылу бить немцев, эшелоны пускать под откос. Он так представлял себе действия партизан. Однако Леонид ему разъяснил, что работа, которая предлагается ему, тоже очень необходима. Надо вести разведку, наблюдение за врагом, доставать продовольствие, одежду для партизан. В общем, надо обеспечивать их боевую жизнь, и это тоже опасная боевая работа. Гоманков боялся не близости немцев в такой работе, а презрительных взглядов своих односельчан. Они же не будут знать, что он работает по поручению, и вынести это презрение будет, конечно, нелегко.
Больно было смотреть на опустевшее родное село. Все сидят в хатах, лишний раз боятся выходить на улицу, потому что возможна встреча не только с немцами, а и с полицаями и с их прихвостнями. Только вошел Гоманков в родной двор, навстречу выбежала мать и с криками: «Жив, жив!» кинулась его обнимать. Не знал Гоманков, что мать уже получила похоронку с сообщением о том, что он погиб в боях на границе. Обняла его и сестренка Вера, с радостью смотрела на него, блестя задорными глазами.
Она радовалась не только его приходу, она понимала, что не мог он, пограничник, просто так вот, как окруженец, прийти домой. Она была уверена, что его прислали. И потом, когда улеглась первая радость, когда уже на него нагляделись и поняли, убедились окончательно, что жив их Иван, она его спросила: «Ну, скажи, скажи мне, я никому ни слова. Тебя прислали? Ты со специальным заданием?»
Но он не мог признаться даже сестре. Так и остался просто раненым окруженцем. Отца дома не было. Он, оказывается, ушел добровольно в армию, пошел бить врагов и мстить за сына.
Отдохнул немного с дороги, осмотрелся Гоманков и стал подбирать себе помощников. Одного из них, как советовал командир отряда Леонид, надо было послать работать полицаем, чтобы свой глаз был там, в стае предателей.
Как говорить с людьми? Все настороженно относились друг к другу. Риск очень большой! Одно слово доноса, и не только тюрьма или лагерь, а расстрел грозил человеку.
Первым решил поговорить с Володей Шашенко, ведь учился с ним в одном классе, были друзьями. Доверяли друг другу еще тогда, до войны. Володя сильно болел, когда началась война, и поэтому его не призвали в армию и он не мог эвакуироваться. Не сразу подошел даже к такому другу Гоманков. Он последил за его домом, посмотрел, как живет Володя, и только потом назначил ему встречу. И при встрече этой тоже заговорил не прямо, а так, что можно было его понять по-разному. И о главном спросил с двусмысленной ухмылочкой:
– Не пойдешь ли ты служить в полицию?
Шашенко презрительно посмотрел на Ивана и ответил:
– Эх ты, а еще другом считался. Правду о тебе говорят в селе, что ты дезертир.
– Вот и о тебе то же самое будут говорить, когда пойдешь работать в полицаи.
– Что же ты хочешь, чтобы не тебе одному было тяжело в таком положении, чтобы и обо мне так говорили?
Настало время говорить прямее. И Гоманков сказал:
– Для пользы дела тебе предлагаю идти в полицаи, для того, чтобы ты помогал партизанам.
Володя удивленно вскинул глаза, недоверчиво смотрел на Ивана. «Правда ли?» Боязно поверить тому, что слышал. Но, видно, парень истомился от безделья и хотелось ему бороться с врагами, поэтому после некоторого раздумья он сказал:
– Ладно, поверю я тебе, ты вроде никогда не был подлецом. Мы тут тоже хотели сами кое-что сделать. Собирались с ребятами, – хотел, видно, назвать с кем, но решил подождать. – В общем, собирались, так что есть люди и есть уже на кого опереться.
Очень приятно было услышать это Гоманкову не только потому, что теперь у него появятся помощники, но еще и потому, что его школьные друзья не сидели сложа руки и что они тоже думали, искали возможности бороться с фашистами.
Вот так постепенно начиналась работа в тылу врага. Потом Гоманков создал хорошую подпольную группу, выполнял все задания командира партизанского отряда. Но и фашисты не дремали. Видно, выследили они кого-то из них, и вот однажды, когда Гоманков пришел домой, мать бросилась к нему и плача сообщила:
– Григория Куриленко взяли, я видела, как вели его, связанного, вели по улице и били. Полицай кричал, что скоро всех партизанских пособников переловят. Григорий всех выдаст. И били и вели его дальше.
Этот провал, конечно, очень обеспокоил Гоманкова. Все настороженно ждали. Но крепко держался на допросе Григорий Куриленко. Никого больше не арестовали, и группа продолжала действовать. В сентябре 1943 года пришло от партизан радостное известие: «Наши войска взяли Смоленск». А через несколько дней бои уже продвигались с востока к селению, в котором жил Гоманков. Вскоре поступил приказ командира партизанского отряда перекрыть дороги и ударить по последним подразделениям отходящих немцев.
И вот тут их били вместе партизаны и те, кто до поры скрывался, – подпольщики во главе с Гоманковым.
– В общем, дали мы им жару напоследок как следует! – сияя радостно глазами, подвел Гоманков итог своей партизанской жизни.
С приходом Красной Армии Ивана Прокофьевича охватила не только радость победы, не только радость, что фашистов изгнали, а еще и то, что он мог теперь пройти по селу открыто, глядя людям в глаза, весело смеяться. Он ходил с партизанами по селу, и люди удивлялись его выдержке, тому, как он вел себя раньше. Гоманков видел, что им тоже радостно и приятно, что их односельчанин Гоманков, семью которого они знали только с хорошей стороны до войны, оказался и на войне достойным, преданным Родине. Вскоре после освобождения села Гоманков был включен в состав действующей Красной Армии и стал командовать ротой в одном из полков 1-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию. На реке Проне был ранен, попал в госпиталь. После излечения сражался на 3-м Украинском фронте, командовал стрелковой ротой. Участвовал в форсировании Днестра. За это форсирование получил орден Красной Звезды. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, где была окружена большая группировка фашистов. Потом форсировал Вислу и дошел до Германии.
– Хочется мне сказать о том, что в 1941 году, удаляясь от своей родной границы и когда находился в тылу фашистов, я постоянно помнил своих погибших друзей-пограничников и вот тех людей, женщин и детей, которых расстреливал на моих глазах фашистский летчик. Я всегда думал о том дне, когда за все эти злодеяния придется фашистам ответить. Я твердо верил в то, что им придется-таки за это отвечать.
…Слушая Гоманкова, я вспоминал свои фронтовые дороги и сказал Ивану Прокофьевичу, что тоже прошел эту тяжелую школу. И у меня тоже постоянно сохранялась вера, что мы вернемся сюда, в края, которые оставляли. Мы обязательно вернемся, и победа будет на нашей стороне. А когда начались наступательные бои и мы стали освобождать свою землю, как радостно стало на душе, что наши надежды сбылись.
– Ну а что вы чувствовали, когда вышли на границу, на ту линию, где застала вас война?
– Когда вернулись и увидели, вот он, заветный рубеж, от которого мы отходили и к которому потом так стремились, на душе было настоящее праздничное настроение, очень большое внутреннее волнение. Но, к сожалению, в то время не до праздников было. Бои продолжались, все произошло просто, по-фронтовому. Вышел я, конечно, со своей ротой не на том участке, где вел бой 22 июня 1941 года. Вышел в совсем другом месте, но тут тоже когда-то стояла застава. И, видно, бой здесь был такой же тяжелый, как и у нас. Все вокруг изрыто воронками, застава разрушена, живого места не осталось. Все искорежено. Я думал о тех, кто защищал эту землю в июне сорок первого. Вспоминал, как сам с друзьями своими отбивал фашистов, переправлявшихся через Неман. И вот я задумался и не сразу заметил, что рядом со мной стоит местный житель. Он тоже был без головного убора, и лицо его было печальным. Не здороваясь и не говоря, кто он, сказал: «Вон на том холме мы их схоронили. Ни один в живых не остался. Все бились до последнего патрона. – А потом подал мне сверток и добавил: – Вот, сберег».
Я развернул сверток и увидел гербы, металлические гербы, которые были на пограничных столбах. Несколько этих гербов Советского Союза были в свертке. Многим, да что там многим, жизнью рисковал этот человек, когда свинчивал эти гербы со столбов! Если бы кто-то из фашистов увидел его за таким делом, расстреляли бы на месте. А он верил, что мы придем, что мы вернемся, и сохранил эти гербы.
Мы долго не задержались на границе, пошли вперед. Но я видел, как некоторые солдаты брали в руки землю, с волнением растирали ее, глядели радостно друг на друга. Они как бы говорили этой земле: вот, родная, мы пришли, мы тебя освободили! Этот рубеж дал нам прилив новых сил, как будто вдохнул в нас новую энергию, и пошли мы дальше, освобождать Польшу и Германию.
Запомнилось мне форсирование Одера. Ночь. Широкая река здесь, на чужбине, казалась особенно мрачной. Приказ был почти такой же, как приказ о форсировании других рек: «Любой ценой захватить плацдарм и удержать его до переправы главных сил батальона». Тихо спустили мы лодки и поплыли по черной воде. Я знал: достаточно малейшего шума, чтобы эта черная ровная поверхность реки превратилась в кипящий страшный котел. Но нам повезло. Мы достигли берега противника бесшумно. И сразу разорвали ночную тишину взрывами, а ночной мрак – красным огнем наших гранат. Мы действовали удачно и захватили первую траншею сравнительно легко. Но я знал – это только начало! Даже захват траншеи – это еще только начало боя. И не ошибся. Фашисты понимали, что такое захват даже небольшого плацдарма. У них тоже был опыт! Они знали, что если уж русские вцепились в берег, то их трудно будет выбить. Ну и мы готовились к встрече. Не успели оглядеться, тут же во мраке ночи последовала сильнейшая артиллерийская обработка, и цепи гитлеровцев пошли в атаку. Мы отбили несколько атак. Поле боя освещали немецкими ракетами, которые захватили в траншее. На некоторое время наступила тишина. А потом вдруг опять сильнейший артиллерийский обстрел. Но когда мы осветили впереди лежащую местность ракетами, я не увидел атакующих цепей. Я понимал: фашисты зря тратить снаряды не будут и, когда взмыли вверх новые осветительные ракеты, увидел – ползут!
Мы подпустили фашистов поближе и огнем почти в упор отбили и эту атаку. На рассвете на нас пошли уже танки. Это дело серьезное! С танками бороться всегда тяжело. У нас было несколько противотанковых ружей. Особенно отличился бронебойщик Опарин. Он стрелял метко, попадал в танки, но пули не пробивали броню. И все же он изловчился. Когда танк вылез на бугор, Опарин ударил в днище, где броня потоньше, и пробил это днище. Танк остановился.
По этому танку начали бить и другие бронебойщики, и общими силами они его доконали. Выскочил из танка экипаж, но мы не дали врагам уйти – побили. Танк остался на месте. Подбили и второй танк и его экипаж тоже уничтожили. Я подумал, что надо бы взять патроны и оружие из этого танка, и сказал командиру взвода лейтенанту Жданову, чтобы он послал туда людей. Он послал командира отделения Туртаева. Опытный был этот командир отделения. Через некоторое время Туртаев взял из этого танка три автомата и патроны. Он сказал своим бойцам: «Передайте это все командиру, а я останусь здесь, в танке». Я послал к нему на помощь Царева, знал, что он умеет обращаться с орудием. И вот при очередной контратаке фашистов мы все ждали, что Царев и Туртаев ударят из пушки по наступающим немцам. Цель была уже рядом – атакующие танки фашистов подошли совсем близко, а орудие огонь что-то не открывало. Я уже подумал: не случилось ли чего-нибудь? Может быть, пушка оказалась неисправной? И вдруг, когда поровнялись танки с этим подбитым немецким танком, башня развернулась, и орудие начало бить в упор по фашистам. А пулемет немецкого танка стал бить по атакующей пехоте. Наши солдаты «Ура!» закричали от радости, когда увидели эту сцену! Обнаружив, что в танке засели наши, фашисты двинули три самоходных орудия, и наши ребята затеяли с ними дуэль. Дав несколько выстрелов из пушки, ребята выскочили из танка и по воронкам и лощинам прибежали к нашей траншее.
«Ну и молодцы! – похвалил я их, – а теперь вставайте по местам. Контратака эта не последняя, сейчас еще полезут».
Во время очередной атаки фашистов меня ранило в ногу. Долго не могли остановить кровь. Тут жгут надо бы, а его под рукой не оказалось. Я говорю: «Перевязывайте бинтом, давайте перетягивайте потуже».
Перевязали, и я продолжал руководить боем. За левый фланг уже не беспокоился. Там, смотрю, рота соседнего батальона переправилась. А вот на правом фланге наш сосед все никак не мог зацепиться за берег. Здесь, как говорится, у фашистов руки были развязаны. И они бросили с этой стороны восемь танков. Я уже видел их на опушке и попросил по рации, чтобы артиллеристы дали огоньку. А огня все не давали, артиллерия что-то молчала. Вдруг слышу гул самолетов. Оказывается, нам на помощь прислали штурмовиков. Здорово они раздолбали эти танки.
Но танки не все сгорели, некоторые из них успели укрыться в лесу. Как только ушли самолеты, гитлеровцы все-таки двинулись в контратаку. Они знали, что надо сбивать нас, пока мы как следует не закрепились на берегу, пока сюда еще не переправились главные силы.
Слышу я, не совсем благополучно у меня на правом фланге: замолчал один, потом второй пулемет. Ну, я хоть и раненый, а побежал туда. Вижу еще на бегу: немцы уже близко к правому флангу подошли. Бежал я изо всех сил, чтобы успеть. И успел все-таки. Успел сюда и командир взвода Жданов. Мы сами легли за пулеметы вместо погибших пулеметчиков. И Царев тут со своим взводом подошел на выручку. Атака была отбита. Мы даже трофеи собрали – оружие тех немцев, которые упали неподалеку от наших окопов, их патроны и гранаты. И снова начался артобстрел. Сил в роте совсем уже осталось мало, когда комбат попросил по рации продержаться еще немного. Он сказал, что через пятнадцать минут батальон начнет переправу. И даже со дна окопов поднялись все раненые, в бинтах, в крови. Шестнадцать атак мы отбили за время пребывания на плацдарме, а вот эта, последняя, была, пожалуй, самой трудной. Немцы поняли, что это наши тоже последние силы, делали все, чтобы сблизиться и уничтожить нас в рукопашной.
Я видел: вот уже близко подплывают лодки с главными силами батальона, но если фашистам удастся нас смять и захватить эти траншеи, они отсюда, с хорошо подготовленных огневых позиций, конечно же не дадут главным силам батальона высадиться. Надо было как-то сдержать натиск врага, надо было во что бы то ни стало помочь высадке батальона. Огнем мы уже сдержать, чувствую, не сможем. И вот ради этих нескольких минут я понял, нужно атаковать. Не допустить немцев в траншею, остановить их, задержать рукопашным боем на подходе к окопам. И я крикнул: «Вперед, орлы-гвардейцы! За мной!» Сам выскочил из окопа и, стреляя из автомата, побежал навстречу фашистам. Солдаты кинулись за мной, и мы сшиблись в рукопашной схватке. Наши друзья из батальона видели это и, выпрыгивая из лодок, еще бредя по воде и карабкаясь на берег, кричали «Ура!», чтобы хоть этим криком придать нам силы и запугать гитлеровцев. И этот крик нам помог! Немцы дрогнули и повернули назад! Побежали! И здесь я упал. Получил еще одно ранение. Роту повел вперед лейтенант Царев.
Как мне потом рассказывали, около меня остался один только Куприн, ординарец мой. Он смотрел на меня, окровавленного, и думал, что я убит. Около гвардейского значка на груди, у клапана кармана, гимнастерка вся была мокрая от крови. Куприн никак не решался расстегнуть этот карман и вынуть документы. Вынуть документы – это значит все. Это значит – человек погиб. Он приник к моей груди и стал слушать. И показалось ему, вернее, даже сквозь грохот боя он все же расслышал, что сердце мое бьется. Оказалось, пуля ударила в гвардейский значок, и это меня спасло. Она пробила комсомольский билет и неглубоко вошла в мое тело. Но все же я был дважды ранен, много потерял крови и лежал без сознания. Обнаружив признаки жизни, ординарец Куприн положил меня в лодку, переправил на другой берег и доставил в медсанбат. И только убедившись, что я выживу, он с этой радостной вестью вернулся в роту.
В медсанбате я все время думал о том, как там мои ребята, удержатся ли они на плацдарме? Ну, мне сказали, что главные силы переправились, и теперь я был уверен, что если уж мы, несколько человек, удержали плацдарм, то конечно же главные силы батальона, да уж, наверное, и полка, теперь переправились и плацдарм удержат! И я не ошибся – плацдарм удержали. Через несколько дней в дивизионной газете «За победу» была напечатана короткая заметка. Она у меня сохранилась. Вот почитайте, что в ней написано… – Гоманков достал из планшетки пожелтевший квадратик газеты, и я прочитал:
«Офицер Гоманков с приходом в роту отдавал все свои силы сколачиванию боевого подразделения. Иван Прокофьевнч стремился превратить свою роту в несокрушимый бронированный кулак, о который разбились все контратаки врага. Он сделал ее острым кинжалом, способным пронзить любой оборонительный рубеж противника. Офицер Гоманков превратил свое подразделение в роту бесстрашных. И самым бесстрашным является он сам – командир роты».
Гоманков, следя за тем, как я читаю, смущенно сказал:
– Ну, вы понимаете, стиль, конечно, очень возвышенный, перестарался корреспондент. Наверное, тоже очень торопился.
А я читал дальше:
«На Одере немцы предпринимали атаку одну за другой, но все они разбивались о стойкость наших воинов. Сам Гоманков, дважды раненный, лег за пулемет и поливал свинцом обратившихся в бегство гитлеровцев».
Очень торопился вылечиться Гоманков в госпитале. Просил врача, чтобы выписал поскорее. А врач сердился: «Как с ума, говорит, все посходили. Выписывай и выписывай! Вам еще на костылях надо будет ходить. Не имею права я вас выписать!» И все же Гоманков добился. Пораньше его отпустили, и он догнал свою дивизию. Там ждали его добрые вести. Командир дивизии полковник Даниил Кузьмич Шишков вручил ему орден Отечественной войны I степени за форсирование Одера, поздравил его с присвоением звания капитана и сказал:
– Давай принимай батальон!
– Я отказался, потому что, говорю, не могу я командовать батальоном.
– Да ты боевой командир, пойдет у тебя дело!
– Нет, говорю, образование у меня недостаточное.
Он это понял по-своему и сказал:
– Ну, тогда в академию поедешь учиться!
Тут я уж совсем замахал руками и говорю:
– Ни в какую академию я не поеду, что вы! Я с ротой такой боевой путь прошел. Я Берлин брать хочу!
Командир дивизии засмеялся и оставил меня в покое. Назначили меня в мою прежнюю дорогую мне роту. Мне показали лес, в котором находилась моя рота, и стал я пробираться к ней. Рвались снаряды, этот участок фашисты сильно обстреливали. Я шел по лесу и как-то не чувствовал себя защищенным, как раньше, в нашем русском лесу. Лес тут был весь расчищенный, словно прозрачный. Не лес, а парк какой-то. Уже начало темнеть, когда я добрался до траншеи своей роты. Солдаты узнали меня и очень обрадовались. А кто-то сказал:
– Мы же говорили, капитан обязательно придет и будет брать Берлин с нами вместе!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.