Текст книги "Ворожей (сборник)"
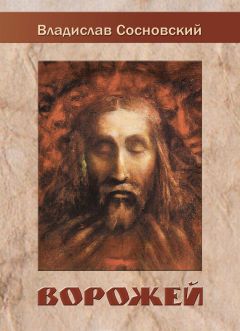
Автор книги: Владислав Сосновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
– Что-то случилось, Олег, – неожиданно то ли спросил, то ли утвердил он.
– Да нет, – соврал я и с натяжкой улыбнулся. – Просто много впечатлений.
– Брось, – сказал майор. – Я вижу.
Я опустил голову и признался, что потерял ночью, на пожаре портмоне, а в нем – важные телефоны, адреса, визитки, записки.
– Ну не расстраивайся, – поверил майор. – Эту беду, я думаю, ты переживешь. Люди теряют близких, любимых, друзей. Жизнь, наконец. А бумажки… Черт с ними. Восстановишь как-нибудь. Кроме того, я дам команду, мои бойцы поищут. Если найдем, вышлем тебе бандеролью в Желтый. На Главпочтамт. До востребования. Потому что, какие у тебя будут в дальнейшем адреса – неизвестно. И вот что… Пожар особо не расписывай, пожалуйста. В штабе, конечно, и так узнают. По шапке я получу. А если еще вспыхнет пресса… С другой стороны – о чем я? О рядовых буднях заставы – скучно. Ладно. Пиши, как получится. Врать не надо. – Майор стукнул меня по плечу. – Не вешай нос, писатель. Никогда, слышишь, не вешай нос. Ни при каких обстоятельствах.
После полудня с крейсера «Орел» пришло сообщение о том, что наши водные границы пересекло японское рыболовное судно. Это известие, в свою очередь, передал на «Орел» самолет-разведчик. До места нарушения японцами российской границы для нашего катера было далековато. Тогда крейсер снялся с якоря и на полном ходу двинулся в тревожный квадрат. Позже мы узнали, что японская шхуна-нарушитель была остановлена. К ней, а вернее, к рыболовной компании, которой она принадлежала, применили штрафные санкции, а саму шхуну, но уже без улова крабов, препроводили в родные края.
– Вот такие дела, – сказал Александр Николаевич вечером, когда мы пили чай с моей брусникой. – Тут, Олег, это событие рядовое. Такие вещи случаются довольно часто. То свои браконьеры, то чужие. Но это наша прямая работа. Нарушать границу не дадим никому. Однозначно.
В завершение моей краткосрочной командировки мы с майором обошли сопку, протопали в резиновых сапогах километров десять и расположились на берегу не широкой, но быстрой таежной речушки, дно которой было словно бы выложено яркими рубиновыми камнями; так оно горело, просто пылало из-под воды красным цветом.
– Это они под водой такие красивые, – остудил мой восторг майор. – А вынешь – обыкновенный, даже тусклый розовый кварцит. Зато форель здесь… – он чмокнул губами. – Сейчас сам увидишь.
К крючкам наших удочек были аккуратно и крепко привязаны кусочки козьей шерсти. Видимо, она имела особый запах.
– Это я в позапрошлом году с материка привез. Целый пакет, – сообщил Александр Николаевич. – Но можно ловить и на обыкновенное птичье перо.
Мы забросили удочки, и буквально через пять минут майор вытащил крупную серебряно-голубую рыбину. Потом такая же форель попалась и мне. Через час у нас уже был почти полный целлофановый мешок форели и хариусов.
– Ну, хватит, – сказал майор. – А то с браконьерами воюем, а сами. Жадничать нельзя.
Вечером мы – начальник заставы и еще два офицера-пограничника – ели уху, какой я сроду не пробовал, пили брусничный чай, шутили, вспоминали Москву. Позже пришел двухметровый капитан, Виктор.
– Кстати, – сказал один из офицеров-москвичей. – У иконы Казанской Богоматери интересная история. В 1579 году в Казани разразился страшный пожар, уничтоживший почти весь посад. Но дочери казанского стрельца Матрене во сне явилась Богородица, и Матрона указала место на пепелище, где находилась ее икона. На этом месте восьмого июля откопали икону, ничуть не пострадавшую. «Она сияла светлостью, – говорит летописец, – будто была писана новыми красками». Первым поднял икону священник Ермолай. И начались чудеса. Перед иконой прозрел казанский слепой Никита, и прочие. Но она даровала и духовное прозрение. Самое первое чудо от иконы – Ермолай стал самовидцем. Пятьдесят два года было тогда иерею Ермолаю, но время словно не коснулось его. Ермолаю, в свою очередь, явился образ будущего святителя и патриарха Гермогена, все святительское служение которого приходилось на тяжелые годы смуты. Роковой 1605 год Гермоген встретил в сане митрополита. 20 июня 1605 года в Москву въехал Григорий Отрепьев. А князь Богдан Вельский, опекун сыновей Ивана Грозного, торжественно поклялся, что Отрепьев – это, якобы, убиенный царевич Дмитрий. И что интересно, мать убиенного царевича Марфа Нагая признала в убиенном царевиче своего родного сына. Вот такая исторически привлекательная легенда. Ну, дальше было много чего. За год не расскажешь. И оккупация Москвы поляками, история с Мариной Мнишек, Семибоярщина. Восстание ополченцев, Минин и Пожарский. В общем, ложкой не выхлебать.
– Ну ты, Ваня, прямо этот у нас… профессор, честное слово, – пробасил пограничник-тракторист Виктор. – Тебе – лекции читать. Интересно говоришь. Я, признаюсь, книжки читать не люблю, а слушать люблю. Молодец, Иван. Молодец, ей-богу. Где ты только ума набрался?
– Имеющий глаза да увидит, – улыбнулся Иван.
– Вот такой у нас русский офицер, – с гордостью сказал мне, именно мне, Александр Иванович, чтобы я запомнил эти его слова на всю жизнь.
И я, откровенно говоря, запомнил.
На следующее утро я уже снова трясся в вертолете, но уже в обратном направлении. В пустом кармане теперь хранилась сделанная на прощание общая фотография с гостеприимными пограничниками. А рядом, на сидении, лежал пакет с подарками – рыба, икра, крабы. Плюс банка с брусничным вареньем, специально для меня сваренным радушной Софьей Ковалевской, то есть Ольгой Ивановной. Без этого бойцы опасного фронта просто не могли.
Я стал просматривать, как в кино, все свои новые впечатления. И вдруг остановил камеру, увидев себя в распахнутой куртке, развеваемой божественным дальневосточным ветром, развеваемой, – заметьте! – с нарочного соизволения Наблюдателя и не без согласия, конечно, подлого монаха. Вот откуда его подколодный вопрос: «Веселишься?» Мне стало понятно, кого ношу в кармане. Монах мог бы хоть как-то предупредить меня, остеречь как-то. Но куда там!.. Он ведь проводник и пособник. Ну допустим, мудрец. Допустим, провидец. Но ясное дело, и шишига тоже отчаянный.
Так-так-так.
Значит, вот он я, голубчик полосатый, стою себе на солнышке на легком ветерке. Нет, не стою, а двигаюсь мелким шагом, собираю бруснику. Кланяюсь ей на каждом шагу. Что дальше? Дальше – пожар и те же бешенные наклонные действия.
Внутренний карман куртки был, как я уже говорил, широким, портмоне – тяжеленьким, пухлым от денег на облет всей Чукотки, к тому же гладким на ощупь и, стало быть, скользким. И вот, спрашивается, чего бы ему, бумажнику, в наклонном моем состоянии да при хорошем порыве ветра не вывалиться наружу Все условия созданы. Он, понятно, взял и вывалился. Он, теперь стало ясно, мог вывалиться где угодно: на берегу ли, на сопке. Какая разница! Возможно, валяется себе бумажник под вековой лиственницей, и над ним тихо покачиваются красные ягодки брусники. Все это могло быть и так, и эдак, и еще как-нибудь.
Я вдруг почувствовал, что жаркое мое сердце тихо шипит и испаряется, словно капля на утюге.
– Господи, за что? – уныло спросил я пустоту. Хотелось отвернуться от мира и забыть все на свете.
– За что? – повторил я и достал из кармана пиджака костяного монаха. – Ответь, путник.
Монах был прохладным на ощупь, безразличным и потусторонним.
– Ответь! – крикнул я в порыве ярости, готовый вышвырнуть странника куда угодно.
«За что?» – неверный вопрос, – молвил путник. – Правильный вопрос: «Во имя чего?».
Меня словно окатили ведром холодной воды. Я задумался. Действительно, глупо спрашивать, за что ты наказан. Это и так ясно – грехов хватает. Другое дело, во имя чего совершается с нами то или иное. Опять же, лишь Наблюдатель знал, что предназначено. Но разве скажет Высший, ради чего случилось то, что случилось. Ради чего я сидел опустошенный, тяжело придавленный отчаянием, с тягучей головной болью, невидящими глазами и колючими толчками сердца. Сидел один, как приговоренный, на другом конце земли, не имея рядом ни родных, ни близких, ни даже знакомых – никого! Не было уже и друзей-пограничников.
В чаще острых и гулких мыслей мне вдруг подумалось, что боль моя – знамение чего-то, и вскоре может явиться нечто новое, неожиданное и яркое. Но что же мне теперь нужно было делать – сообразить я не мог.
Наконец, я добрался до гостиницы. Глянул в окно. В каменной бочке двора торжествующе дико орала ворона. Затем взмыла вверх с куском какой-то черной тряпки. Как с флагом.
Я не в состоянии был находиться в пустой зловещей комнате и, наскоро одевшись, выскочил на улицу. Все было враждебным. Пугающе двигались навстречу люди, глядя на меня осуждающими, презрительными глазами. Больно бил желтый свет фар. Небо укрылось непроницаемой могильной хмарью. Рухнули мечты, лопнула снежная Чукотка, улетела в неведомое пространство Бухта Провидения. Еще, слава Богу, стояла теплынь, но через неделю вполне мог пойти снег – не Ялта. Гостиница была оплачена по воскресенье, и уже завтра мне надлежало продлевать плату или переселяться неизвестно куда. Денег оставалось ровно на один день самого скромного существования. При всем моем понимании высших задач и конструкций, замысленных Наблюдателем, утешение не приходило. Я рванулся было позвонить в Москву Валентину, но был воскресный день, а его домашнего телефона у меня не имелось.
Голова тупо ныла, от голода сосало «под ложечкой», все вокруг было беспросветно мрачным. Как меня угораздило взять с собой бумажник? Непростительная глупость. Безрассудство. Расхлябанность. Несобранность и свинство по отношению к себе же. К своей мечте. Наконец, к будущей книге. Непочатые ее страницы так и останутся непочатыми. Запряженные в сани лайки понесутся по девственному снегу без меня. И вертолеты полетят над голой тундрой без меня. И пограничные катера помчатся вдоль берегов без меня. Все теперь без меня. Словно я умер и меня больше не будет. Но как же тогда светлый осенний день, океан, сопки, брусника, форель и корюшка?.. Пограничники, грохот моих кабаньих копыт, который, должно быть, еще звенит над прибрежной дорогой.
«Нет, – сказал я себе. – Все правильно. То, что свершилось, вероятно, должно было свершиться. Значит, так задумано. И нечего раскисать, пускать слюни. Не барышня. В конце концов, ты жив, дышишь, ловишь воздух ртом. Жадно дышишь, потому что любишь жизнь такой, какая она есть. И принимаешь в ней все: и хорошее, и плохое. Поскольку без одного нет другого. Все остальное – ерунда. Унынию – бой. Самый жестокий. Так как уныние, словно ржавчина, тихо разъедает веру, а без нее человек слеп и может запросто угодить в любую яму».
Я принял эти ниспосланные мысли как лекарство и поблагодарил за них Наблюдателя, потому что не кто иной, но Он был со мною. Он, так или иначе, был моим проводником. Моим Вергилием. И моим хранителем.
Не скажу, что тяжесть мгновенно слетела с моих плеч. Но она стала оползать, как, вероятно, талый снег с весенних сопок. Что ж, и на том спасибо. Во всяком случае, я облегченно вздохнул и ощутил зверский аппетит: как-никак, с утра не держал во рту ни крошки.
Неподалеку призывно-ярким огнем горело какое-то общепитовское заведение: то ли столовка, то ли пивнушка, то ли кафе – выбирать мне особо было нечего, на двадцать пять-то рубликов. Впрочем, на еду хватало.
Называлось заведение по-весеннему тепло: кафе «Ласточка», и я нырнул под крылышко этой стремительной, юркой птички.
Это было именно заведение. Кафе – не кафе. Столовка – не столовка. Заведение. Войдя сюда, человек обретал полную волю. Он мог заказать поесть и выпить, но если не нравились цены, то никто не препятствовал сбегать в ближайший магазин за дешевой бутылкой, а еду, при желании, не возбранялось принести даже из дома. Чем, как видно, в полную ширь предоставляемой свободы и пользовались посетители. На всех, почитай, столах по причине близости океана стояла чуть ли не обязательная банка красной икры, на газетках алела аккуратно нарезанная кета-горбуша, кое-где горками топорщилась лаковая скорлупа крабов. Одним словом – чем богаты… Стаканы, конечно, полнились магазинным разливом. Но бутылок нигде не было. Законность посетители уважали.
Я взял две порции котлет с жидким порошковым пюре, а на сдачу продавщица любезно предложила бутылку пива, которое тут же для удобства потребления перелила в пивную кружку, сказав, что бутылки на столах «не положены».
Я сел за пустой столик и, невзирая на благочинных прихожан, в одно мгновение проглотил первую порцию, чтобы потом спокойно посидеть со второй, поразмыслить о свалившемся на меня бремени. Что, мол, с этим бременем теперь делать и как его с наименьшими потерями куда-нибудь поскорее сбыть. Мысли мои, однако, были весьма туманны. Я запивал их мелкими глотками из кружки, но радужных картин не наблюдал.
Так, видимо, прошло немало времени, за которое я более или менее отрепетировал предстоящую встречу с главой впередсмотрящих Города – товарищем Придорожным. Должен же он, в конце концов, понять мое положение, посочувствовать и как-то посодействовать, чтобы это, прямо скажем, кислое положение как-нибудь поправить. Мало ли что с людьми случается на белом свете. Ну, виноват. Ну, потерял командировочное, деньги. Но не вешаться же мне на самом деле. Пускай я не поеду, как замышлялось, ни в Певек, ни в Анадырь, ни в чудесную Бухту Провидения, но наверняка и тут может найтись любая журналистская работа. Конечно, работа должна найтись. Как иначе? Не возвращаться же мне назад на дохлой кляче. Да и с чем? На что? На какие, главное дело, шиши? Нет! Все должно утрястись. Как-никак – из Москвы! Звонок Валентина Придорожный выслушал самолично. Зная же чиновничье-военную структуру подчинения нижних этажей верхним, я полагал, что товарищ Придорожный, уже ответив однажды на распоряжение Валентина «есть!», не нырнет в кусты, не умоет руки. Однако, как сложится все на самом деле, преждевременно судить было трудно.
Больше всего меня, понятно, мучило то, что я подвел Валентина. «Писатель твой, – скажут ему, – просто разгильдяй. А ты, дорогой товарищ Кириллов, безответственный человек и плохой, близорукий работник. Мы, понимаешь, доверяем тебе особо важную вахту работы с молодыми, так сказать, кадрами, а ты, Кириллов, допускаешь немыслимый в твоем положении недогляд. Это, товарищ Кириллов, – скажут Валентину, – мягко говоря, преступно. И, откровенно, чревато…»
Вот так, наверняка, обойдутся из-за меня с Валентином. Если не хуже. Не приведи, конечно, Господи.
Я представил себе официальный кабинет с тяжелым дубовым столом и сияющим портретом вождя на стене. Представил седовласого юношу – Валентина, понуро стоящего перед сытыми партийными бонзами, вынужденного раболепно выслушивать «правильную линию», хотя кроме разгильдяя меня у него и дома хватало забот с подрастающим поколением. Да и на всех живущих вокруг и рядом Вале было далеко не наплевать.
Эти думы корежили мне душу и, видимо, физиономия моя отражало то, что творилось внутри, как зеркало, потому как неожиданно кто-то тронул меня за плечо.
– Можно присоединиться? – спросил хрипловатый мужской голос и, не ожидая ответа, обладатель голоса присел за мой столик.
Парень был чуть старше меня. Темно-русый, скуластый, с промоинами на щеках и пронзительно синими, словно сделанными из дальнего моря, глазами. Он устроил на колени целлофановый пакет и не спеша достал из него имевшуюся провизию: красную икру, которая уже перестала меня удивлять здесь, рыбу, сушеный картофель и пачку сигарет. Все это мой сосед разложил по-хозяйски аккуратно, степенно, удобно, собираясь, видимо, отдыхать в «Ласточке» до закрытия. На меня он не взглянул ни разу. Потом встал и отправился к стойке за пивом. И уж когда поставил на стол две кружки янтарного напитка, произнес:
– Я сидел за дальним столиком, в углу, и все наблюдал за тобой. Извини, конечно. Наблюдал, поскольку все физиономии, в основном, знакомые. Из тутошних. А ты, я вижу, фигура новая. – Сосед открыл банку с икрой. – Угощайся. У нас, обрати внимание, пустыми в пивнушку не ходят. Не в упрек, конечно. Копай икру. Не стесняйся. И вот, стало быть, гляжу я на тебя и вижу: что-то с человеком не то. Что-то точит тебя, терзает. Будто сосет что-то изнутри. Так или нет?
– Сосет, – признался я. – Это верно.
Поделиться своей бедой мне было не с кем, и от этого тяжесть казалась еще тяжелее.
– Вот я и вижу, – утвердился сосед. – Будто корку сухую жуешь да все не прожуешь никак… Гена меня зовут, – открыл знакомство парень.
Я тоже представился и ощутил в пожатии крепкие костистые пальцы проницательного Гены. Ненароком подумал, что парень похож на следователя. Какого-нибудь местного Порфирия Петровича. Однако убиенной старушки за мной не числилось, и я не утерпел открыться, тем более этот неожиданный, природный следователь обладал столь мужественным, открытым лицом, столь выразительными чистыми глазами, такой хрипловато сочувственной теплотой в голосе, что не открыться ему в моем положении было просто невозможно.
– Сосет, – повторил я угрюмо. – Вообразите себе…
– Давай на «ты», – грубо прервал меня Гена. – Не люблю официоза. До Петра I и царям говорили «ты». «Здравствуй, Алексей Михайлович! Как ночевал?»
– Ладно, – согласился я. – Ну так вот. Прилетел из Москвы с командировкой на всю Чукотку – Певек, Анадырь, Бухта Провидения. Я – журналист, Гена. Хотелось пошататься по Северу. Написать об этом книжку. Прилетел, и первым делом – в командировку к пограничникам. Там, на сопке, собирал бруснику. Бумажник был во внутреннем кармане: деньги, удостоверение командировочное. Куртку расстегнул – тепло было. Потом у них пожар случился. Загорелся продовольственный склад. Тоже набегался со всеми до отвала. Нагибался, понятно, каждую минуту. Вернулся в гостиницу – пустой, как дудка. Ни командировки, ни денег. Выронил где-то бумажник, когда нагибался. Хорошо, паспорт в другом кармане лежал, сохранился. Вот такие, Гена, кислые пироги. Не до веселья. Завтра уже нечем за гостиницу платить. Двадцатка осталась. Что делать – ума не приложу. Ни знакомых, ни близких. На другом конце земли…
– Денег-то много потерял?
Я назвал сумму. Гена свистнул.
– Точно потерял? – взыскательно спросил новый знакомый. – Это Желтый Город. Тут публика разная, тебе еще не известная.
– Потерял бумажник – это ясно, – повторился я.
– Что собираешься делать?
Я пожал плечами.
– Вот что, журналист, – медленно проговорил он. – Я думаю, как помочь. Надо же выбираться тебе. Так или нет?
– Завтра отправлюсь к начальству, – сообщил я, не вполне уверенный в успехе. – Что решат – Бог знает.
– Они ничего не решат, – туманно выразился Гена. – Они хвосты, а решает голова. Отошлют тебя к тем, кто послал. Вот те и будут решать. Скорее всего, вылезать придется самому. Поэтому я и прикидываю, чем помочь. Давай, одним словом, завтра встретимся здесь, в это же время.
– Тебе-то, извини, что за охота? – спросил я уже чисто из журналистского интереса.
– Охота – пуще неволи, – еще загадочнее выразился «следователь». – Колыма – планета суровая. Тут каждый – волк-одиночка. Но если человек в беде, нужно спасать. Это святое.
Он встал и, не оглядываясь, развально-небрежной походкой направился к выходу.
Я поблагодарил Наблюдателя хоть за какую-то крупинку надежды и удалился ночевать, неся в себе целый куль впечатлений, словно весь день мне снились яркие, волнующие сны, а вот теперь я проснулся и вспоминал их все разом. И даже пытался истолковать пролетевшую явь, словно сон.
Утром с тяжелым сердцем я отправился к Придорожному. Василий встретил меня, как и в первый раз – начальственно, но широко. Вышел на середину кабинета. Встретил уже как старого приятеля.
– Ну рассказывайте, – не терпел он. – Как застава? Какие впечатления? Надеюсь, очерк получится хорошим.
– Все замечательно, – сказал я. – Но случилась беда. На заставе произошел пожар. Загорелся склад с продуктами. Я помогал его тушить. Ведром черпал воду из ручья. Нагибался. Пожар погасили. Но в какой-то моменту меня, видимо, выпал из куртки бумажник со всеми деньгами на облет Чукотки и командировочным удостоверением. Кроме того, собирал бруснику – тоже нагибался. Одним словом, бумажник потерян. Искал везде. Не нашел. Как быть – не знаю. Понятно, дальше мне лететь не на что. Но может быть, пока и здесь найдется какая-либо работа? А очерк о пограничниках, я уверен, получится хорошим. Что теперь делать, ума не приложу, – повторился я. – Осталась одна надежда – на вас.
Придорожный нахмурился и тупо уставился в стол, постукивая авторучкой о какую-то деловую папку.
– М-да, – вздохнул он. – Положение.
– Вот именно, – сказал я понуро. – Глупее не придумаешь.
Придорожный встал и подошел к окну – поразмыслить, как быть.
За тем окном в тихом золоте листьев так же, как и вчера, грелась осень. Она неспешно и плавно переселилась в день сегодняшний, и я подумал, что море на берегу, должно быть, столь же безмятежно спокойно и элегично. И оно, море, ничего, конечно, не может потерять, и нет над ним, кроме Бога, никаких начальников.
– Может, здесь, в городе найдется какая-нибудь журналистская работа, – снова выразил я слабую надежду.
– М-да, – ничего не обещая, произнес Владимир Александрович. – Я должен согласовать с руководством. Сами понимаете – дело нешуточное.
– Понимаю, – ответил я убито и почуял беспощадную уверенность в том, что здесь мне ничего не светит.
– Значит, так, – приступил к делу Придорожный. – Я сейчас свяжусь с кем надо. Позвоним в Москву. Ну и что-то будем решать. В общем, зайдите после обеда. Часа в три.
До трех часов была еще уйма времени, и мне захотелось снова навестить океан. Я сел на тот же автобус, с теми же немногочисленными моряками и благополучно, теперь уже без бумажника, докатил до порта. Я вернулся к океану, как к старому мудрому другу. И он впустил меня в свою ауру. В обитель света, шелеста волн, запаха и покоя.
Я снова брел по песку среди медуз и крабов, среди диковинных водорослей и кочевых серебряных рыбешек. Солоноватый дух океана врачевал мои раны. Нервы успокаивались. Передо мной стояла Вечность, рядом с которой все земное казалось пылью, прахом былых времен, а боль моя – промелькнувшей судорогой, не стоящей воспоминаний.
Я пил терпкий йодистый воздух, трогал рукой холодные волны, видел вдали парящий, сказочный остров и мне хотелось жить тут всегда. Иметь какой-нибудь бревенчатый, пахнущий сосною дом, какую-нибудь хибару вон за тем синим утесом, выходить каждое утро к морю, чтобы слушать его голос, полный мудрости и печали. Поскольку все проходит. И все остается. И как было, так и будет вовек. И нет прошлого. Нет будущего. А есть только одно ослепительно сияющее сегодня. Все остальное – суета сует.
Тем не менее, я невольно поглядывал по сторонам: вдруг случится чудо – и бумажник мой обнаружится где-то под камнем. Пусть мокрый, пусть обтрепанный, но мой, потерянный. Ведь я уже был тут. Увы… Сбыться тому было уже не суждено. Понятно, хотелось перепрыгнуть во вчера. Уж я бы, пожалуй, куртку не расстегнул. Или, еще лучше, оставил бы портмоне в гостинице. На кой, спрашивается, черт я взял с собой бумажник! Однако и эти самоедские рассуждения на древнем бреге теряли свою силу и власть. Бог с ним, со всем. Что случилось, то случилось. Как будет, так и будет. Никто не в силах что-либо повернуть вспять. Потому что все произошедшее разыграл Наблюдатель.
Я перестал заглядывать под камни, отдавшись теплому сентябрьскому солнцу, вылинявшей голубизне небес, легкому бризу и шуму волн – несмолкающему дыханию океана.
В ходьбе по песку я утомился и присел на гладкий, со всех сторон облизанный водою валун. И так сидел, глядя на горизонт и слушая бельканто чаек долго-долго, потому что вода, после огня, вторая завораживающая стихия, смотреть на которую можно бесконечно.
Около трех часов я снова вошел в кабинет Придорожного. Он уже не встречал меня радостно, как в первый раз посреди своих апартаментов. Он даже не поднял головы, когда я появился. Лишь хмуро, строго указал на стул. Придорожный рассеянно посмотрел на то место, куда я должен был сесть, как на гроб без покойника. Туманно вернулся к бумаге, на которой что-то перед этим писал. Я понял: дела мои пахнут керосином.
Придорожный мучился между мною и каким-то официальным текстом. В конце концов, мне надоела затянувшаяся пауза.
– Ну и какое вышло решение? – спросил я жестко, потому что океан вселил в меня покой и твердость. И сопротивление камням на дороге. В чем, собственно, я был виноват перед этим маленьким императором? И почему должен кланяться ему в ножки? Люди, случается, теряют все, что угодно: дружбу, любовь, жизнь, наконец. Так говорил майор, Александр Иванович. И был прав. Что в сравнении с этим несчастный бумажник?!
Придорожный положил авторучку и с ненавистью, которая совсем не клеилась к его широкому, доброму лицу, посмотрел на меня в упор. В свои молодые годы он, оказалось, уже овладел способностью смотреть на людей начальственно пренебрежительно, уничтожающе, в упор. Так, я уже знал, смотрят на противника перед тем, как нажать на курок.
Я выдержал его взгляд. Он лишь разозлил меня, и я услышал, как где-то неподалеку опять гремят мои кабаньи копыта.
– Решили, что со мной делать? – еще раз спросил я с некоторой иронией.
– Решили, – металлическим голосом сообщил Владимир Александрович. И тут его сорвало: – Не понимаю, – бросил он, грузно поднимаясь, пунцовый от внутреннего возмущения. Галстук его съехал набок. – Как можно так безответственно относиться (тут Придорожный вознес вверх толстый палец) к заданию Центрального Комитета. Я бы даже сказал: безобразно относиться! – Рабочая страсть воодушевляла Придорожного, воспламеняла его ум четкой поучительной ясностью профессионального демагога. – Вас, понимаете, направил Центральный Комитет, а вы после ответственного задания заявили о пропаже документов и денег. Предстояла, понимаете, такая серьезная работа в культурном, так сказать, плане воспитания молодежи. А вы, откровенно говоря, пустили все коту под хвост. Какое после этого, понимаете, может быть наше доверие. Я представляю, конечно, можно посеять авторучку, очки, десятку. Но три тысячи! Это уже, понимаете, слишком. Вы подвели в первую очередь товарища Кириллова, который, конечно, поручился. Подвели меня, так как я уже связался с людьми на местах. И, понятно, подвели себя. Поэтому никакой речи о дальнейших командировках быть не может. Наш второй секретарь товарищ Морозов так прямо и сказал: «Речи быть не может!» Понимаете? Мы связались с Москвой. Товарищ Кириллов очень огорчен. Очень. Одним словом, Москва сказала: «Отправляйте назад». Вот и все. Так что шлите телеграмму родственникам, родным. Пусть высылают вам на дорогу денег. И улетайте.
Придорожный померил ногами расстояние от стола до подоконника и повернулся ко мне лицом. Лоб у бедняги взмок от взыскующего усердия. Страсть еще не остыла в нем, и впередсмотрящий секретарь вспыхнул новым негодованием.
– Скажите спасибо, что вас еще не судят за растрату, хотя деньги, так или иначе, придется возвращать. Не дети, понимаете. Да в прежние времена знаете, что полагалось бы вам тут за такие вещи?!
Я поднялся, утомившись внимать дидактическому пафосу Придорожного.
– Послушай, сынок, – сказал я. – А не пошел бы ты…
И вышел, жестко хлопнув дверью. Меня тошнило от кучи чиновничьего дерьма, которое вывалил на меня «друг, товарищ и брат» – ясноликий Придорожный.
Я вылетел на улицу этаким взъерошенным петухом, но совершенно опустошенным.
Дул пронизывающий ветер и по небу неслись сизые тучи, наползая время от времени на солнце, отчего город то мгновенно погружался в темень, то снова вспыхивал ярким светом.
Я шел неведомо куда. Так просто шел себе и шел, потому что конкретного пункта не было. Командировка моя, как теперь было очевидно, рухнула. Сгорела дотла. Место проживания отсчитывало последние часы. В кармане оставались жалкие гроши, а Москва была ой, как далеко. Да и что ей, Москве, до меня? Я должен был вернуться на белом коне, а возвращался, получалось, на дохлой кляче.
Ноги сами вывели меня к центральному телеграфу. Я решил на последние деньги позвонить Валентину. Конечно, нужно было позвонить. Во-первых, потому, что звонить больше было некому. Во-вторых, еще тлела во мне последняя надежда – а вдруг. Вдруг что-то изменится, повернется вспять. Ведь он, Валентин, там, у кормила. На капитанском мостике. Хоть и не сам капитан, но все же.
Соединился с Москвой я неожиданно быстро. Слышно было на удивление хорошо. Как из соседней комнаты. Сбивчиво, перекатываясь через волнение, я начал повествовать Валентину о своей горемычной доле, но он прервал меня, так как ему уже была известна моя история. Не жестко перебил меня Валентин, не убийственно строго, не укоряюще. Скорее, сочувственно прервал. Как руку подал. И вот этого я никогда не забуду.
– Чем сейчас занимаешься? – спросил Валентин после нескольких теплых, утешительных слов, которых теперь и не припомнить.
– Горюю, – сказал.
– Брось, – посоветовал Валя. – Плюнь на все. Главное – ты жив, здоров. Лично я помочь с вылетом не могу: семья, дети. Сам понимаешь. Но там, в Желтом, в Союзе Писателей, есть поэт – Ваня Плетнев. Он ходит первым помощником капитана на сейнере «Славный». Найди его и передай от меня привет. Он что-нибудь придумает. В крайнем случае, шагай в порт. Ты парень крепкий. Платят, я думаю, там неплохо. Погрузишь чего-нибудь и вернешься. Опять же – впечатления. Не падай духом. На Придорожного не серчай. Он – фигура мелкая. С него потребуют, он ответит: «Есть!». И больше ничего. Так что держись! Не вешай нос! Опять же, не забудь насчет чайки. Все. Обнимаю. Звони.
Я вышел из телеграфа облегченно радостным. Гора, висевшая на плечах, обрушилась в телефонной будке. Глотнул свежего воздуха и вдруг почувствовал, что голоден, как последняя дворняга. У меня оставалась еще какая-то мелочь. Из соображений экономии купил бутылку кефира и булку.
Пока я рвал зубами мягкий хлеб, в голове моей переворачивались два румяных Валиных варианта: либо идти в Союз Писателей на поиски поэта-моряка, либо прямиком шагать в грузовой порт, чтобы предложить себя в качестве тягловой силы. Второе мне было милее. Моряк, тем более поэт, Ваня Плетнев, конечно, – я был в этом уверен, – не остался бы безучастным, как зомбированный секретарь Придорожный, у которого все было или «положено» или «не положено». Но мне не хотелось никому быть обязанным. Ни от кого не хотелось зависеть. В отношении порта, правда, тут же назревал насущный вопрос: где ночевать? Проживание в гостинице кончилось. Поэтому, как ни заманчивее казался порт, предпочтительнее по всем пунктам выходил Ваня Плетнев. На совсем уж худой конец оставался Гена из «Ласточки».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































