Текст книги "Ворожей (сборник)"
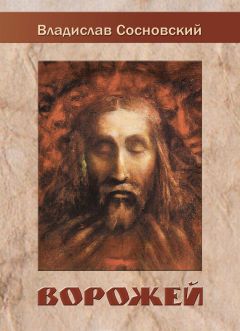
Автор книги: Владислав Сосновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
– Тула, Калуга, Ярославль, Новгород – все русская земля, – пространно сказал Борис. – Здесь, а не где-нибудь, душа Петра Ильича Чайковского наливалась восторгом и печалью, тоской и счастьем. Все это переплелось под его пером и стало бессмертным.
– Да, Лапа, – тихо сказала Тамара. И, помолчав, добавила: – кстати, нотная тетрадь, даже три, лежат на дне клетчатого чемодана. Это к тому, что если тебе срочно понадо…
Борис быстро повернулся и благодарно поцеловал Тамару в губы, а затем жарко выдохнул:
– Любимая моя. Ты не знаешь, как я… какие у меня внутри… Ты моя единственная. Милая моя. Хорошая.
Речка была недалеко. Борис на потеху местным жителям начал бегать по утрам в одних шортах на берег, где уже сидели с самодельными, выструганными до костяной белизны удочками деревенские мальчишки.
Он бросался в прохладную, плавную воду, плыл и возвращал себе былую, юную силу. Удил рыбу и частенько возвращался с вязанкой крупной серебристой плотвы. Попадался полосатый окунь, лещ, щука. Дни казались одним светлым праздником.
Женщины, баба Наташа с Тамарой, встречали солнце, копаясь в огороде. Две согбенные фигуры, два повернутых на запад, оттопыренных зада среди сверкавшей от росы зелени напоминали о старине и вечности.
Дом всемирной старушки был старше хозяйки, но держался еще ровно, молодцевато и даже как-то хвастливо, возвышаясь над соседскими избами. Нижний этаж его состоял из просторной зимней комнаты с широкой, топившейся дровами русской печью и двух летних террас. Второй, подкрышный, где обосновались Тамара с Борисом, представлял собою обширную, пахнущую деревом и старыми тряпками мансарду. Тут баба Наташа имела склад из двух доисторических сундуков, березовых веретен, прялок, кос, икон и древних книг с маслянисто-желтыми, как осетрина, страницами. По углам, молчаливо насупившись, сидели в полумраке четыре почтенных, пожилых дивана. На одном из них и ночевали теперь опальные музыканты.
Днем в мансарде было душно и неуютно. Монотонно зудели мухи, и от жары было трудно дышать. Зато ночью дневное тепло выветривалось до самого утра, а в окне, как в стоячей черной воде, покоились, что хрустальные яблоки, совсем близкие звезды, с которых на Бориса постоянно слетали нежные, запредельные мелодии, плывущие от неведомых, искрящихся созвездий. Хаос, вражду, ложь, убийства, жажду власти, тлен и гниль настоящего – все смывали они, поселяя в душе завещанные Богом любовь к миру и вселенский покой.
Зимнее летнее помещение вечной бабы Наташи имело ту же антикварную мебель, доковылявшую до насущных дней из глубин истории: две кровати-лежанки, да шкаф, да стол, да сундук с приданым для малой внучки, да еще один стол с тарелками-кастрюлями и, конечно, предмет современности – огромный, как собачья конура, ламповый телевизор. Стены украшались коврами над каждой кроватью. Один являл собой традиционный восточный орнамент на красном фоне. Другой изображал забаву праздных дворян – княжескую охоту на оленя. Борис смотрел на эту животрепещущую картину, где рогатую жертву настигала стая гончих псов, и слышал лай собак, топот копыт да козий голос близкого рожка. Так ясно ощутим был далекий приют одинокой избы на краю бездны.
По ночам дом просыпался. Он вздыхал, кряхтел, и шуршал чем-то в подкрышных углах.
«Домовой», – в сладком ужасе шептала Тамара и, тихонько смеясь, теснее прижималась к Борису. Однако все шорохи и скрипы вскоре перебивались оглушительным волшебным боем соловьев. Ночные птицы радостно захлебывались в тягучих признаниях своим возлюбленным, таившимся в фосфорической, цветущей мгле.
Эти звонкие, яркие, как одуванчики, голоса, чердачные скрипы, ровное дыхание сосен, свежий аромат полей, плеск воды и щебет ранней птахи – все это были трепетные голоса родины, которые Борис бережно помещал в сердце для ощущения будущих мелодий, точно зная, что ни в каких Бразилиях и Америках ничего подобного не сыщешь. «Вот уж верно говорят: “Что Бог ни делает – все к лучшему”», – думалось Борису Не уволь их Степанов из оркестра, бегали бы они сейчас, обливаясь потом, по чуждой территории с пудовыми чемоданами так, может быть, и не узнав ни запахов, ни красок, ни звуков родной земли.
В начале лета, после весело прокатившихся гроз, луга и лесные поляны взошли густым разнотравьем. Тамара неожиданно открыла Борису свои знания растений.
– Вот эти белые блюдечки на крепких высоких стеблях, – просвещала она, – тысячелистник. Запаха в нем нет, но трава очень полезная. Вот, смотри, желтые свечи – зверобой. Травка замечательная. От всех болезней. Можно заваривать как чай. Синие свечки – шпорник. Эти розовые – дикая мальва. Вот подмаренник. А вот, гляди, Лапа, белые, как снежок – поповник. Сколько их тут! Мамочка родная! – вскрикивала Тамара, как девочка, ощущая приплывшее из далекого детства счастье и забывая обо всем на свете.
Борису бывало стыдно, что он не знает названий диких трав и цветов своей родины, но и он светлел душою за Тамару, которая порхала в пестром разноцветье, как вольная бабочка.
В каждом походе она набирала огромные букеты, и дом всемирной старушки теперь походил на какой-нибудь цветочный павильон, купавшийся в густом запахе лугов и лесных угодий.
В это время Борис с Тамарой любили друг друга как никогда прежде: такими насыщенными и сверкающими были их дни и ночи. Все звуки, запахи, краски, невольно собранные с раздольного поля, таинственного озера, задумчивого леса, сливались в единую, нежную мелодию, которой оба – и Борис, и Тамара – беззвучно пользовались как инструментом любви и страсти. В ласках своих они словно пели друг другу сокровенную песню сердца. Время отмерялось жарким боем в висках и петушиными криками звонких кочетов, мирно дремавших до поры в синих сумерках деревенских подворий.
Борис тайком добрался-таки до нотной бумаги. Как-то поутру он проснулся в радостном, счастливом настроении. Тамары не было. Скорее всего, она с бабой Наташей совершала извечный, кропотливый труд по прополке огорода.
Толстое, румяное солнце сидело, как рыжая кошка на заборе дальней рощи.
Борис достал клетчатый, похожий на шахматную доску, чемодан и извлек из него нотную тетрадь. Он перевернул обложку и посмотрел на чистую разлинованную страницу. Сильная, как упругий ветер, мелодия шумела в его голове еще с ночи. Но она летела не от леса и поля, не от цветочного луга и реки; она спускалась откуда-то сверху, с горних высот, от той ясной звезды, что еще бледнела в глубоком небе поодаль от проснувшегося, умытого солнца. Однако мелодия, проникавшая в Бориса, имела в каждой ноте и запах теплой хвои, и легкий шепот берез, и травяной шорох дождя, и закатный свет пурпурных облаков. А кроме того, слетевшая музыка содержала в себе все пережитое: счастье побед, горечь изгнания, боль, опустошение, одиночество, жажду любви и смерти.
Борис ощутил все это сразу, содрогнулся, как от озноба, ибо то, что он почувствовал и услышал сейчас, необходимо было вынести на чистый лист бумаги. Он же, этот лист, сияя дразнящей белизной, был заведомо гениален. И Борис испугался. Испугался собственной растерянности. С ним никогда такого не было. Конечно, он сочинял прежде и пьесы, и песни, и композиции, но то, что слышалось нынче, было объемнее, значительнее, строже и весомее.
Борис взял карандаш, но коснуться бумаги все не решался. Он откинулся на стуле и замер. Музыка невидимой бархатной птицей летала под самой крышей.
Борис, как чуткий охотник, притаившийся за кустом, напряженно слушал мелодию, боясь спугнуть хоть одну ноту. Наконец, сверкающая серебристым огнем, птица уселась на отбеленную деревянную прялку и требовательно взглянула на музыканта опаловым глазом. Борис очнулся. Он коснулся бумаги и начал жадно записывать, выносить на тонкие нотные строчки все услышанное. Сладкое упоение охватило его. Черные точки нот, перехваченные стремительными штрихами, то резко взлетали вверх, то падали вниз, утверждая ниспосланную кем-то музыкальную тему. Кто посылал ее, кто одаривал – было понятно, и это понимание окрыляло, оно-то и давало ощущение высшего блаженства. Нездешнее единение с тем щедрым Дарителем, имя которому – Бог. Впервые Борис так жарко и так явно ощутил близость мирового пространства, сплетенного с цветистыми красками родной земли. Фосфорический сонм роящейся звездной мглы вбирал в себя нечто загадочное, праздничное и в то же время туманное, непостижимое и потому печальное. Все это клубилось и пылало огненными соцветиями в распахнувшихся настежь окнах слуха. Бориса ударила, обожгла чья-то мощная, как молния, сияющая энергия, и он, не выдержав крика сердца, уронил на страницы нечаянные слезы счастья. Это была гроза, гром, ужас бешеного бега под чугунными тучами вместе с радостью ощущать на себе первые капли дождя.
До этого момента музыкант-Борис, исполняя чужие произведения, конечно, испытывал светлые, яркие минуты восхищения тем или иным композитором. Однако постичь во всей глубине, что значит создать самому, услышать всем существом, ощутить в себе горячую кровь Бога и в счастливом страхе понять: именно эта кровь проливается на страницы, Его страницы, – вот этого всего Борис, конечно, прежде не испытывал. Теперь он знал это. Теперь он знал, что есть высший труд, рожденный вдохновением, той властной силой, которая именуется творчеством. Она, как груженый товарняк, проносилась мимо, грохоча и железно вздрагивая на стыках новых озарений, обдавая раскаленным дыханием огненной лавы, чтобы, пролетев будто ураган, оставить слуху тишину, шепот травы и щебет высокой птахи. Все сие и был Бог. И данное Им. И Жизнь. И счастье. И слава. Падение. Любовь.
Борис оторвался от исписанных страниц в счастливой усталости. Откинулся на спинку скрипучего стула, осознав вдруг, что работа только начинается, а все происшедшее – космический зов, протянутая сверху, бесплотная рука, перламутровый остров в синем океане, серебряный крест, провисший в небесах.
Солнце стояло уже высоко. Пуховые облака легкой чередой вселенских невест тихо плыли мимо распахнутого окна. По извилистым морщинам старого подоконника задумчиво двигалась божья коровка. Красное платьице в черную крапинку. О чем она думала? Какую слышала музыку?
Внизу напевно заскрипела половица. Борис вдруг заметил, что стал придавать особое значение всему. Раньше просто осязал, чувствовал, слышал. Теперь же окружающее наполнилось особым, светящимся смыслом. И восторженный вскрик половицы, и нарядная божья коровка, и трещины на старом подоконнике говорили другими, новыми голосами, в которых слышался музыканту неведомый ранее, глубинный хор жизни.
Борис поднялся, подошел к окну и, сплетя руки за головой, вдохнул свежий, юный запах утра.
– Как хорошо! – очарованно произнес он и вдруг снова услышал звуки мелодии, – продолжение того, что записывал. Точно ужаленный, уже не раздумывая ни о чем, Борис бросился к столу, ибо с тревогой и страхом понял – дарованное свыше так же текуче, как далекие облака в голубых небесах.
Тамара застала мужа сидящим за столом, с упавшей на руки головой. Он рыдал. Плечи вздрагивали. От этого вздрагивала старинная, бог весть откуда взявшаяся китайская статуэтка. И качала головой. И вздрагивала авторучка на очередной исписанной странице. Повсюду: на столе, полу и подоконнике были разбросаны засыпанные мелкими нотными знаками свежие листы.
Тамара бросила на диван, принесенный с поля пышный букет и подошла к Борису. Она, конечно, поняла: он начал работать; но что вызвало трагические слезы – ей понять было трудно. А точнее сказать – невозможно.
– Ну что ты, Лапа? Что ты? – нежно теребила она волосы Бориса, испытывая щемящую боль. – Перестань, а то я сама заплачу.
Борис повернул к ней мокрое лицо и, не стесняясь влаги на щеках, жарко заговорил.
– Представь, Лапуля, я никогда не знал, что такое настоящее счастье. Ты – это другое. Земное, ощутимое, реальное, близкое. Ты – это прекрасно! Это любовь. Радость встреч. Тоска расставаний. Огонь и прохлада. Цветы, ветер. Страсть, нежность, ласка – все это ты. Единственная, очаровательная, волшебная, неповторимая. Но счастье!.. Даже там, в Нью-Йорке, помнишь? Когда у нас был потрясающий успех. А потом в Париже, Риме, Токио… нам казалось – мы счастливы. Обожание, деньги, шикарная жизнь. Весь мир под ногами. И все же, то не было счастьем. Я это понял вот здесь, за этим дубовым, допотопным столом. То была слава. Ее сладкий яд. Шипенье «Шампанского» и парчовая змеиная кожа на плечах полуобнаженных женщин. А слава, как сказал поэт – лишь яркая заплата на ветхом рубище певца. Нет! Счастье здесь. За этим шатким столом. В тиши затерянной, убогой деревни. Убогой, но чистой и святой. Все почему-то понимают Достоевского буквально. Да, красота спасет мир. Она – критерий и мерило. Но что за этим стоит – мало кому приходит в голову. Когда-то давно, еще на первом курсе Консерватории, я натолкнулся в «Фаусте» на одну фразу. Там, у Гете, есть персонаж – ведьма Фаркиада. И вот она говорит: «Стара и все же не стареет истина, что красота несовместима с совестью».
Тамара улыбнулась, видя творческий запал во всем состоянии мужа и, ласково погладив его по щеке, отошла к цветам. Их нужно было подрезать и поставить в вазу.
– Так вот, представляешь, Лапуля, – все больше распалялся Борис. – Красота несовместима с совестью. Можешь ты расшифровать сию мудрость?
Тамара прервалась орудовать ножницами, немного подумала, наконец, сказала:
– Не знаю, Лапа. Честно сказать, не знаю. Так, сразу не донырнуть. Это какая-то глубинная мысль.
– Вот! – обрадовано воскликнул Борис. – Я носился с этой фразой, как дурень со ступой. К кому только не приставал. И к друзьям, и к преподавателям, и к профессорам. И все либо витали в облаках, упражняясь в софистике, либо также пожимали плечами. Прошло несколько лет. И вот однажды, гостя у школьного друга в деревне Тверской губернии, – там у него жили родственники, – я сидел под вечер на опушке леса вместе с другом, Олегом, и местным пастухом, – таким, знаешь, неказистым с виду мужичком, всю жизнь прожившим возле скотины среди поля и леса. Помню, очень живописно заходило солнце и густо, ароматно пахло клевером. Золотое поле, золоченые верхушки сосен и налитое горячей медью озеро. Красиво, правда? Сидим, закусываем. Грибы, сало, мокрый лук. Бутылочка, как водится, при нас. Болтаем о том, о сем. И вдруг мне показалось, как-то мудро разговаривает этот пастух. Я возьми и спроси его, мол, как ты, Егорыч, расшифруешь такое философское слово, что «красота несовместима с совестью? И вот этот самый Егорыч, ни минуты не размышляя, отвечает: «Чего ж тут расшифровывать»? Вон, гляди, красно солнышко, лес синий, озеро с карасями. Красота все это. Красота от Бога. Святая. Безгрешная. А совесть всю жизнь бьется в искуплении. Ибо там не то сделал, тут не так ступил. Опять чего-нибудь нарушил. И выходит тебе, что красота, беспорочная, несовместима с совестью. Вот такое, мол, получается расшифрование. Словом, Лапуля, одним росчерком народный мудрец Егорыч все поставил на свои места. Открыл то, что не могли профессора. Поэтому, я думаю, Федор Михайлович под красотой, конечно, имел в виду, в первую очередь, святость, чистоту и безгрешие, присущие истинной красоте. А понял я это здесь, в этой комнате, когда записывал то, что скатилось на меня с небес. Видишь, какой тут божественный кавардак, – указал Борис на разбросанные страницы. – Все это – счастье. Это работа. И я доведу ее к осени до конца. Для меня это очень важно, Лапуля. И серьезно. Ответственно. В этом, может быть, смысл жизни. Понимаешь? Может, и лучше, что Степанов репрессировал нас.
– Может быть, – туманно согласилась Тамара. Она принесла вазу, поставила в нее букет, расправила для большей прелести цветы и спросила в никуда: – Почему Господь не дает нам детей?
– Что? – сказал Борис, разглядывая последнюю страницу.
От этих пор все в доме переменилось. Внешне перемена казалась вроде бы незаметной.
Все шло своим чередом. Женщины, встречая солнце, копались в огороде. Неспешно бродили по двору, поклевывая почву, куры. Гремела цепь колодца. Лаял на кого-то дураковатый пес Жора, прозванный так из-за своего хронического крокодильего аппетита. Но все стало приглушеннее, тише, осторожнее потому лишь, что теперь с раннего утра и до позднего вечера в скрипучей комнате второго этажа сидел Борис и, ловя из воздуха музыку, помещал ее на нотную бумагу.
Музыканты знают, что без инструмента композитору работать весьма непросто, а порой – и вовсе невозможно. Однако у Бориса был, что называется, абсолютный слух, хотя при этом ему нужна была хотя бы относительная тишина. Тамара, разумеется, это понимала, и свое понимание сообщила всемирной старушке, бабе Наташе. Старушка трудно представляла себе, что можно выловить из атмосферы. И все-таки, уважая тайные процессы от Бога, прониклась к Борису глубоким почтением за его немыслимую деятельность, стала ходить, говорить и ворочаться тише, даже храпеть по ночам прекратила.
Борис, несмотря на отсутствие инструмента, работал пылко, с упоением и восторгом оттого, что в мире существует некий, никому не видимый кокон, из которого рождается чудесная бабочка – музыка, и ему, Борису, дозволено эти священные роды принимать. Незримый и запредельный процесс этот был хрупок, нежен, трепетен, но тем слаще и дороже он казался творцу, который видел, слышал и чувствовал на пальцах своих пыльцу от крыльев того прекрасного махаона. В его руках, руках музыканта, трепетал и вращал лиловыми глазами младенец озвученного Святого Духа. На Бориса пролилось золотое молоко неба, приправленное красочными звуками Вселенной. От этого вполне можно было сойти с ума или оглохнуть. Только первозданный иммунитет давал Борису силы выдержать счастье обладания.
Отныне он бегал по утрам не для праздного удовольствия с рыбалкой и пространным наблюдением за деревенскими мальчишками. Но вдали все же виделись травянистые призраки Мусатовских нимф, а где-то вдали время от времени вспыхивал кнут погонщика-пастуха.
Теперь Борис, наскоро омывшись в озере после галопа по бархатно-пыльной дороге, торопился, как воробей, под крышу – к заветному столу, где в одно мгновение все сущее отлетало прочь, а мир превращался в гармонично звучащее пространство, которое следовало лишь аккуратно переносить на бумагу.
Женщины в течение дня ходили на цыпочках, говорили шепотом, не гремели, не звенели и не бренчали. Все громкие работы отныне производились во дворе, в дальней беседке густого сада. Да и то – осторожно, в пол шума.
Всемирная старушка строго наказала бестолковому Жоре: «Ты, Антихрист, изыдь в будку и сиди в безмолвии. Не то я тебя, дурака, доской заколочу навечно. Тявкаешь на каждого жука без всякой мысли. А тута люди музыку делають».
Иной раз, правда, главная мелодия давала работе перерыв. Что-то у них там случалось наверху. Какая-то большая перемена. Звуки вымирали и, как Борис ни старался, ни одну ноту достать из небесного омута не мог. Тогда, разумно понимая такое положение, он собирал написанное, благоговейно складывал листы в пухлую стопку и шел в поле, в лес, где сердце его наливалось дополнительным восторгом от вида живых, тепло дышащих цветов, ветряного шума листвы и озабоченных голосов птиц, уже кормивших потомство.
Борис садился на пень и рассматривал траву, пытаясь услышать и ее звучание, наблюдал шевеление муравейника, который тоже имел свою трудовую песню. Неожиданно в этот разноголосый хор вклинивался скрип березового ствола, дятел начинал выстукивать однообразно музыкальное соло и в чаще пела милую арию кукушка. Все это тоже имело значение и снабжало Бориса особой радостью отдыха. Насытившись деятельной природой, он опять торопился под своды своей мастерской, зная точно – перерыв закончился, и ему снова будут даны жаркие темы и горячие звуки для ковки необыкновенного произведения. А что оно станет необыкновенным, Борис не сомневался. Иначе, зачем тронул его перстом тот верховный Даритель? Зачем проник со свирелью в самое сердце волшебный Пан? Для чего обвили Бориса пышными волосами зеленокудрые феи?
Вечерами, теплыми, прекрасными вечерами, когда после захода солнца стихали птицы и начинали, может быть, от скорби по Светилу, нежно и печально пахнуть цветы, щедро рассаженные повсюду всемирной старушкой, Борис в счастливой усталости спускался в сад. На столе, покрытом белой, вышитой по краям скатертью уже стоял зеленовато-медный самовар со слабыми отблесками на боках последней, алой зари. Под голубыми звездами они усаживались за нарядный стол, и Борис, встретившись нечаянно с взглядом Тамары, с ее легкой, обещающей полуулыбкой, испытывал новые токи, движение иной энергии, которая горячила кровь радостным предчувствием пылкой чудесной ночи.
Баба Наташа всякий раз тешила их рассказами из деревенской и личной жизни.
– Я когда бывала молодая, – повествовала веселая старушка, – на мене кажный раз жар находил. Как какой-всякий парень с под бровей поглядить, мене тут жа у пыл кидаить. Аж вода по спине тикет. Прямо спасу не знала. Что ты!.. Девка я была красивая, но окаянная.
– Как это?
– Да так. Жалости до их, кобелей, никакой не имела. Потому чего жа было бы, когда у мене внутри организма духовка такая имелась. У, мил, что ты… Уж потом, когда мы с Колей моим на строительстве схлестнулись, когда я сама-перьвая до его бечь была готовая, тут уж, конечно, я контроль стратила. Но слава Богу, Коля мой, правду сказать, не такой-сякой, кривой был. Не кинул мене, как бываить. А бываить, милый, что ты! Бабы зубами подушки порвуть, порвуть да и в прорву. Под воду. Или еще куды. Вот, знаешь, у нас на деревне была одна…
И потечет, покатится за полночь длинная история про «ту одну», что была на деревне»… Все сильнее пахнут цветы сквозь прохладу мглы, все ярче горят в черных проемах ветвей серебряные звезды да трескучий от мотыльков оранжевый фонарь бархатно освещает таинственную, мохнатую зелень сада.
А потом наступали ночи. Трепетные, безумные, страстные. Словно из другой жизни. Будто в этой жизни таких ночей, такой любви быть не могло. Но она была, их любовь. Тонула в одуряющих синих облаках флоксов и вспыхивала под звуки свирели все того же лукавого Пана. И звезды, кипящие в сиявшей парче, роились над головами, а чуткая тишина глотала счастливые стоны. Пахло сеном недалекого стога. Тихо мерцало призрачное убежище на берегу мирового океана.
Так незаметно подкралась осень. Пожилая листва стала опадать под лучами усталого, безразличного солнца. Она тут же высыхала и хрустела под ногами.
Пошли сначала легкие, потом затяжные грибные дожди. Сад опустел, но провис яркими тяжелыми плодами. Баба Наташа каждый день приносила по корзине влажных от росы, крепких грибов. Она их солила, мариновала, жарила и тушила. Весь дом пропах лесом.
Борис, наконец, поставил точку. Вывел на обложке первой тетради название своего сочинения – «Сад» и откинулся со вздохом облегчения на скрипучем кресле. Разумеется, работа была еще далека от завершения. Но основное казалось сделанным. Две части симфонии лежали на столе. Еще можно было что-то добавить, поправить в закрывшихся тетрадях, но пришло опустошение. Счастливая усталость, какая, видимо, бывает у женщин после родов. Впервые за все время Борису захотелось выпить. Но он отогнал и мысль, и желание прочь. Нужно было собираться в дорогу. В Москве же предстояли встречи с издателями, музыкантами, руководителями оркестров. Требовалось выглядеть так, как выглядел Борис к исходу лета – гладким, посвежевшим с атласной кожей лица и светлым, спокойным блеском глаз.
Уже хотелось новизны. Музыкальных новостей, столичного шума, толкотни в кулуарах, концертов, грохота аплодисментов и даже – сплетен. К тому же Борис с Тамарой привыкли к перелетам, переездам, сменам мест и обстановок. Но в то же время до боли жалко было покидать места, так ярко одарившие их счастьем, вдохновением и любовью.
Баба Наташа тяжело загрустила. Она подходила к окну, упиралась локтями в подоконник и подолгу наблюдала, как гоняет ветер по дороге сухие, дурашливые листья или уходят в пелену мутного дождя землистые деревенские избы. Говорила она теперь совсем мало. Даже веселую новость о том, что соседский козел покрыл овечку, а та как ни в чем ни бывало принесла двух ягнят, поведала не улыбнувшись, так, словно это было вполне рядовое событие.
Вечерами она, помельчавшая в последние дни телом, усаживалась с вязанием к столу. На ней постоянно был черный в красных цветах, – тоже, видимо, всемирный – платок. Как-то, не глядя ни на кого, баба Наташа грустно спросила:
– Адрес-то хоть оставите?
Тамара поспешила успокоить ее.
– Не то помру, – объяснила всемирная старушка. – Чтоб соседи знали, куда телеграмму отбить. Они-то похоронют, но вдруг и вы захочете почеломкаться на прощание.
Смотреть на бабу Наташу, конечно, было больно. С отъездом Тамары и Бориса она оставалась совсем одна. Муж умер давно. Два сына погибли на восточной границе. Дочь осела где-то в Соединенных Штатах, даже не сообщив координат.
Тамара с Борисом утешали беспокойную старушку как могли, – ей о ту пору стукнуло, слава богу, восемьдесят семь годков. Но утешения утешениями, а час разлуки наступил. Баба Наташа выволокла из-под подпольного погреба, ударившего всех могильной сыростью, кучу банок с солениями, варениями, приправами и, несмотря на яростные сопротивления Тамары, затолкала банки в сумку, которая тяжелой ношей легла на плечи Бориса.
Выйдя заранее, они долго ожидали маленький деревенский автобус. Прохладное солнце серебрило волосы всемирной старушки, бабы Наташи. Борис подумал, что в его «Саду» наверняка есть ее голос. Радостным, жизнеутверждающим лучом блуждает он где-то среди прочих звуков. Старушка была задумчива, но светла и беспечальна.
– Что тама, интересно, за тем окоемом? – спросила она своих родственников и всю окружающую природу.
– За горизонтом есть другой, – туманно ответила Тамара.
– Другого нет, – убежденно ответила баба Наташа. – Это кажется, что он есть. На самом деле – черта только одна. Понимаешь такую глупость?
– Смотрите, – сказал Борис. – Вон тот жучок на дальней дороге – наш автобус.
– Ну, – весело сказала баба Наташа. – Храни вас Господь!
Она поцеловала Тамару с Борисом сухонькими губами и обратила прищуренные в сетке морщин глаза к неяркому, усталому солнцу.
Московская квартира встретила хозяев застоявшимся запахом пыли, обойной бумаги и линолеума. За окном моросил мелкий, сонный дождь, словно шептавший: «Все, ребята. Счастье кончилось». И сразу явилось печальное ощущение, будто никуда не уезжали, и никакого чудесного лета не было вовсе. Однако властная энергия деревенской жизни еще жарко питала каждого, а потому, коротко взгрустнув, стали разбирать вещи.
Вечером, когда Тамара белым приведением удалилась в ванную, Борис выключил все электроприборы, источавшие звук, решив выявить, чем отличаются московские каналы связи с Дарителем от деревенских. Он долго настраивался на волну, прислушивался, но кроме какофонии, визга, рычания и железного стука за стеной ничего выявить не смог. Каналы столицы сплошь были забиты звуковым хламом и мусором.
Борис с нежностью провел по своим тетрадям, храня в душе ласку воспоминаний о травах, птицах и цветах глубинной родины. Сейчас ничего не было дороже этих воспоминаний. Даже экзотика дальних странствий казалась в сравнении мелкой и пустой, так… сувенирные погремушки. Чего-то дорогого сердцу в них не ощущалось. Борис пожалел всех городских композиторов и поразился мужеству и стойкости этих людей.
Следующий день он посвятил тому, что еще раз, теперь уже с баяном, прокатился по своим записям и, не найдя в них ничего, кроме радости былого контакта с Создателем, подарившего ему столько звуковых соцветий, к вечеру осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, закрыл последний нотный альбом. У него было ощущение, словно он только что видел радугу над парным озером возле дома всемирной старушки и она, эта радуга, все еще сияла в воображении всеми цветами спектра.
Борис снова услышал вкрадчивый шум листвы, бархатный шепот трав, безудержный грохот ливня и оглушительный, рвущий небо на части треск молнии, а затем властно строгий рокот грома, услышал серебряно-тонкий перезвон крупных, как яблоки, звезд, которых никогда не было, да и не могло быть в городе. Услышал те близкие сердцу звуки, какими полнилась душа и нотные тетради.
Поутру Тамара достала дорогой, купленный в Париже костюм супруга, выгладила рубашку и галстук. Борис преобразился. В деревне он ходил в старых спортивных штанах, при надобности – в фуфайке и сапогах. Да что говорить – ходил часто голым до пояса и босяком. Как местный Санька-пастух.
Сейчас Борис выглядел изысканным денди с обложки журнала, словно никогда этот костюм и не снимал. Тамара в последний раз прошлась по нему щеткой и перекрестила на удачу.
Борис ехал в метро с легким ощущением того, что создал хорошую вещь, что в его кейсе помещается талантливое произведение, и ему везде должны быть рады. Правда, число мест, где должны быть рады произведению для народных инструментов, в последнее время резко сократилось, но все же Борис надежды и оптимизма не терял. Он заехал в канцелярскую контору, сделал несколько копий своего создания и развез нотные папки по известным прежней памяти адресам. Были встречи со старыми друзьями, воспоминания студенческих лет, сожаления о том, что так нелепо закатилась для Бориса Степановская звезда, рухнули щит и крыша Бориса Борисовича. Был краткий, ничего не означавший праздник в кафе и обещания как-нибудь помочь. Но говорившие сетовали на то, что сместились музыкальные ориентации, родились иные акценты, и вообще музыка стала другой, повесив на себя цветистую табличку: «Шоу». Однако друзья звали «не вешать нос». Что написал, то написал, и с этим бывшие сокурсники обещали что-нибудь сделать, хотя Степановская рука, узнай он, Степанов, чье это произведение, перекроет ему кислород везде, тем более такие места, где могло бы звучать произведение Бориса, можно нынче по пальцам пересчитать. Если даже кто-то и согласится на исполнение, то, оглядываясь все на того же пресловутого Степанова, взяв на себя достаточную смелость. Впрочем, есть, конечно, самостоятельные, независимые руководители оркестров. Дирижеры, которым плевать на авторитеты, на Степанова, на весь мировой потоп. «Так что, – уверяли старые друзья, – надежда умирает последней».
Однако, возвращаясь домой, Борис вез в себе тупую, ноющую тревогу. Солнечный его оптимизм после встречи с друзьями заметно померк, будто в ясный день нечаянно налетели тяжелые серые тучи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































