Текст книги "Ворожей (сборник)"
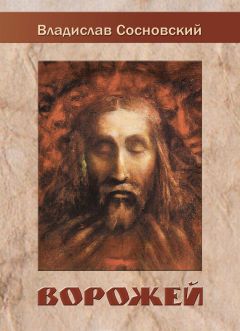
Автор книги: Владислав Сосновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Писатель смотрел на африканца словно из-под воды, а музыкант, пропуская сквозь слуховой аппарат нежный эфир, тоже не понимал, чего хочет от него Сергей.
Одним словом, слава Богу, поправлялись.
К выписке Иван от предложения Бориса поселиться у него галантно отказался, сознавшись, что разгоревшаяся страсть уводит его в Ольгино гнездышко, может быть, навсегда. Однако он очень будет рад общению и вскоре позвонит, как у него все сложится.
Африканец-Сергей выписывался первым, пожелав друзьям здоровья и всяческих удач на их, к сожалению, зыбком поприще. Сергей был практик и реалист.
Бориса отпускали вторым. Иван оставался с белоснежной своей сестрой милосердия, Ольгой, обнадеженно благостный и озаренный светом новой, как морское путешествие, жизни. Похоже было даже, сердечный недуг испарился из него навсегда.
Тамара пришла встречать мужа. Вместе они собрали больничные пожитки Бориса и дружненько, взявшись за руки, вышли на улицу.
Природа обмякла, будто баба после чая. Снег присел, потемнел. На шоссе мазутно сверкали лужи. Близкая весна уже наседала на зиму горячим боком. Пахло сыростью и мокрой корой деревьев.
Борис вдохнул серый мокрый воздух и жизнь, как, может быть, ни странно, показалась ему снова прекрасной. Он обрадовался и голосам людей, и трескотне воробьев, и даже надсадному, носившемуся словно по кипящей сковородке шуму машин. Так славно было после зевотной, промелькнувшей смерти вновь ощутить свое, пусть и призрачное бытие. Тем более – взамен долгого лежания на опостылевшей белой койке. Все тело как-то само рвалось к бодрости и обновлению.
Тамара тоже повеселела: опасность сгорела за плечами, и теперь она, Тамара, сама невольно ощущала приближение некоей новой светлой полосы.
Тамара все щебетала о чем-то теплом, домашнем – о том, например, что она пригласила слесарей, и те передвинули, переставили всю мебель иначе, что вроде бы нынче все сделалось и радостней, и веселей, и просторней. Что звонил в некотором роде знакомый Бориса и, конечно, спрашивал, не надумал ли он предложить свой «Сад» для эстрады.
– Прохвост, – выразился Борис, несмотря на прекраснодушное состояние.
– Я обед приготовила, – похвалилась Тамара. – Твоя любимая курица, запеченная с грибами. – Ей хотелось быть близкой и родной, как мать.
– Это замечательно, – одобрил Борис. – Больничная каша уже в печенках сидит.
Потекла прежняя размеренная жизнь-существование. Так неостановимо течет река или безразличные облака в небе.
Борис стал бегать по утрам к святому Крылатскому ручью для укрепления внутреннего механизма, нервов и общего состояния.
Джулька необыкновенно и трогательно обрадовалась возвращению хозяина и теперь была его постоянной спутницей. Она летела впереди, стелясь по земле, как желтая шаровая молния, и видно было: она снова трепетно счастлива.
Борис бегал для полной бодрости. Начал обливать себя святою влагой, тем более что по соседству расхаживали босиком по ручью голые, но грамотные в отношении здоровья люди. Они внушали Борису твердость воли и почитание. Он, надо заметить, почувствовал себя гораздо крепче и увереннее.
Днями Борис упорно возил свой неутомимо цветущий «Сад» по разным музыкальным редакциям, но дело столь же упорно не двигалось с места. Снова хвалили, иные заглядывались на Бориса, как на некое высшее существо, можно даже сказать, как на некого пришельца с иного мира, однако на этом все движение и кончалось. Словно кто-то незримый прочно встал на пути и постоянно показывал Борису во множестве скользких рук огромный кукиш. Будто этот кто-то, мерзкий, пучеглазый, навеки навел на него зловредную порчу.
И все же Борис не сдавался, верил, что его час, – крути, не крути, – все-таки наступит.
Тамара, устав от безделья и сидения в четырех стенах, набрала себе учеников, и теперь развлекалась с утра до вечера с бестолковыми оболтусами богатеньких родителей, которые, конечно, мнили своих отпрысков вундеркиндами. Но платили исправно и щедро.
Одним словом, надо признать, жизнь как-то скучненько топталась на одном месте; шаг вправо, шаг влево, а между ними – пустота.
Все, может быть, так и катилось по унылому кругу, если бы не события, которые потрясли Бориса с Тамарой с одной стороны своей справедливостью, а с другой – ужасным исходом.
Во-первых, сначала погиб в автокатастрофе прежний руководитель и дирижер оркестра, в котором некогда трудились наши музыканты, господин Степанов. Прямо-таки, отметим, жуткой удостоился участи.
Борис с Тамарой долго молча сидели на кухне, глядя друг на друга и испытывая сложные разнородные чувства. Среди них были и жалость, и сострадание, и боль утраты. Но в колючих лабиринтах этих чувств, что скрывать, упрямо билась мысль: есть Бог на свете! Есть отмщение, и от расплаты не уходит никто. Нет, в душах Бориса и Тамары не было мстительного налета. Ощущение наступившей справедливости нельзя сказать, чтобы тешило их самолюбие. Однако же и простертый перст Божий они, заметим, видели очень ясно.
Во-вторых же, – и это для Тамары с Борисом оказалось ударом более сильным, громом среди ясного неба, – был застрелен неизвестно кем и за что человек, которому наши музыканты отдали в аренду значительную часть своих сбережений.
Словом, вышло так, будто Господь проснулся и расставил все по своим местам. Дирижеру Степанову сказал: «Не суди»! А музыкантам: «Не ищите легкой дороги».
Борис снова почуял тупую занозу в сердце, а Тамара просто-таки слегла. Деньги канули бесследно. Где их теперь искать? Право слово, наказание за сибаритство было налицо. За сибаритство, расхлябанность и откровенную лень.
Борис это понял и рассуждал примерно правильно. «Да, ты работал, – доносил себе музыкант. – Сотворил «Сад». Но если Господь дал тебе способность выращивать деревья – нужно трудиться до седьмого пота без устали и остановки. А ты что? Взрастил «Сад» и решил, что все уже совершил. Пора отдыхать. Нет. Так не бывает. Посеянные в тебе возможности нужно хранить, возделывать, а затем раздавать с них плоды. Только труд, постоянный, упорный труд принесет и успех, и славу, и почитание. Хотя, если разобраться, и они по большому счету не нужны. Одна лишь работа оставляет радость, черт побери. Сам процесс. Покой и воля. А больше ничего нет. Все остальное – тлен. Думал ли Моцарт, Чайковский, Бах о какой-то великой славе, всемирном признании? Они трудились неустанно и открывали людям Бога с Его вселенной звуков. И потому остались и живут плоды их. Вот в чем, собственно говоря, истина. А деньги… да бес с ними, если рассудить, с деньгами. Не вешаться же из-за них. Заработаем как-нибудь. Как люди, так и мы».
– Право не знаю, Лапа, как теперь мы будем жить, – молвила Тамара, присаживаясь к столу. – Конечно, мне неплохо платят за учеников, но этого, как ты понимаешь, по нашим запросам явно недостаточно.
– Проживем, Лапуля, – твердо ответил Борис. – Я послал свой «Сад» в Канаду, Францию, Германию. Авось что-то образуется.
– Может, ты действительно поработаешь для эстрады, – не выдержала Тамара. Эта мысль давно не давала ей покоя. – Отчего же, Лапа. Почему бы и нет. Многие трудятся в эстраде и довольно успешно. Канада с Германией сами собой, а тут…
Борис посмотрел на жену многозначительно долго. Почти как на предателя. Посмотрел и вытащил сигарету. Ему вдруг стало все безразлично. Собственное здоровье, выращенный в российской глубинке «Сад», вся музыка, взятая вместе, стылая, ничем не радующая жизнь.
– Великий писатель Андрей Платонов, – произнес Борис задумчиво, – работал дворником после того, как Сталин запретил его печатать. И писал. К тому же завещал своей жене, Марии Александровне, никогда, ни при каких обстоятельствах не отдавать ни одной страницы на Запад. Вот и я лучше пойду таскать ящики, – добавил он ледяным голосом, – но продаваться не стану. Не буду, Лапуля! – закричал он вдруг так, что Тамара вздрогнула и тихо заплакала.
Ей было жалко, что так обреченно неудачлив, пусть и не по своей вине, муж, жалко себя, неопределенную будущность и даже Джульку, встрепенувшуюся от крика Бориса.
– Извини, Лапуля, – хрипло выдавил из себя Борис. Ему, конечно, меньше всего хотелось, чтобы эта нежданная распря между ними переросла в серьезную ссору, каких, по сути, никогда прежде не случалось.
На следующий день, когда Тамара отбыла к своим преуспевающим ученикам, Борис сгреб запылившийся баян и отправился с тяжелым сердцем в переход метро. Прямо скажем, не лежала у него душа к этому нищенскому занятию. Ох, как не лежала. Однако, пересилив себя, пересилив что-то, наступавшее ему прямо на горло, он прибыл на место, извлек инструмент, оставив футляр открытым для подношений, и начал играть. Пальцы его заметно дрожали от отвращения к такой работе, словно он оказался в клетке и вынужден был из-за решетки развлекать зрителей. Но дело было сделано. Борис уже попал в капкан. Что мешало ему так же, как Тамара, набрать учеников? Или поступить в какой-нибудь клуб массовиком-затейником? Однако такие занятия Борис считал более чем унизительными. Одним словом, он начал играть, стараясь не глядеть на прохожих. Так, примерно, если вы замечали, ведет себя свободный волк, попавший за железные прутья. Борис решил, что он будет исполнять только свой «Сад» и ничего больше. Никаких «Подмосковных вечеров», «Цыганочек» или «Черных очей».
В переходе было прохладно, руки стыли, пахло мочой. Но Борис все больше входил в роль, обретая какое-то нездоровое, мстительное чувство и вдохновение. Люди текли мимо плотной массой, как некая тяжелая вода, и в эту тяжелую воду Борис сбрасывал спелые плоды своего «Сада». Впрочем, как сразу отметил музыкант, большинству прохожих, стремящихся мимо, эти сочные плоды были, что собаке рога. Лишь некоторые, немногие, скорее из христианского сочувствия опускали в футляр баяна скудные воздаяния. А может быть, они понимали, эти редкие прохожие, что перед ними профессионал, заброшенный по воле рока в холодный, вонючий тоннель.
Чем больше играл Борис, тем тяжелее становилось у него на сердце. Он чувствовал, что играет механически, безо всякого, откровенно говоря, душевного взлета. Тем не менее, ему виделась в момент игры вся, озаренная солнцем, сторона Тульской губернии, горделивая изба вечной старушки, бабы Наташи, лес, озеро, цветочные поляны, Тамара, порхавшая в них, словно сатурния, и весь благоуханный в цветении вишневый сад.
Произведение свое Борис исполнял долго, но, доиграв до конца одну из тем, понял: на большее его не хватит. С чувством горечи и досады на себя, на всю тупую, унылую жизнь, на безразличную публику, Борис выбрал из футляра нищенскую мелочь, сложил инструмент и отправился прямым ходом в магазин.
Заработанных денег хватало как раз на бутылку водки. Борис приобрел товар и вернулся домой. Ему по дороге, что говорить, стало совершенно ясно: ни в какой переход, ни в какие массовики-затейники он больше не пойдет.
Дома Борис, еще не раздеваясь, налил полстакана спиртного и залпом ахнул все до конца. Затем только снял пальто и присел к столу. Перед ним вдруг снова возникли картины былых триумфов, блестящих выступлений, гастролей, оваций, восторженная публика и сегодняшняя жалкая игра в заплеванном, пахнущем застарелой мочой переходе. Возникла вся нелепая картина блистательных взлетов и низкого, горького падения.
«Ах, Виктор Александрович, – вспомнил Борис погибшего руководителя оркестра Степанова. – Что же ты натворил? И себе заработал жуткую участь, и нас с Тамарой опустил в глубокую яму. Ладно бы кто-то откликнулся на мой «Сад», но и он, похоже, никому не нужен. Что за люди! Хвалят, восхищаются и все. Пустота. Практически никакой надежды. Действительно, лучше пойти таскать ящики или подметать двор, чем так унижаться. Впрочем, что я еще могу? Никакой другой специальности. Стало быть, остаются ящики. Значит, такая судьба. Легче ли было Андрею Платонову? Унизительная тяжелая жизнь. Может, и впрямь отдать «Сад» на растерзание эстрадникам? Нет, – отверг Борис крамольную мысль. – Этому не бывать! Лучше уж ящики», – окончательно решил он и плеснул себе еще водки.
Джулька, лежавшая рядом, смотрела на Бориса из-под нависших рыжих бровей понимающе преданными, печальными глазами. Борис потрепал верную дворнягу за ушами.
– Пойдем гулять, хорошая моя, – пригласил он. – Бог с ним со всем.
При заветном слове «гулять» Джулька встрепенулась, замотала хвостом и нетерпеливо забегала по комнате.
Борис надел старую прогулочную куртку, сложил в пакет початую бутылку, пару бутербродов, кусок колбасы для Джульетты и вышел на улицу. Возле элитного магазина «Континент» торчали разнокалиберные, шикарные авто. Одинокий нищий, выворачивая ногу, бродил между ними, прося милостыню. Сырой, промозглый ветерок порхал над серым, прибитым снегом асфальтом.
Борис с тоской посмотрел на дорогие автомобили, понимая, что никогда ему уже не сидеть за рулем подобной машины, никогда не побывать снова ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Токио. Даже, откровенно говоря, закрадывались сомнения: а было ли оно, это ослепительное прошлое? Лучше бы оно пронеслось мимо. Борис плюнул с досады и пошел прочь, в долину отчуждения и старины, к древнему, полезному ручью. Джулька бежала впереди, находя под каждым кустом свой интерес, но постоянно в тревоге оглядывалась – движется ли за нею хозяин, не отлучился ли куда без ее ведома. Так они добрались до тихо журчащего успокоительного родника. Борис присел на пустынную лавочку, положил рядом провиант и наконец-то облегченно вздохнул.
«Все тлен, – подумал он. – Может быть, когда-то на этом самом месте сидел сиднем в думах о государственных нуждах сам Иван Васильевич Грозный. И тоже, надо полагать, нелегко ему было, царю».
Борис достал стаканчик и налил себе глоток для успокоения нервов. Он еще никак не мог очнуться от позора сегодняшнего выступления в переходе метро. Хуже еще не играл никогда. Дернул же черт отправиться на эти постыдные заработки. Борис припомнил главы своей музыкальной повести, припомнил, как он их, с позволения сказать, исполнял, и ему снова стало тошно. Однако все было уже позади, а впереди, по правде говоря, не сверкало даже малой надеждой ничего, и Борис упрямо решил, что завтра же пойдет в «родной» магазин и наймется вопреки всему грузчиком, тем более что таковые, судя по висевшему на дверях объявлению, срочно требовались в настоящий момент.
Впрочем, надежда, конечно, жила, летала по миру трепетной бабочкой. Борис отослал свой «Сад» друзьям за границу и теперь терпеливо ждал ответа, но когда он приплывет, этот ответ, и какого он будет свойства – тоже было неведомо. Но в любом случае, это было дело какого-то будущего, а жить нужно сегодня, сейчас. Жить и питаться, а не сидеть у Тамары на шее.
Борис впал в некую пространную меланхолию. Джулька, набегавшись и совершив все свои необходимые собачьи дела, воротилась к хозяину и верным образом уселась рядышком. Борис похвалил ее за примерное поведение и покормил припасенной колбасой.
Неподалеку с бидонами и бутылками стояли в очереди за святою водой ручья несколько элитных Крылатских старушек в дубленках и ярких цветных шарфах. И вдруг прямо над старушками, прямо, представьте себе, над древним родником Борис увидел весь свой оркестр в полном, можно сказать, составе. Увидел и себя, и Тамару, – еще совсем молодую, свежую, – и многих узнал бывших друзей. Все они, трудно поверить, сидели над ручьем красивые, нарядные, с поднятыми наизготовку инструментами. Борис, пораженный, затаил дыхание. И тут из-за ближнего дерева, из-за его, вернее, верхушки вышел сам дирижер Степанов. С минуту он постоял над музыкантами, повернувшись к Борису спиной, наконец, взмахнул палочкой и во все Крылатские окрестности, во всю ширь многовековой святой долины поплыли, понеслись звуки, не можете себе вообразить – уже известного нам «Сада».
У Бориса внезапно пересохло в горле, но он боялся пошевелиться: впервые слышал собственное произведение во всей широте и звуковом объеме. Что-то горячее обожгло Борису грудь, и он почуял, что плачет. Но не хмельные слезы текли по его щекам. То были слезы радости и счастья, подобные слезам рожениц, впервые взявших на руки своих младенцев.
Оркестр играл глубоко, полно и вдохновенно, а Борис сидел и рыдал, как ребенок, словно открыл для себя и постиг какую-то великую тайну мира.
Джулька с опаской поглядывала на хозяина и не могла сообразить, в чем тут, собственно, дело.
Тяжелые, но явные и ласковые волны музыки текли откуда-то сверху, сливаясь со всем существом Бориса, мерно отдавались в каждом ударе его встрепенувшейся крови. Они, эти волны, снова несли в себе из недалекого прошлого и негромкий говор лесного ручья, и трель жаворонка, и заревой всплеск рыбы. И тихие предгрозовые вздохи земли, смех молодой женщины, веселый скрип телеги, дождевой шум крыш и грустную вечернюю песню в конце деревни.
Звуки обрушились на музыканта, как ливень, проникая во все его клетки, то чуть слышные, то громкие, то оглушающие, то неясные и трепетные. Они, собственно говоря, и создавали ту чудесную гармонию, которую Борису подарило небо. Эти звуки рвались из рокотавшей бездны и рассыпались по всей святой долине, словно искры. Тягучая, тугая мысль осознания чего-то высшего колыхалась в душе Бориса, будто ясная, слитая с его музыкой мелодия. Каждый изгиб ощущений, каждый малый оттенок былой радости, скорби, любви, печали дрожали и горячо толкались в его бушующей крови, вызывая восторг и упоение.
– Вы только пообещайте, что подарите мне кассету с выступлениями вашего оркестра или, может быть, вашу личную запись. Я, знаете ли, когда-то тоже училась музыке и для меня это был бы прекрасный подарок, – сказала ему на следующий день директриса магазина, куда Борис пришел устраиваться грузчиком.
Скажем сразу, вспоминая Николая Васильевича Гоголя, с виду это была «дама, прекрасная во всех отношениях». Она давно симпатизировала Борису, знала со слов велеречивой Тамары всю их историю и, что скрывать, имела в отношении Бориса Борисовича тайные, но, увы, бесплодные мечты.
– Обязательно, Анна Ивановна! – горячо откликнулся Борис, вспыхнул и весь засиял от очередного заочного признания. – И кассету, и личную запись. Я, пожалуй, запишу вам отрывки из собственной симфонии.
– Это было бы замечательно, – уже совсем пришла в себя Анна Ивановна. – Знаете, признаться, не понимаю, как можно сочинять музыку. Это какое-то высшее таинство. Мне, во всяком случае, оно не доступно. Как вы это делаете?
– Я, собственно говоря, ничего особенного и не делаю, – ответил, польщенный, Борис. – Просто записываю на ноты то, что диктуется мне откуда-то сверху. Ей-богу, сам не знаю – откуда.
– Да-а… – задумчиво произнесла Анна Ивановна. Свет от окна падал на ее серебристо-льняные волосы, оттеняя здоровый, абрикосовый цвет щек. – Но ведь вы, вероятно, учились сочинять? Значит, вас учили общаться с Богом?
– Нет, – определенно сказал Борис. – Нас учили музыке. Игре на инструментах. Преподавали историю классики. Нашей и зарубежной. Требовали знание произведений. Но слышать Бога – это уже было за рамками консерватории. И это давалось немногим. Не хочу хвалиться, но я слышал Его голос и записал то, что Он мне поведал на языке звуков. Удивительно, – распалялся Борис, – каждому, кто Его слышит, Господь посылает свои соцветия. Потому-то все композиторы разные. Многие из студентов стали замечательными музыкантами, однако остались глухи к голосу неба. Великие слышали Бога во всей Его полноте. Вы меня понимаете?
– Кажется, да, – сказала Анна Ивановна, и глаза ее нежно заблестели. – У меня такое ощущение, – добавила она, – будто мы с вами знакомы уже давно. Просто не виделись и вот встретились снова.
– Может, это так и есть, – произнес Борис и впервые взглянул на Анну как на женщину. Взглянул и смутился, потому что после встречи с Тамарой у него никогда никого не было. До нее – да. Случались и любовные романы, и короткие, ни к чему не обязывающие встречи. Однако после Тамары – никого. И вдруг в глазах Анны Ивановны Борис прочел и страсть, и скрытую необузданность, и нежность, и, одним словом, пыл любви.
Борис интеллигентно покашлял в кулак и как-то очень обыденно спросил:
– В котором часу завтра на вахту?
Анна Ивановна помолчала, изучающее глядя на него, и вздохнула:
– К восьми. Как обычно.
Борис прекрасно знал, что – к восьми. Не однажды с нетерпением ждал этих заветных восьми часов.
– Рабочая одежда у нас есть, – скомкано произнесла Анна Ивановна. – Пожалуйста, не опаздывайте. В восемь, к слову, уже могут быть машины с продовольствием.
Борис не столько вышел сам, сколько вынес внутри себя взгляд и внимание директрисы. Какое-то неясное предчувствие зашевелилось в нем пульсирующим молодым теплом. Понятно, никаких преступных планов он не строил и надежд в отношении Анны Ивановны не питал. И все же, какой-то ласковый зов поселился в его душе.
Тамару Борис неожиданно застал дома. Она была в гипсе, на костылях.
– Вот, Лапа, видишь, шла на работу, поскользнулась и сломала ногу, – весело объяснила она свое положение. – Теперь ты у нас – единственный кормилец. Работу я, конечно, потеряла. А «Сад» твой цветет где-то на другой планете, – добавила Тамара и саркастически засмеялась.
Последнее сообщение, понятно, больно ударило Бориса.
– Ты мне ничего не скажешь? – слезливым голосом спросила пострадавшая жена.
– Что тут говорить… – холодно ответил Борис.
– Как – что? – удивилась Тамара. – Что ты меня любишь. Жалеешь. Ну и все такое.
– Конечно, люблю. Конечно, жалею. Но «Сад» мой растет на этой планете. Более того, он когда-нибудь действительно расцветет и в России. Пусть даже после моей смерти.
Утром Борис переоделся в рабочий комбинезон, превратясь из музыканта в грузчика, кормильца семьи. Зарплата у него оказалась не слишком большой, но скромно прожить на нее было можно.
Напарником у Бориса оказался некий долговязый человек по имени Серега и прозвищу Золотой, так как имел во рту целых три бронзовых зуба, похожих на золотые. Золотому Сереге не так давно перевалило за сорок. Был он худым, но жилистым, носил копну нечесаных волос, пышные соломенные усы и бугристые, словно запеченные в глине руки с навечно черными ногтями. Лексикон Серега имел не хуже Эллочки-людоедки, но свой, собственный. Жил одиноко и потому большую часть времени посвящал любимой работе. Борису он сразу представился как Серега и протянул в знак будущей крепкой дружбы копченую лапу.
– Слава богу, едреныть, ты подоспел вовремя, блин. А то я тут это… уже заё… один-то. Вдвоем, типа того, веселее, едреныть. Присматривайся поначалу, ё-мое. Делай как я, едрёныть, и все будет это… типа нормально. Понимаешь меня?
Тут подошла первая машина с молоком и Борис, вздохнув, включился в трудовой процесс.
Золотой Серега оказался профессионалом: бросал ящики, словно семечки щелкал. С продавщицами шутил плоско и грубо, заливаясь при этом раскатистым хриплым хохотом и обнажая все три бронзовых зуба. Эта жизнь нравилась Сереге, и другой ему не надо было. Все знали, что Золотой простодушен, честен и никогда от него ничего не прятали. Потому за честность Серега всегда получал наградной стакан, а к вечеру – и бутылку. Золотой никогда не отказывался ни от какой работы, и порою ночевал прямо в магазине, расположившись на старых фуфайках. Но наутро был весел и всегда готов к труду.
Бориса, само собой, Серега поначалу берег, стараясь, как опытный, взять на себя основную нагрузку. Но очень обиделся, когда Борис попытался отказаться от винной трапезы. Этого Серега понять не мог.
Так или иначе, с первого же дня они были связаны во всем. Теперь Борис частенько, а вернее, чуть ли не каждый день являлся домой, мягко говоря, с гостинцами, которыми, словно невзначай щедро снабжала его прекрасная и сердобольная Анна Ивановна. Впрочем, доброй и щедрой она была, пожалуй, только с Борисом. С персоналом директриса обходилась довольно строго и бесцеремонно. Но к музыканту она явно благоволила, что, между прочим, мгновенно отметила торговая общественность магазина. Рыжая Люська прямо заявила, что у начальницы с Борисом роман, и она самолично наблюдала их в объятиях друг друга непосредственно в директорском кабинете. Конечно, на эту рыжую Люську немедленно донесли, и в сей же день она искала новую работу. Анна Ивановна, понятно, стала осторожнее, но все равно тайный огонь горел в ее пышной груди, и она не в силах была совладать с ним. Дело дошло до того, что музыкант, призванный однажды в кабинет для приватной беседы, после обсуждения производственных процессов был приглашен к Анне Ивановне на именины.
После трудового дня Борис, как положено, вымылся в душе, чтобы не пахнуть селедкой с колбасой, надушился французским одеколоном, надел белую рубашку, английский костюм и на недоуменный вопрос уже хронически больной жены: «Лапа, ты куда»? ответил, что идет на рабочее собрание, а там, понятно, нужно выглядеть прилично. К тому же у Тамары неожиданно обнаружились признаки диабета. А с этим шутки были уже совсем плохи. С тем Борис оставил растрепанную жену одну, с неотъемлемой уже бутылкой, и отправился в гости.
Стоит ли говорить, какой у Анны Ивановны был накрыт стол, как изысканно выглядела она сама, в какую красоту и уют окунулся сам Борис после грязной посуды и деревянных блинов.
– Я не хотела никого приглашать, – призналась Анна Ивановна. – Отпразднуем вдвоем. Если, конечно, не возражаете.
Борис не возражал. Чего возражать, раз уж явился, да еще, тем более, с пышным букетом роз.
И покатился тихий и теплый ласковый вечер с милыми, наивными глупостями, легким кокетством и хрустальным звоном тонких фужеров. Самое удивительное, Борис не чувствовал угрызений совести. Поначалу – да. Пока он ехал в метро, затем шел мимо задумчивых деревьев и кустов, готовых скоро принять близкую весну, какая-то черная пиявочка сосала его изнутри, жгла противным сознанием вины перед Тамарой. Но стоило увидеть блистательную Анну Ивановну, не директрису, а просто роскошную женщину, в глазах которой нескрываемо горела любовь, как червоточина затянулась, а боль совести, прямо скажем, превратилась в обыкновенный пар. Да и вся привычная обстановка европейского былого комфорта, сдобренная лирикой Шопена, – Анна Ивановна знала, что подобрать к приходу Бориса, – унесла музыканта в то далекое прошлое, где он привык чувствовать себя свободным, независимым, способным совершать чудеса.
Разгоряченный, Борис снова много говорил о Моцарте, Бахе, Чайковском, о незаслуженно забытом Чюрленисе, о собственном ощущении этих и других композиторов. К приятному удивлению Бориса Анна, – они уже перешли на «ты», – принимала живое участие в разговоре, проявив немалые познания. Когда же выяснилось, что она в свою бытность окончила музыкальное училище, Борис и вовсе растаял. Огорчало лишь, что Анна пошла по торговой части. Ну что же… Борис тоже не был известным композитором, а сейчас, тем более, значился обыкновенным грузчиком, то есть трудился на почве погрузки-разгрузки товаров народного потребления.
– Вот что, Боря, – сказала Анна уже после первого танца и нечаянного и легкого, как пыльца бабочки, поцелуя. – Бросай ты эту черную работу и пиши следующую симфонию. Та кассета, которую ты мне подарил, потрясла меня, и я, поверь мне, плакала, слушая ее. Я, пойми меня правильно, хочу, чтобы ты был настоящим музыкантом. Мне тяжело смотреть, как ты катишься вниз, не думая ни о себе, ни о голосе Бога, посылающего тебе святые звуки как великий дар. Многие мечтали бы слышать, но не слышат. А ты слышишь. Тебе дано. Но ты, прости, плюешь на это и шагаешь в какие-то грязные грузчики, в друзья к Золотому Сереге. Ты уверен, что поступаешь правильно?
Борис отложил вилку и помрачнел.
– Не забывай, Аннушка, что мы в России, – сказал он глухим голосом. – Можем подковать блоху и умереть в нищете и безвестности. Можем создавать шедевры, а в ходу будет китч. Напишем «Очерки бурсы» и загнемся от пьянства под забором. Кроме того, мне нужно на что-то существовать. Подвязаться шутом-скоморохом я не могу. Лучше – мешки-ящики.
– Нет! – резко возразила Анна. – Я не дам тебе погибнуть. Потому что…
Возникла пауза, в которой Борис примерно знал, что последует за этим: «потому что»… И все-таки спросил:
– Потому что – что?
– Потому что я люблю тебя, Боря. Вот почему. Что касается денег – у меня есть вклад в банке на довольно крупную сумму. Я буду отдавать тебе проценты. Не спорь. Это, по крайней мере, больше твоей зарплаты раза в три. Мне проценты не нужны. У меня все есть. А чтобы ты не думал, мол, я тебя покупаю, договоримся так – отдашь, когда сможешь. И учти, мне от тебя ничего не надобно. Ты абсолютно свободен. Но мой дом для тебя всегда открыт. Захочешь прийти – буду просто счастлива. Так что ступай в мир, Борис Борисович. Слушай Бога и записывай Его голос так, как ты слышишь. А я… я тебя увольняю. С завтрашнего дня. По собственному, как полагается, желанию. Я не могу видеть у себя человека, не соответствующего занимаемой должности. Ну а деньги – дым. Счастья они не приносят. Будут – отдашь. Зазвучит твой «Сад» с большой сцены, тогда и отдашь.
– А если не зазвучит?
– Нужно верить, Боря. Верить и добиваться. И дано тебе будет, говоря библейским языком.
Борис встал и благодарно обнял Анну, обнял нежно и ласково, как обнимают мать после долгой разлуки.
И снежным комом покатилась ночь. Бурная, жаркая, полная стонов счастья и горячих признаний. Борис сам не ожидал от себя такого пыла, будто впервые познал женщину.
Домой он вернулся под утро, не ведая, как и что говорить Тамаре, поскольку никогда не врал ей и врать не умел вообще. Но она спала во всей наружной одежде, расположившись поперек дивана. Рядом валялись костыли. Нелепо вывернуто торчала нога в гипсе. Фужер на столе был пуст.
Борис все понял. Совесть остро обожгла его, заскреблась где-то под сердцем. Он разделся и лег спать. Проснулся оттого, что услышал знакомый до боли запах жареных блинов. Стал медленно одеваться и решил: «Если что – скажу ей всю правду». Внутри себя Борис чувствовал, что с некоторых пор за ним тянется какой-то тяжелый шлейф и то опрокидывает навзничь, дает подняться – и снова валит на спину. Какой-то фантом прицепился к его судьбе, что репейник… но как оторвать его, честно говоря, Борис не знал.
Теперь вот связь с Анной – от себя не скроешь – что-то перевернула в его душе. Но зачем она нужна, эта связь? Что даст она ему в дальнейшем, кроме боли и новых утрат. Он полюбил Анну. Ее страсть, вера, самоотверженность, бескорыстие теплым бальзамом легли на сердце. Но что с этим со всем делать – тоже неизвестно. Ясным казалось одно: Господь снова дал возможность работать, заниматься любимым делом, для которого, может быть, он и рожден на этот свет. Все остальное – муки совести. Раскаяние, честолюбие, слава – петушиный бой, пустота, прах на ветру. Творцу не должно думать об этом. В поле зрения – лишь резец, молоток и материал, из которого высекается произведение. Больше ничего. А все, что дает жизнь, нужно принимать просто, с благодарностью. Хотя, если рассудить, любовь Анны – благо или грех? «Не возжелай»! А может быть, не возжелать – это духовная и физическая кастрация, от которой нет никому пользы. Зачем-то ведь послал Господь Анну!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































